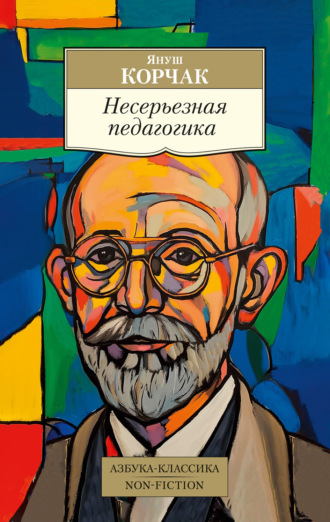
Януш Корчак
Несерьезная педагогика
Трудность чтения для ребенка – не только в составлении слов из букв, но и в незнакомых словах и грамматических сюрпризах.
Вот он читает:
– Сол… сол-н… солн… сол-н-це… – Пауза: соображает, что это значит, и быстро, бегло читает: – Сонце.
То же и в стишке:
– Э-тим поль-ским се-ре-на… (с недоверием) се-ре-на-дам… серенадам… (себе под нос, вполголоса) что за серенады… – И вслух заканчивает: – Этим польским серенадам жаворонки нас учили.
Мы, акробаты беглого чтения, умеющие по двум буквам угадать слово, а по двум словам – предложение, уже не отдаем себе отчета, какие трудности преодолевает ребенок и какими способами пытается облегчить себе этот труд.
Как-то Стефан четыре раза прочел в тексте «Франек» вместо «Фелек». Я не стал поправлять. Когда он закончил читать, я спросил:
– Как мальчика звали?
– Франек.
– Ничего подобного.
– Ну Франек же.
– Спорим, что не Франек.
Читает:
– Фра… Фре… Фе… Фелек.
– Видишь, хорошо, что не поспорил.
– Ну ладно.
– Наверное, ты знаешь какого-то Франека?
– Знаю.
– А Фелека?
– Нет.
То же самое – на арифметике. Вместо «огурцы» он дважды прочел «груши».
– Пять груш, – сообщает он мне ответ.
– Вовсе нет.
Умолкает, после минутной паузы – решительно, почти гневно:
– Именно что пять!
– Пять, да не груш.
– А чего?
– Посмотри – узнаешь.
– Гру… огру… огу… огурцов.
– Вот видишь. Слушай, Стефан, может, ты волшебник? Фелеков во Франеков превращаешь, огурцы – в груши…
Его удивление, изумление: что это, как такое вышло? – так умиляет, что я его целую.
(Абсолютно лишнее – когда же наконец я от этого отучусь?)
Непонятные выражения его злят.
Читает:
– У торговки девять яблок. Сколько яблок у нее останется, если четверо мальчиков возьмут по два яблока каждый?
Под нос, вполголоса:
– Что еще за каждый… – И вслух: – Одно яблоко.
– Две монеты… Монеты – это я уже знаю, что такое, позабыл только.
Эта, казалось бы, нелогичная фраза содержит, однако, разумную основу: если он не знает, потому что забыл, то сможет вспомнить.
На двадцатой примерно задаче предлагает:
– Я буду читать про себя и писать вам, сколько выходит в ответе.
– Хорошо, а я буду кивать, если правильно.
Не он первый мне такое предлагает. Не знаю, в том ли дело, что ребенок хочет таким образом разнообразить работу, или есть у этого желания более глубокая подоплека – потребность сосредоточиться в тишине.
Вечер
Прочитал молитву, поцеловал мне руку (эхо родного дома, разоренного войной гнезда – одного из ста, тысячи, многих тысяч).
Пишу. Лежит тихо, глаза открыты.
– Пан доктор, а правда, что если побрить голову, то волосы больше не растут?
Боится обидеть меня, прямо спросив про лысину.
– Неправда, ведь бороду бреют, а она растет.
– У некоторых солдат бороды вот такие, до пояса, как у евреев. Почему?
– Обычай такой. А англичане даже усы бреют.
– А правда, что у немцев много евреев?
– И у немцев есть, и русские евреи есть, и евреи-поляки.
– Как это – евреи-поляки? Это что же, поляки, значит, евреи?
– Нет, поляки – католики. Но если кто говорит по-польски, хочет, чтобы полякам было хорошо, желает им добра – тот тоже поляк.
– Моя мама была русинка, а папа – поляк. А мальчики по отцу считаются… А вы знаете, где Подгайцы? Мой отец оттуда.
– Сколько лет твоему отцу?
– Сорок два было, а теперь сорок пять.
– Тогда тебя отец может и не узнать – ты сильно вырос.
– Я сам-то его узнал бы.
– А фотографии у тебя нет?
– Откуда! Но есть солдаты, на него похожие.
Тихо. Вечер – время необычайной важности для ребенка. Чаще всего – воспоминания, часто тихие раздумья и спокойные беседы шепотом. То же – в Доме сирот, то же – в летнем лагере.
– Вы пишете книгу?
– Да.
– Это вы сами написали мой букварь?
– Нет.
– Так вы его купили?
– Да.
– Наверное, полтину отдали.
– Нет, всего двадцать пять копеек.
Опять тишина. Закуриваю.
– А правда, что серой можно отравиться?
– Можно. А что?
Не понимаю, куда он клонит.
– Потому что были спички, и когда солдаты шли на маневры…
Это отголосок услышанного много лет назад, почти изгладившегося из памяти рассказа отца о разновидностях спичек… Когда отец был еще холост и служил в армии, в суп попала сера – солдаты отравились.
Дальше непонятно: Стефан говорит сонным голосом, все менее разборчиво, и засыпает.
Как горячо я желал в детстве увидеть своего ангела-хранителя! Делал вид, что сплю, а потом внезапно открывал глаза. Неудивительно, что он прятался. Совсем как в Саксонском саду[6]: вроде никто не охраняет, а выбежишь за мячом на газон – тут же появляется сторож, пальцем грозит. Мне было неприятно это созвучие: «ангел-хранитель» и «охрана».
Пятый день
Дудук хвалит Стефана: трудолюбив. Я зашел в мастерскую – пилит. Сил моих нет на это смотреть: доска ездит туда-сюда, пила тупая, прыгает, того и гляди руку поранит. Но я молчу. Какой смысл советовать быть поосторожнее? И так ведь непрестанно: «Не выходи босиком во двор», «Не пей сырой воды», «Тебе не холодно?», «Живот не болит?». Вот это-то и делает наших детей эгоистами, развращает их и оглупляет.
Из мастерской Стефан вернулся в шесть.
Не хочет ехать в воскресенье в Тернополь.
– Зачем? Неделя прошла – и снова ехать? А пан Валентий тоже с нами поедет? Мы там долго будем?
Не хочет писать брату письмо.
– Я же его увижу.
– А вдруг дома не застанешь?
– Ну ладно, давайте.
– С чего начнешь письмо?
– Слава Иисусу.
– А дальше?
– Почем я знаю?
– Напишешь, что хворал?
– Нет!
Я еле удержался от ехидного вопроса: «Ну а про пирожки с повидлом и зельц?»
Письмо короткое: я работаю в столярной мастерской, работа мне нравится, пан доктор учит меня читать и считать, можешь за меня не беспокоиться.
– Как подпишешь?
– Стефан Загродник.
– А может, напишешь: «Обнимаю тебя»?
– Не-е, не надо.
– Почему?
Шепотом:
– Я стесняюсь.
Предлагаю ему:
– Сам перепишешь начисто или сначала я, а потом уже ты – с моего листка?
Даю бумагу и конверт. Два раза начинал – не вышло. Столько бумаги перепортил. Ладно, завтра перепишет с моего листка.
Полтора часа без перерыва решали задачки по арифметике.
– Хватит, может?
– Нет, до конца страницы.
Кто знает, не является ли задачник лучшим пособием для упражнений в чтении? Задачки, загадки, шарады, шуточные вопросы: ребенок не только должен – он хочет понять. А впрочем, не знаю, – может, и нежелательно такое раздвоение внимания. Во всяком случае, на сегодняшнем уроке задачки вытеснили и заменили чтение.
– Вы сколько папирос курите – небось штук пятьдесят?
– Нет, двадцать.
– Курить вредно; один мальчик подул на бумагу, и бумага стала вся желтая. Когда в папиросе вата, она дым задерживает.
– А ты уже когда-нибудь курил?
– Почему бы и нет?
– В приюте?
– Нет, когда с братом жил.
– А где брал?
– Ну если на столе лежали или на шкафу… А у вас голова кружится?
– Пожалуй, немного кружится.
– И у меня кружилась… Я не хочу привыкать курить.
Пауза.
– Правда, что, когда будет тепло, поедем на лошадях?
Для него это важно – он помнит обещание.
– Лучше, чтобы нам не пришлось ехать, лучше остаться на месте.
– Нет, я думал – в Тернополь.
– Лошади боятся автомобилей.
– Ну и что, коли понесет немного…
– А если на дыбы встанет?
Я рассказываю, как под Ломжей лошадь едва не свалилась в глубокий овраг.
Стефан ложится спать. Я завожу часы.
– А правда, что есть часы, которые заводятся туда-сюда?
Показываю, что мои часы тоже заводятся «туда-сюда».
Принимаюсь писать – надо привести в порядок свои заметки.
– Пан доктор, я взял новое перо – то бумагу царапало.
– Быстро испортилось, потому что ты чиркал им по столу, кончик затупился о дерево.
Только сейчас, мимоходом, я указал ему на оплошность. Не раз убеждался, что такие замечания куда эффективнее.
Тишина…
– А почему вы столько листков порвали?
Объясняю, что такое записи на скорую руку, как их потом обрабатываю.
– Например, я записал о больном: кашель, температура. А потом, когда появится время, опишу все подробно.
– Моя мама кашляла, плевала кровью; был цирюльник, сказал – ничего не поделаешь. А потом мама ходила в больницу, пока не умерла.
(Вздох, потом зевок. Вздох – это подражание: принято вздыхать, вспоминая об умерших.)
Шестой день
Наскоро выпив чаю, он побежал в мастерскую. В обед мелькнул на мгновение – вернулся в шесть.
Я начал очень интересный эксперимент: смотрю по часам, сколько секунд он читает рассказ, отмечаю, сколько сделал ошибок; исправляю не во время чтения, а после. Стефан читает дважды: первый раз – четыре минуты тридцать пять секунд и восемь ошибок, второй раз – три минуты пятьдесят секунд и всего шесть ошибок.
Ссора из-за лошади. Мы играем в шашки. В приюте были мальчики, которые хорошо играли, но с ним не хотели: «Кто ж со мной будет, коли я не умею?» Однако Стефан набрался от них манер завзятого игрока: перед тем как сделать ход, перебирает в воздухе пальцами, потом, словно ястреб, кидается на шашку противника, причмокивает, небрежно толкает ее ногтем, пренебрежительно выпячивает губы, корчит презрительные мины. Такие ужимки и у хорошего игрока неприятны, что уж говорить о плохом (иной раз, чтобы подбодрить Стефана, я сам предлагаю ничью).
Играем. И вдруг:
– Пожалуйста, поезжайте завтра поездом, а мы с Валентием – верхом.
– Глупенький, ты что же думаешь, лошади у нас для того, чтобы кататься? А впрочем, можешь попросить полковника.
– А он даст?
– Фигу даст.
– Ладно, ходите.
Говорит раздраженно. Начинает жульничать, решив любой ценой выиграть – отомстить.
– Э-э, куда вы пошли… Ну давайте же скорее… Ишь какой вы умный…
Я делаю вид, что не обращаю внимания, но играю сосредоточенно, чтобы, несмотря на его жульничество, выиграть и наказать его.
– Вот увидите – проиграете.
– Это ты проиграешь, потому что играешь нечестно, – говорю я спокойно, но твердо.
Если подчиниться воле ребенка, само собой возникнет неуважение. Надо отстаивать свой авторитет поступками, без нравоучений.
Доска почти пустая. Я наношу Стефану чувствительный удар: он теряет дамку.
– Не умею я дамками играть, – говорит он, смирившись.
– Ты и недамками пока не умеешь, но обязательно научишься.
Когда я мыл руки, он поливал мне из кружки, подал полотенце, сказал, чтобы я пил чай, а то остынет. Не произнеся ни слова, я продемонстрировал свою обиду, а он очень деликатно извинился за недобрые чувства в мой адрес.
В этом конфликте из-за лошади, кроме гнева, ощущалось еще и неуважение. Откуда оно взялось, где его источник? Быть может, в моем: что ты хочешь – считать? читать? писать? Может, это его раздражает. Дети любят, когда их слегка принуждают: легче бороться с внутренним сопротивлением, экономятся усилия – не нужно выбирать.
Принятие решения – изнурительный труд, добровольный отказ при повышенной ответственности за результат. Требование обязывает только внешне, свободный выбор – внутренне. Тот, кто предоставляет ребенку право решать, или глуп и не разбирается, или ленив и не хочет.
Откуда это – еще совсем легкое – облачко пренебрежения? Я даю ему баранки, сам ем черный хлеб. Уже дважды он уговаривал меня взять баранок, но себе выбрал те, что получше, румяные: никто его не учил лицемерию этих крошечных светских жертв, которые призваны продемонстрировать готовность к настоящим, большим жертвам.
Эта мелочь, пустяк, который я назвал ссорой из-за лошади, – свидетельство того, что я добился своей цели: мальчик осмелел, теперь я могу исподволь начать его воспитывать. Собираю материал для такого разговора…
Вечером я осматриваю его грязную рубашку: разумеется, вошь.
– Что там? (В голосе беспокойство.)
– Вошь.
– Это потому, что в приюте простыни не меняли. Одеяла такие грязные!
– Ничего страшного, больше вроде нет. А почему не меняли простыни?
– Не знаю, наверно, им стирать не хотелось.
Первый разговор о приюте.
– Санитаров ребята не боятся, а солдата боятся… Нет, солдат тоже не бьет, потому что бить нельзя – воспитательница бы заругалась. Иногда только раскричится и ремнем хлестнет, но бить не бьет.
– А тебе доставалось?
– Ну понятное дело.
Вот так вот: не бьют, но бьют. И все же Стефан прав: не бьют – не полагается бить; солдат кричит, грозится, наверное, – и редко, в исключительных случаях, втихаря, стеганет ремнем.
Раньше я посмеивался над этим мнимым отсутствием логики. Перестал посмеиваться года три назад, когда Лейбусь сказал:
– Я очень люблю кататься на лодке.
– А ты когда-нибудь катался?
– Нет, никогда в жизни.
Это разве что неточно выраженная мысль, но не отсутствие логики: он уверен, что кататься на лодке приятно.
Седьмой день
У Чекова были гости; карты. Поздний ужин. Валентий дежурил по столовой. Злой, выхожу около полуночи. Возвращаюсь в избу, зажигаю лампу. Стефана нет. Что за черт! Выхожу, в дверях сталкиваюсь со Стефаном.
– Где ты был?
– На кухне. Я несколько раз выходил, смотрел в окно – вы сидите. Наконец гляжу – нету. Я так бежал, хотел вас догнать.
– Боялся?
– Да чего бояться-то?
Нет, не боялся. Ждал, высматривал, бежал, чтобы вместе.
Два года я не видел никого из своих, полгода назад – письмо, короткое, измятое, случайно прорвавшееся сквозь кордон штыков, цензуры и шпионов. И вот я опять не один.
Я испытал чувство безграничной благодарности к этому ребенку. Ничего в нем нет особенного, притягательного, ничто не привлекает внимание. Простое лицо, нескладная фигура, посредственный ум, неразвитое воображение, никакой душевной тонкости – ничего такого, что составляет детское обаяние. Но этот незаметный ребенок, словно неприглядный кустик, – голос природы, ее извечных законов, Бога. Спасибо тебе, вот именно такому…
«Сынок», – думаю я с нежностью.
Как поблагодарить его?
– Послушай, Стефек, если у тебя есть вопросы, или что-то докучает, или хочется чего-нибудь – скажи мне.
– Не люблю я надоедать.
Объясняю, что это не так.
– Если нельзя, я так и скажу, объясню. Вот как с лошадью – на лошадях возят дрова, хлеб, больных…
– Я хочу, чтобы вы мне баранок принесли.
– Ладно, будут тебе баранки.
Как раз сегодня кончился запас, который я хранил на случай диеты.
Мы поехали в Тернополь на санях. Стефан какой-то грустный. Ни одного детского возгласа – из тех, что побуждают нас разглядеть то, что мы перестали замечать, и вспомнить то, что когда-то видели так явственно.
Стефан собирался с Валентием в костел, потом он должен был идти к брату, а Валентий – за покупками. Я хотел поискать окулиста – вроде бы он есть в одном из военных госпиталей. Встретиться договорились в приюте.
По дороге Стефан несколько раз менял решение: сначала в приют; нет, сначала к брату; нет, лучше он с Валентием пойдет.
В приюте его подозвала воспитательница: он как-то странно оцепенел, на вопросы отвечал с тупым видом, тихим, равнодушным голосом.
Только когда мы вышли, я понял, почему он не хотел ехать в Тернополь, почему в пути был невесел, почему, как только я вышел из кабинета воспитательницы, поторопил меня: «Ну идемте уже!»
Стефан боялся, что я его там оставлю.
Нужно купить чайник.
– Я пойду с паном Валентием: я знаю, где продается.
Вынимаю кошелек.
– О, Валек (не пан Валентий) получит десять рублей, и мы пирожных купим…
Этот его задорный тон должен означать: «Вовсе я не боялся, я знал, что вы меня там не бросите…»
Удивляет, как неохотно он говорит о брате. Не понимаю почему. Не хочет, чтобы я встретился с братом, – но в чем тут дело?
Читает – закончил.
– Сколько я сделал ошибок?
– Угадай.
– Пять?
– Нет, всего четыре.
– Это на две меньше, чем в первый раз.
Прочел неверно и сразу поправился, сам.
– Это вы тоже посчитаете?
Один и тот же стишок в первый раз читал двадцать секунд, во второй – пятнадцать, в третий – тоже пятнадцать.
– А еще быстрее нельзя?
Старается читать быстро:
– Страх… стра… ста… старушка…
И поскорее переворачивает страницу, чтобы не терять время.
Стихотворение «Висла» вчера читал три раза, сегодня – четыре; результат чрезвычайно любопытен.
Вчера: 20 секунд, 15 секунд, 11 секунд.
Сегодня: 11 секунд, 10 секунд, 7 секунд, 6 секунд.
Стихотворение «Сиротка» – то же самое.
Вчера: 20 секунд, 15 секунд, 15 секунд.
Сегодня: 15 секунд, 12 секунд, 10 секунд.
Достигнутый во вчерашнем третьем чтении результат полностью сохранился.
Записываю в виде дроби: числитель – число секунд, знаменатель – число ошибок. Итак, 24/3 – двадцать четыре секунды, три ошибки. Так я оцениваю время работы и ее качество: отметки по чтению теперь не нужны.
Читая, Стефан споткнулся на слове «лестница» – потерял много времени и остановился.
– А-а, все равно долго получится.
Валентий заметил:
– Это как с лошадью: зацепится за что-то – и ни с места.
Я позволил Стефану начать заново.
Восьмой день
Вчера я писал о детских возгласах, которые побуждают нас вновь увидеть то, что мы перестали замечать. Вот несколько примеров.
– У-у, гляньте, какая печать на чае!
(Когда он положил сахар, на поверхность всплыли пузырьки воздуха.)
– Вы сколько кусочков сахара положили?
– Один.
– А вон, смотрите – два!
(Стакан граненый.)
Ест баранку.
– Из чего мак делают?
Я:
– Мак растет.
– А почему он черный?
– Потому что созрел.
– Правда внутри у него стенки и в каждой такой стенке понемножку?
– Гмм.
– А со всего сада наберется целая тарелка мака?
Его представление о саде складывается из четырех-пяти образов, мое – из сотни, тысячи. Это очевидно, но лишь заданный Стефаном вопрос заставил меня задуматься. Здесь кроется источник многих, на первый взгляд нелогичных, детских вопросов. Поэтому нам так трудно столковаться с детьми – они, употребляя те же слова, что и мы, вкладывают в них совсем иное содержание. Мои «огород», «отец», «смерть» – не его «огород», «отец», «смерть».
Отец-врач показывает пулю, извлеченную из раны во время операции.
– Тебя, папочка, такой же пулей убьют? – спрашивает восьмилетняя дочурка.
Деревня и город тоже не могут понять друг друга – как хозяин и раб, сытый и голодный, молодой и старый и, наверно, мужчина и женщина. Мы только делаем вид, что понимаем друг друга.
Стефан всю неделю равнодушно смотрел, как его ровесники катаются на санках со всевозможных горок и пригорков. Такой соблазн, а он работает с плотниками. До обеда делал с Дудуком кровати для больных, а вечером явился с санками.
– Я только два раза.
– Именно два? Не три? – спрашиваю недоверчиво.
Улыбнулся, умчался. Долго его не было. В избе пусто и тихо; для меня загадка, отчего Валентий, который по-прежнему ворчит из-за лишних хлопот, дважды принимался звать его домой. Может, тоже привык к нашим вечерним занятиям.
Вернулся, сел – ждет.
– Санки хорошие?
– Не обкатались еще.
Я задал нейтральный вопрос, ничем не показав, что всей душой на его стороне, что полностью прощаю ему опоздание – не ему, а этому румянцу и здоровому жизнерадостному воодушевлению. Он понял и решил воспользоваться ситуацией: вопросительно глядя на меня, протянул руку к шашкам.
– Нет, сынок.
Без тени протеста – наоборот, с удовольствием – взялся за книжку. Мне показалось, что уступи я – он был бы разочарован.
– Только без часов, – говорит он быстро.
– Почему?
– Когда часы, кажется, будто кто-то над тобой стоит да погоняет.
Читает. Так он еще не читал. Это вдохновение. Я удивлен – ушам своим не верю. Не читает, а скользит по книге, как на санках, удесятеренным усилием воли преодолевая препятствия. Весь неизрасходованный спортивный азарт перенес на учебу. Теперь я уверен, что поправлять ошибки при чтении бессмысленно: он меня не замечает и не должен замечать – он один на один со своей неукротимой волей.
Беру ручку – записываю.
Ошибки, порожденные желанием уразуметь текст, понять содержание.
Читает «полуклиника». Читает «солнце село» – вместо «солнце сияло». Читает «дал знак» – вместо «дал знать». Читает «Гануся» – вместо «Ануся» (сравни «Фелек» и «Франек»).
Борьба за содержание. «В больной книжке… а-а, нет – в большой книжке», «Когда учитель стихи… ой… когда учите стихи…».
Ошибается, ибо мысль ослабляет зрение.
Текст: «Дети с бабушкой преклонили колени. С плачем они взывали: „Боже, Боже, сохрани жизнь нашей любимой маме! Заступись за нас, Пресвятая Дева Мария! Сделай так, чтобы наша мама выздоровела“. Потом бабушка преклонила детей спать» (вместо «бабушка положила»).
Текст: «За обедом собиралась вся семья. На почетных местах сидели согбенные годами старички: дедушка и бабушка Яся. Дедушка хотел есть…» (вместо «сесть»).
Странности правописания: ведь говорится «ис крана», «фстал», «сонце», «карова», «рош», «ищо», так почему пишется «из крана», «встал», «солнце», «корова», «рожь», «еще»?
Даже если ребенок промолчит – по голосу и выражению лица, по сделанной при чтении паузе, неожиданным ударениям понятно, что он удивлен, а порой и раздражен.
Если не тормошить детей при чтении постоянными исправлениями и объяснениями, можно сделать интересные наблюдения.
Стефан читает: «вы… выбро… выпросить». Я поправляю: «выбросить». Он повторяет: «выпросить» – и читает дальше; он не услышал, что я сказал, – был занят, погружен в труд чтения.
Дети не любят, когда их прерывают, это им мешает. Стефан читает: «На карнизе». Заметив, что я хочу объяснить, он, опережая меня, быстро произносит: «Я знаю, что значит „карниз“» – и продолжает читать.
Трудности: составление слов из букв, непонятные слова, диковинки правописания, незнакомые грамматические формы.
Стефан читает: «в родном краю», повторяет тихонько: «крае» – и опять вслух: «в родном краю любимом». Когда он заканчивает читать, я, проверяя, понял ли он, спрашиваю:
– О чем здесь говорится?
– О нашем краю.
Отзвук мелькнувшей мысли о впервые встреченной грамматической форме: он хотел сказать «о нашем крае», но смутно помнил, что в книге было иначе, чем – как ему казалось – должно быть…
Крайне любопытно, что именно сегодня, после санок, его стало тяготить принуждение – часы. Поначалу я не обратил на это внимания…
Стою у печки и размышляю о сегодняшнем уроке. Вдруг Стефан, уже в постели:
– А вы мне обещали.
– Что?
– Сказку.
Впервые Стефан сам напоминает о сказке.
– Рассказать тебе какую-нибудь новую?
– Нет, про Аладдина… Только вы сядьте.
– Куда?
– Поближе, на стул.
– Зачем?
– Ну ладно, рассказывайте у печки.
Вроде пустяк, а сколько в нем смысла!
Из трех сказок – о Золушке, о Коте в сапогах и об Аладдине – он выбирает самую ему близкую: там к бедняку является волшебник и своей волшебной лампой меняет его судьбу, здесь внезапно появляется незнакомый врач (офицер) и забирает его из приюта; в сказке арапы приносят лакомства на блюдах из чистого золота, здесь Валентий оделяет баранками.
«Только вы сядьте», – просит Стефан шепотом.
Я понимаю, почему дети теснятся поближе к рассказчику, когда слушают сказку; я должен сидеть рядом с ним.
Мои вопросы – где, зачем – сердят мальчика. Застенчивость не позволяет сказать прямо. Это мы развращаем детей – они уже не стесняются говорить: «Я тебя так люблю», «Я хочу быть рядом», «Мне грустно», «Какой ты добрый». А Стефану неловко было написать в письме брату: «Обнимаю тебя».
За завтраком он говорит:
– Вместо того чтобы самому есть баранки, вы их мне отдаете.
Отвечаю: «Гм» – и он оставляет эту тему.
После сказки я объясняю, что часы не должны подгонять его во время чтения.
– Если в первый раз ты читал три минуты, а во второй – три минуты без пяти секунд, это уже хорошо. А если ты сегодня читал дольше, чем вчера, – надо подумать почему: или ты сегодня сонный, или сильнее устал в мастерской, а может, это из-за санок.
– А я сегодня плохо читал?
– А ты сам как думаешь?
– Не знаю. (Минутное колебание.) Мне кажется, хорошо.
– Да, ты сегодня читал хорошо.
Уже и правый глаз у меня болит, слезится. Писать трудно – придется сделать перерыв. А жаль: в этих записях – несметные сокровища.
Девятый день
У Стефана чесотка. В приюте он болел уже дважды: в первый раз лечился три недели, во второй – шесть. Неудивительно, что боялся признаться, по-детски откладывая катастрофу на потом. Только теперь я понял, почему он допытывался, будет ли баня и когда. Я не придал значения этим вопросам – и зря. Эта нехарактерная для ребенка военного времени забота о чистоте должна была меня удивить, насторожить. Я не обратил внимания, видимо, объяснил это себе желанием мальчика искупаться в новом месте (он слышал, что для больных есть баня).
Валентия новость потрясла: как быть с бельем, с едой?
– Никогда у меня ничего такого не было, – говорит он с упреком, почему-то считая, что в этот раз непременно заразится.
Короткая лекция о чесотке, ее этиологии, степени заразности, лечении – и так три дня.
– Иди, сынок, в мастерскую, а в обеденный перерыв я тебя намажу.
Да, вот тут необходимы и ласковое слово, и поцелуй.
– Дома у меня никогда корост не было, – шепчет Стефан.
Он долго возился с санками перед уходом в мастерскую. Когда я вошел в мастерскую, взглянул на меня с тревогой – не проболтаюсь ли Дудуку.
Как это все плохо, как выводит из равновесия! Именно сегодня я хотел с ним поговорить – накопился материал: вырвал страницу из тетрадки; принес в мастерскую бомбу, не спросив у меня разрешения; соорудил санки, хотя не знал, не буду ли я возражать; не говорит правды; не хотел, чтобы я увиделся с его братом, – видно, что-то скрывает; сказал, что в приюте не бьют, а потом признался, что получал ремнем.
Хочу, чтоб он знал: я им доволен, но есть кое-какие мелочи, о которых я вот сейчас, при случае, говорю. Знал: даже если я и молчу, все равно замечаю. Теперь к этому добавляется чесотка, которую он тоже скрывал. Но все это потом, через несколько дней, когда его кожа и мои глаза перестанут зудеть.
Очень важно высказывать претензии редко, но сразу все, и притом в доброжелательном разговоре. Мы обычно боимся, что ребенок забудет, – нет, он хорошо помнит, это, скорее, мы забываем и поэтому предпочитаем разбираться по горячим следам – иными словами, в неподходящий момент, причиняя боль.
Вечером он читал плохо. Вчера – двадцать семь строчек за шесть с половиной минут, сегодня – шестнадцать строчек за семь минут.
Я попросил его рассказать, о чем он читал. На прошлой неделе он рассказывал коротко, своими словами, начиная по-детски: «Так вот…» Сегодня, не знаю почему, пересказав первый рассказ, спросил:
– Правда я плохо рассказал?
А второй рассказ он решил изложить по-книжному, как в школе. И сразу впал в этот ужасный – монотонный, бессмысленный, заунывный – тон ученического пересказа; украдкой заглядывал в книжку, выхватывая оттуда первые попавшиеся фразы, плел околесицу.
В шашки он уже играет значительно лучше. Перестал паясничать – играет внимательно и серьезно. Понятно: раньше он обезьянничал, подражал игроку-авторитету, теперь играет самостоятельно.
Я помогаю ему, обращаю внимание на ошибки.
– Только, пожалуйста, не говорите. Когда вы говорите, я уже не думаю.
Исправление каждой ошибки при чтении и письме не дает ли подобный результат: ученик не ценит собственный труд?
Стол шаткий. Чай расплескался. Стефан пальцем проводит дорожку к краю стола – чай стекает на пол.
– Поглядите, я чай сплываю.
– Гм.
– Чай сплывает.
Ребенок, бесспорно, обладает грамматическим чутьем, я сказал бы – грамматической (и орфографической) совестью. Я много раз наблюдал, как ребенок, вслушавшись в неправильно построенную фразу, сам пытался ее изменить, только не знал как.
Не убивает ли систематическое обучение в детях эту совесть? И не усложняем ли мы работу непонятными, недоступными ему пояснениями?
Ум ребенка – лес, верхушки которого колышутся, ветви сплетаются, листья, трепеща, касаются друг друга. Бывают мгновения, когда дерево слегка соприкасается с соседними, и через соседа передаются ему колебания сотен, тысяч других деревьев – всего леса. Каждое наше «хорошо», «плохо», «будь внимателен», «еще раз» – вихрь, вносящий хаос.
Я однажды шел за семенем одуванчика – зернышко, подвешенное на белом парашютике. Долго я за ним ходил: семечко перепархивало со стебля на стебель, с травинки на травинку. Тут задержится больше, там – меньше, пока не зацепится и не прорастет. О человеческая мысль! Нам неизвестны законы, которые тобой управляют, мы жаждем познать их, но не понимаем, – этим и пользуется злой гений человечества.
Вместо «дров» читает «двор».
В задачке сердит его слово «десятина».
– Десятина – это ведь десять. (Вполголоса.) Ясное дело, десять. А в задаче сказано – одна.
Читает:
– Недоверчиво… (еще раз, внимательно) недоверчиво… (в третий раз, смирившись) недоверчиво…
Продолжает.
Читает:
– Беглый… беглый… Может, бедный?.. Нет, здесь беглый…
Смутил его оборот «сидишь, дитя». Убедившись, что прочел правильно, задумывается.
– Пан доктор, а у вас на часах золотая стрелка?
– Нет, обычная.
– А то бывают и золотые.
– А ты видел?
– Видел – у панны Лони.
В другой раз:
– А вы купите себе пилку для ногтей.
– Зачем?
– Такую, как у панны Лони была.
Видно, ему досадно стало, что я – мужчина, офицер, его теперешний опекун – уступаю панне Лоне, обделен золотой стрелкой и пилкой.
На ночь намазываю его мазью.
– И за три дня все пройдет? – спрашивает он недоверчиво.
– Почему ты мне ничего не говорил?
– Стыдно было. (Вполголоса.)
– Чего? Что больной?
– Дома у меня никаких корост не было, – уклоняется от ответа, не хочет говорить, что в приюте смеются, брезгуют.
– Вы вымазались.
– Ну так умоюсь.
Уже в постели спрашивает:
– Я недолго катался на санках, правда?
Я к нему снисходителен, поэтому его терзает собственная провинность. Этот вопрос, заданный ни с того ни с сего, я себе объясняю так: «Он ни на что не сердится. Почему он не сердится – может, не знает? Я катался на санках. А он хочет, чтобы я учился. Я долго катался на санках? А может, не так уж и долго?»
Десятый день
Ссора и примирение.
Валентий дежурит. Наливаю Стефану чай.
– А почему только полстакана?
– Чтобы не пролил.
– Ну тогда я долью.
Не отвечаю. Долил, поставил стакан на стол, и, когда протискивался между скамейкой и столом, стол покачнулся – чай разлился. Стефан смутился. Пошел принес тряпку.
Я говорю спокойно, но твердо:
– Прошу тебя, Стефан, ничего не брать из вещей пана Валентия, он этого не любит.
– Я хотел вытереть.
– А почем ты знаешь, – может, она для посуды?
Сконфуженный, уносит тряпку.
Наклоняю стол, сливаю, остальное вытираю промокашкой. Стефан молчит, наконец неуверенным голосом – на пробу:
– Почему на этом стекле (для лампы) буквы «Г. С.»?
– Наверное, это начальные буквы имени и фамилии фабриканта.
Он задает кучу вопросов, а означают они: «Вот, мы теперь разговариваем. То – уже забыто. Охота была помнить о таких пустяках…»
Но сам помнит. Вечером:
– Я налью чаю, хорошо?
– Хорошо.
Мне наливает полный стакан, а себе немногим больше половины.
– Придержите, пожалуйста, – протискивается за стол. – Теперь не пролилось.
Если бы не глаза, я бы описал точнее; опустил ряд деталей. Утром, после чая, Стефан сказал «спасибо» и подал мне полотенце. Извинился не словом, а делом.







