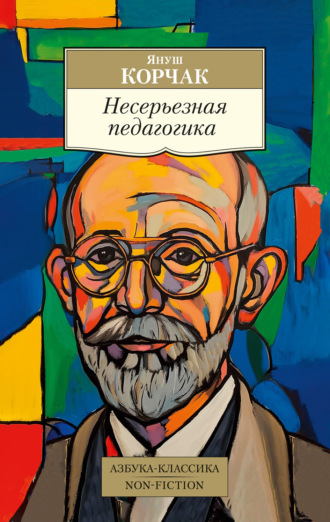
Януш Корчак
Несерьезная педагогика
Ложиться пораньше
Это дело непростое. Вам кажется, что как я скажу, так и будет. Вы переоцениваете мой авторитет и масштабы влияния. Тут требуются осторожность и дипломатичность. Потому что если я скажу: «Дети не куры, чтобы ложиться спать с курами, это вам не курятник, где все укладываются рано», – уверяю, ничего из этого не выйдет, проиграем.
Сразу же скажут, что сон – это здоровье, и неужто вам дня не хватает, и так целый день гоняете, а вечером – туман и шея голая, роса и ножки босые, и что ультрафиолетовые лучи днем, и что желёзки, и что темно вечером, ничего не видно, можно веткой в глаз… Скажут, что взрослые тоже имеют право на отдых, потому что днем шум и ругань, а вечером хочется покоя – без детей, без этих ультрафиолетовых лучей.
Пусть даже две мамы отнесутся с пониманием, так обязательно найдутся другие: этот еще мал, этот слабенький, тот переутомлен (школа ведь, учеба напряженная, надо в деревне сил набраться на весь трудный учебный год). Скажут, что я теоретизирую, потому что собственных детей нет, что познания мои нафталином посыпаны, застыли как муха в янтаре, а на дворе – прогресс и новые течения.
И потом, вовсе даже не с курами, нужно ведь еще повозиться, тщательно умыться, так что все равно выходит поздно. И режим дня собьется, а затем бессонница, синяки под глазами, глаза мутные. И шпинат, такой полезный, есть отказывается. В общем, на моей стороне две-три мамы, а остальные все заодно – и дело проиграно. Нет, надо без кур, иначе, осторожно и постепенно.
Надо подготовить почву. Сначала пробный шар, пропаганда. Тут словечко сказал, там обмолвился. Например: если не начать сейчас закалять, то потом, когда уже станет самостоятельным и вырвется на свободу, он дорвется до лыж или санок и шею себе свернет; а то еще сядет за руль, потеряет управление и врежется в столб или в груду придорожных камней (ориентацию в пространстве лучше развивать смолоду и в темноте). Маменькин сынок – глаз ведь с него не спускали…
Другой маме расскажу, как только что прочитал в последнем номере заграничного медицинского журнала о новейшем открытии: вечерняя роса – самая радиоактивная и гидроклиматобальнеологическая. Третьей – что поэтичность деревенского вечера высвобождает в подсознании возвышенность и электроны и это влияет на всю жизнь и оставляет незабываемые впечатления. Четвертой – как один мальчишка говорил мне, что, когда его слишком рано укладывают в постель, он не спит и злится и его одолевают всякие чудны́е мысли. На самом деле он сказал так: «Я, вообще-то, люблю полежать в кровати и подумать, но, когда меня укладывают сразу после ссоры, я еще распален, и в голову лезут разные путаные – нехорошие – мысли».
В общем, только договариваться, вести переговоры за круглым столом, чтобы сломить сопротивление и обернуть дело в свою пользу; ну и торговаться: условия, ограничения, исключения и оговорки.
Не уходить далеко? Ладно: давайте определим границы.
Спортивные тапочки? Договорились, и еще носочки.
Молоко пить без всяких разговоров? Сколько – один, два стакана? Может, с овощной добавкой?
Точное время, чтобы никаких отсрочек? Запросто: раз-два, по первому слову, без проволочек, умываться (и зубки тоже) – и марш в кровать, голова на подушке – и через секунду уже хррр-шшш… хррр-шшш… И у взрослых руки развязаны.
Но это ведь не официальный договор с печатью. Может случиться так, что я одержу дипломатическую победу, два вечера порадуюсь, а потом – бац, противники разрывают контракт – и мы терпим поражение. Снова идти спать? И в ответ на мое любезное «Доброе утро» – холодно: «Доброе утро», потому что я посторонний и вмешиваюсь, когда не просят.
Я искренне хочу вам помочь, ребята, но не нахрапом – и ни слова о курах. Этот аргумент вызывает лишь раздражение.
Но и вы не зевайте. Ведь вам нужны вечера, чтобы потом написать сочинение «Как я провел лето». В сочинении нельзя не упомянуть о вечерах, иначе тема будет не раскрыта. Или, скажем, «Вечерние труды крестьянина в поэме Мицкевича „Пан Тадеуш“». Или «Лес и река при полной луне».
А вот воспоминание из прежних времен – спокойных времен здравого рассудка.
Поздний вечер. В деревне. Сидим за столом, разговариваем.
Спрашиваю:
– Где наследник, где ребенок?
Отец:
– Да где-то шастает – может, в конюшне, а может, на лягушек охотится.
Мать:
– Яму какую-то копают, с обеда на глаза не показывался.
– Проголодается – придет, – добавляет отец.
А на столе стоит и ждет миска остывшей молочной каши.
И вот возвращается ребенок-наследник, поспешает, едва на ногах держится, шатает его.
– Мы закончили! Мама, поесть…
Садится и энергично – раз-раз, ложка за ложкой, трескает, съедает все подчистую. И вдруг – оперся локтем о стол, застыл с последней ложкой каши. Спит.
Ложка выскальзывает из пальцев, каша и молоко брызгают на чуб, а он шепотом сквозь сон:
– Лопату давай…
Папа его – на руки. Такой тихий сейчас, беспомощный, послушный. (Детский сон – одно из величайших чудес в этой жизни.) А после мама прямо на кровати обтирает мокрым полотенцем спящего: лапы как у трубочиста, штаны изодранные, ноги исцарапанные. Стирает мокрым полотенцем эту кашу со лба, протирает ненаглядную измазюканную физиономию. А он пьет, хлебает большими ложками густой сон, этот обильный, неиссякаемый, бездонный сон, этот здоровый, спартанский сон… Можно палить из легкой и тяжелой артиллерии, пушек, зениток, да хоть салютовать из всех орудий разом – он не шелохнется: спит мертвым сном.
Ночью блохи (собака же) и комары, на рассвете нахальные мухи лезут в глаза, в уши, в нос. Чихнул, перевернулся на другой бок, что-то пробормотал, вздохнул, натянул одеяло – и спит.
И только когда с безошибочной, математической точностью почувствует, что в самый раз, хватит, – только тогда он поморщится, протрет кулаком глаза, откроет их, поморгает, оглядится удивленно, почешется… Смотрит, смотрит – и вот уже очнулся и улыбается. (Бессонница у детей – тоже мне выдумали!)
Ой!.. Обмочился…
Да ну, не потонет – высохнет; да вот уже все высохло.
Что, соломы для матраса не хватает? Или вам куска мыла жалко, чтобы выстирать свою драгоценную простыню и куцую рубаху? Воды не хватает – выкупать эту молодую поросль, будущее народа и надежду завтрашнего дня?
Да пускай себе писается на здоровье – банзай! Что за катастрофа – ни убытка, ни позора, ни вреда… И потом, как могло быть иначе? Вечером он легкомысленно забыл, а ночью исправно спал. Он же растет, дорогая мама, а это требует сил и труда.
Ну, тут сразу найдется что о себе послушать: я, мол, старомоден, несовременен…
Помню, в летнем лагере это было. Зной, жара. Сотня мальчишек. Днем не ели – не хотелось. А прохладным вечером – простокваша с картошкой. Понятно, что она имела успех. Ну и утром у шестерых под кроватью озеро.
Шестеро из ста – разве это так много? По моим точным расчетам, два-три матраса сушить придется непременно, этого не избежать. Как говорится, ничего не попишешь.
Один ехидный мальчонка заявляет мне:
– У них, пан доктор, сегодня праздник моря.
– Перестань, – говорю, – им это будет неприятно.
Короче, я утверждаю, что каждый ребенок имеет законное право на две катастрофы в год. В летнем лагере, в новой обстановке, процент увеличивается. Это мне доподлинно известно.
Люди стали самонадеянны и нетерпеливы, они слишком ценят удобства. Всюду норовят соломку подстелить, сердятся и ворчат, столкнувшись с малейшей неприятностью, с любым препятствием, хотят всего немедленно.
Деревцу требуются долгие годы, чтобы вырасти. Сон у малолетки еще не устоявшийся, бесхитростный и неловкий. И на что тут, спрашивается, пенять – в суд, что ли, подавать на законы природы?
Вы требуете, чтобы я добился для вас права ложиться спать попозже, не с курами? Дело вовсе не в курах, а в духе времени, новейших тенденциях. Трудно плыть против течения.
Люди мнительны. А вдруг столбняк от царапины, заражение крови от ржавчины? Да знаю я, отлично знаю, что именно вечером – и в разведчиков, и в рыцарей, и в прятки. Знаю, что по холодку лучше всего. Если кого сморит – рухнет под сосной и уснет. А потом мы, взрослые, отправляемся на поиски, как по грибы; отыскиваем вас, приносим спящих, укладываем умаявшихся, застигнутых сном врасплох.
Но поймите: мечты мечтами, а жизнь – своим чередом. Идеальная картина – и жестокая реальность. Планы – и их воплощение. И еще ответственность. Представьте себе: если что случится – какой-нибудь кашель, горло и температура 37,3 – все шишки моментально обрушатся на мою бедную голову. И как же тогда мой покой и отдых, наблюдения и исследования, отпускное самосовершенствование, как мне расти над собой и даже выше?
Не думайте, что я пытаюсь отвертеться. Нет. Вот прямо завтра заявлю, что детям необходимы вечера, и звездное небо, и вечерние собрания научного общества и что вечерние разговоры лучше всего – днем ведь некогда, да и жалко времени.
Перекармливание детей сном приводит к несварению сна, расстройству сна, извращению сна, разболтанным нервам. Сколько часов должен спать ребенок? Ровно столько, сколько ему спится.
Сказка для малышки
– …И вот эти брат с сестрой стоят, бедные сиротки, в лесу, глядят по сторонам и вдруг видят – домик. Домик увидели. Он спрашивает: «Что это?» Она говорит: «Какой-то домик». Он спрашивает: «А почему такой маленький?» Она говорит: «Не знаю». Потому что она ведь не знает, кто там живет. Маленький домик, маленькие окошки и дверь, маленькая труба на крыше и дым из трубы. Но мальчик с девочкой стоят и смотрят, за руки держатся. А тут вдруг гномики идут, несут в горшочках землянику. Ты, может, думаешь, это были обычные гномики? Нет. Потому что у гномиков были крылышки.
– Белые.
– Разумеется, белые. Ну да, белые. Может, у одного гномика были голубые крылышки или розо…
– Нет!
– Ну нет так нет, раз тебе не нравится, а мне все равно – можешь выбрать любой цвет. Так вот, эти гномики несут зеленые горшочки с красной малиной.
– Земляникой.
– Земляникой. Я перепутал. И у них белые крылышки.
– Как у ангелочков.
– Угу. Именно. Белые, как у ангелочков, чистые, белоснежные. И ручки у них чистые. Они вымыли ручки и мордашки. Гномики любят умываться. А ты хотела бы иметь крылышки?
– Нет!
– Почему?
– Ну просто.
– А что плохого в крылышках? Необязательно ведь летать, если не хочется…
– Рассказывай дальше.
– Хорошо. Экий ты консерватор. Что плохого в крылышках? Вот у птичек есть крылышки, у мух есть, у бабочек, у пчел…
– Это что за колечко?
– Микрофон.
– Да?
– Да. Вроде телефона… У гномиков чистые носики и ушки. У собаки ведь, например, нет носового платочка. Она облизнется – вот собачий нос уже и вымыт. Или муха – та лапками умывается. И котик умыва…
– Я видела, как кот моется лапкой.
– А я раз видел, как воробушек купался в песке. И как котик умывался, один раз видел.
– Я сто раз видела. Этого кота зовут Черныш.
– Мы же договорились не называть имен. Надо говорить: Бум.
– Я помню. Черныш Бум. А зачем это колечко?
– Не трогай. Это научный прибор. Точный инструмент. Можно сломать.
– А ты слышал, как я завтра буянила?
– Вчера вечером? Ну конечно. Я твой ближайший сосед. Я все вчера слышал.
– Вчера.
– Мама тебя мыла, а ты не хотела, потому что и так купаешься в целой реке, зачем еще в тазу купаться?
– Ну да.
– Знал я одного мальчика…
– Бума?
– Ага. Он тоже не хотел. Говорил, что у него в ухе потом мокро. Мама у него была нервная и мыла его изо всех сил. Это было больно.
– Было больно…
– Этот Бум твердил, что для счастья ему совершенно не нужны чистые уши. Что шея у него не грязная, а просто загорелая. Что вода после мытья должна быть черная, как смола, а если не черная, так чего зря стараться? Говорил, что мыться – это устарело. Делать ему нечего – каждый день причесываться и чистить зубы!
– Это колечко на память?
– Не на память, но важное. Микрофон.
– А что такое на память? Мамочка однажды потеряла брошку на память и плакала.
– О-о-о! А я читал в одной книжке, очень интересное…
– В этой?
– Нет. В другой. Про девочку, у которой мама играла на рояле. Мама играет долго-долго, а она стоит и слушает. Оперлась на рояль и слушает.
– И что?
– Мама играет грустную песню. Доиграла, девочка ее и спрашивает: «Мама, а ты какими слезами плакала?»
– Не люблю грустные сказки. Ну рассказывай.
– Хорошо. Так вот, гномики весело бегут друг за другом, весело играют. Порхают так весело, машут своими розовыми крылыш…
– Белыми.
– Белыми. Я оговорился. Извини.
– А ты меня любишь?
– Больше, чем это возможно, чем позволяют силы.
– Ты глупости говоришь. Говори со мной по-человечески.
– Да я как раз по-человечески. «Любишь меня, Мария?» – «Мой дорогой, мой милый! Больше, чем это возможно, чем позволяют силы…»[24] Это из классики.
– Я не понимаю.
– Рассказывать дальше про гноми…
– А ты совсем на меня не сердишься?
– За что?
– Что вчера буянила.
– Нет. Просто сочувствую твоим бедам и огорчаюсь, что мама громко сердилась на тебя за…
– На тебя она тоже сердится.
– За что?
– А ты храпишь через стенку. Мамочка закрыла окно, и не могла спать, и кровать к той стенке переставила. И у нее режим дня сбился. Но я не видела, как он сбился, потому что спала. И мы пе-ре-ве… перебираемся. Ну рассказывай.
– Так вот, сиротки смотрят, а гномики весело порхают, машут своими зелеными крылышками. (Пауза.)
– Почему ты не рассказываешь?
– Потому что ты думаешь о чем-то другом и не слушаешь.
– Слушаю.
– Я ведь сказал, что зелеными крылышками, а ты не поправила, что белыми.
– Потому что я поправляю-поправляю, а ты все равно; что ж я буду сто раз повторять?
– Ты любишь сказки?
– Немножко очень… А ты знаешь, как я думаю?
– Тоже немножко очень.
– А этот мальчик, он буянил?
– Какой мальчик?
– Ну тот. Который не хотел мыться, потому что больно.
– Теперь не буянит. Я объяснил ему, что в ухе есть разные повороты, закоулки, закутки и пещерки, поэтому не надо сильно тереть – надо осторожно, чтобы не больно было. И причесываться тоже осторожно, и нос вытирать не сильно, и чтобы мыло глаза не щипало.
– Ага.
– И зубки тоже легонько, осторожно. Даже когда сильно нервничаешь, необязательно делать больно.
– А если я не буду чистить зубы, то стану старой уродливой бабкой? Ще-бра-той?
– Я тебе объясню. Бум – тот дошкольник, ты его знаешь, – у него выпал молочный зуб, и теперь новый растет, красивый. Он что, старый и уродливый?
– Он красивый. Но не хочет со мной играть.
– Это тебя огорчает?
– Нет.
– Много у тебя огорчений?
– Хватает. Я пенку не люблю.
– На молоке?
– Ни на молоке, ни в какао. И морковку не люблю… Это что за книжка?
– Научная.
– Почитай.
– Хорошо. Почитаю. Здесь?
– Здесь.
– «…Скальные породы находятся в постоянном движении, сжимаются, сдавливаются, вследствие чего края крошатся».
– Ты это понимаешь?
– Угу.
– А я нет. (Вздыхает.)
– А ты хотела бы понимать?
– Я пою кукле, чтобы она спала, и она засыпает, а я больше не пою, потому что она спит, а у меня всякие заботы.
– Почему? Потому что она спит?
– Нет… У мамочки тоже заботы есть.
– И у мамочки?
– Ну да. С папой. Потому что папа…
– Ты, может, не хочешь больше разговаривать? Вон зеваешь. Может, ты устала и хочешь пойти поиграть с детьми?
– У меня есть беда, про которую никто на свете не знает. Ни мама, ни папа. Я даже кукле не говорила. Но тебе скажу.
– Лучше не говори. У стен бывают уши.
– Ты глупости говоришь… Некрасиво так говорить – «глупости». Детям можно, а маме или пану доктору невежливо… А они говорят: «Иди отсюда, иди, малая, мы тебя не возьмем в игру, ты не умеешь». Она сказала: «Еще в штанишки надуешь». Ей не было стыдно, что мне стыдно. И при всех. А я уже большая. Я бы хотела быть куклой, потому что кукла всегда никогда сухая. (Вздыхает.) А ты храпишь и не чувствуешь, потому что спишь. И я тоже не чувствую… А что ты пишешь?
– Сейчас расскажу. Когда я слышу что-то важное, то записываю, чтобы не забыть.
– Прочитай.
– Хорошо. «Я бы хотела быть куклой, потому что кукла всегда никогда сухая. (Вздыхает.) А ты храпишь и не чувствуешь, потому что спишь. И я тоже не чувствую…»
– Да… Это важное?
– Очень. Один мальчик как-то захотел ходить в платье. Ты вчера вечером буянила, потому что не хотела мыться, а он утром не хотел одеваться. Его мама думала, что это комплексы. А он рассказал мне тайну, что хочет быть девочкой, потому что девочки послушные, а он в брюках не может быть послушным, поэтому хочет носить платье. Я тоже записал. А одна девочка хотела быть обезьянкой в клетке, потому что обезьянка в клетке может играть и не запачкать платья, и скакать по клетке ей можно, и у ее папы-обезьянки голова не болит и не раскалывается.
– А мой папа…
– Смотри, опять зеваешь. Ты устала.
– Мне нравится с тобой разговаривать.
– Мне тоже. Но и я уже зеваю.
– Тогда рассказывай сказку.
– Ты права. Сказка о гномиках – легкая и удобная, правда о гномиках – важная, но трудная. Начав сказку о гномиках, можно ее не заканчивать – ничего страшного; но если начнешь рассказывать правду – жалко бывает не договорить до конца…
Если начал рассказывать сказку, не старайся ее закончить. Сказка может быть прелюдией к разговору, может с ним переплетаться. Продолжай рассказывать, только если попросят. Одну сказку можно повторять много раз.
Взрослые и мы, дети
Вы же понимаете: зубная паста с горчицей, лампа с зеркалом, этажерка с пианино могут не поссориться – но не человек с человеком (кровь не водица). Летом, когда жарко и столько свободного времени…
Вот всегда так: тишина, покой – и вдруг налетает буря: черная туча – тишина – бабах, гром и молния. А как вы думаете? Только дети ссорятся, а взрослые – нет? Что за монополия? Раз в сезон непременно случится скандал, и кто-нибудь, разобиженный и рассерженный, оскорбленный и разочарованный, уезжает досрочно. Так уж повелось, таков порядок вещей.
Если бы я даже знал, в чем причина, все равно не сумел бы вам объяснить, потому что могу лишь о том, что до четырнадцати лет (взрослые не по моей части). Но я не знаю: в жизни столько путаницы, такая каша и неразбериха. Когда я был такой, как вы, тоже хотел во всем разобраться. А теперь? Да ну-у…
Жизнь – она как радиоприемник: интересно, конечно, но трещит, хрипит, что-то говорят, хотелось бы знать что, но то слишком быстро, то слишком тихо, не понял, не расслышал – остается только гадать. Жизнь – загадка, да.
Может, оно и к лучшему. А то если за все лето ни единой бури – как-то пресно, пусто. Все равно как поездка за границу без неприятностей на таможне, как льготный билет без драки за место, как вегетарианство на Пасху, как матч без ора и свиста.
Происшествия нужны, чтобы зимой было что вспомнить. «У-ух, как мы промокли – вода ручьем лилась!» Или: «Едва не утонули!» Или: «Еще чуть-чуть – и был бы пожар». Что это за лес, в котором никто не заблудился? Что за пансионат такой жалкий, где никто ни с кем не погрызся насмерть и чтоб потом к общему столу не выходить, а то и вовсе уехать. Или летом на даче – скука ведь, когда все в согласии, тишь да гладь…
Потому и рассказ у меня получается неинтересный, что никаких чрезвычайных происшествий. Некоторые люди умеют интересно. Один был на войне – и даже не знает, как его подстрелили. А другой:
– Я – вперед, пули – вжик-вжик, потом бах, трах-тарарах, я упал, вокруг газ, я – противогаз, а тут – самолет, бомба, иприт: вррр, бах, бах – справа в двух шагах, слева совсем рядом, и еще третья бомба – прямо под ноги; к счастью, не разорвалась. Я вскочил – опля! – ухватил две вражеские пушки за морду и тащу. И ничего – царапинами отделался.
Веришь или не веришь, но заслушаешься.
Или на охоте:
– Разъяренный кабан топочет, земля гудит, сучья и ветки трещат, я за куст, а он прямо на меня, из пасти огонь, запах серы, а я невозмутимо прицеливаюсь – и в глаз. И вот лежит, хвостом гребет, копытами – все, помер.
Было или не было, но заслушаешься.
А у меня что?
Помню, как-то раз в летнем лагере. Тоже безоблачное время – тихо, спокойно, золотые солнечные дни, звездные вечера. Тут лес, тут мои хлопцы, а там морковка. Да-да, морковка. Поступает жалоба: морковку объели. Ну и расследование. Кто? Кто первый, кто еще, кто с кем, когда, по сколько? Позор! Я все записывал, отчитывал их: мол, природу не берегут (еще ж и ветки поломали), некультурно, воровство… Закончил, пошел к мусорной свалке: слишком близко к кухне сделали, ну и мухи, придет санитарная комиссия, надо этот источник заразы засыпать и выкопать новую, подальше. По дороге замечаю, что за мной с кислым видом плетется паренек.
Спрашиваю:
– Натворил что-то?
Вымученная улыбка.
Я ему:
– Не так уж много в жизни каникул и радостей, иди давай, играй.
Он дальше за мной. Я ему:
– На кухню нельзя.
А он:
– Я хочу вам сказать.
– Не сейчас, завтра скажешь.
Нет, хочет именно сейчас.
– У меня времени нет.
– Я быстро. Я… я тоже морковку рвал.
– И ел?
– Ел.
Хотел спросить, почему сразу не признался, да какая разница? Ну вынимаю из кармана блокнот с материалами расследования, карандаш казенный и казенным тоном спрашиваю:
– Сколько?
А он:
– Один раз три морковины…
– Большие?
– Средние – во-о-от такие.
– Ладно.
– Другой раз – четыре. А третий раз не помню сколько.
– Ну примерно?
– Примерно… штук шесть.
Записал, подсчитал, говорю:
– Одиннадцать.
– Вы ошиблись – тринадцать.
Считаю:
– Три да четыре – семь, семь плюс шесть… ты прав: тринадцать морковок вырвал и съел.
– И два помидора.
– Еще и помидоры?
– Угу.
Думаете, на этом конец? Нет. Когда я уже закрыл блокнот, он добавил:
– И огурец еще.
Я вздохнул, прошептал: «Гипервитаминоз» – и записал «огурец».
Потом оказалось, что огурцов и помидоров было сорвано больше, хозяин просто не знал. Делать нечего, пришлось честно заплатить по рыночной цене, чтобы не обижать человека: он же не может спрятать свое имущество в несгораемый сейф, вынужден доверять окружающим.
Вот вечно есть какая-нибудь припрятанная морковка и тайна: уже вроде все выяснили, так нет же, непременно обнаружатся еще и помидор, и смородина, и огурец. Не так уж много человеку в жизни каникул перепадает – и те умудряется себе испортить.
Взрослые тоже проказничают и куролесят. Но каждый по-своему, да и один и тот же по-разному.
Спрашиваю:
– Скажи, парень, ты что за человек? Порядочный?
А он:
– Сам не знаю.
Когда как: человек ведь.
А правда? Не то чтобы соврал, но и с правдой разминулся. Он одной дорогой идет, правда – другой. Не по пути им. Бывает, в спешке даже не узнает правду в лицо, а то – узнает, улыбнется приветливо или даже остановится и спросит, как здоровье, – и снова разминутся, каждый пойдет своей тропкой. А ведь хотелось бы вместе с ней, с правдой-то. Если человек правдивый соврет, то лишь настолько, насколько его вынудили, в угол загнали, и потом ему бывает грустно, неприятно и стыдно.
Был один парнишка, единственный сын у вдовы. Упал с турника во дворе, на площадке. Ничего страшного, и не такие шишки случалось набивать. Говорю ему:
– Видишь, я тебя предупреждал, чтобы не выделывал всякие штуки на турнике. Что теперь мама скажет…
Позже спрашиваю:
– Мама сильно расстроилась, когда ты ей рассказал?
А он, оказывается, сказал, что упал и ударился.
– Соврал, значит, – говорю.
А он:
– Нет.
Правду сказал: ведь действительно упал и действительно ударился. Но покраснел, чувствует, что с правдой разминулся, – и добавляет:
– Если бы мама узнала, не разрешила бы мне больше на турнике заниматься.
Я удивился:
– Как же мама может тебе запретить? Ведь ее тут нет, она не видит, что ты делаешь.
А он:
– Нет, если бы мама не разрешила, то я ведь не смогу соврать, когда она спросит, не ходил ли я на турник.
Ну вот и этот: рвал морковку, три раза рвал, но то ли стыдно ему было, то ли боялся, то ли еще что – сразу не смог признаться, а потом уж и про огурец заодно выложил; а те сразу – благородно и отважно – про морковь, зато про помидоры и огурцы ни гугу – я ведь о них не спрашивал, да и нельзя же подставлять товарищей.
Что ж, поговорим о товарищах, о школе, о разных влияниях: один помогает и делает тебя лучше, а другой портит и вредит. Легко сказать: «Не водись с хулиганами». А как сразу распознать, кто хороший, а кто нет? Иной тихоня хуже хулигана. И потом, с хулиганом весело. Да его ведь и исправить можно. Укротитель даже льва, даже тигра может приручить и обучить. Даже людоедов можно сделать цивилизованными людьми. И что есть зло, грех, а что всего лишь «нельзя» и «нехорошо»? И почему мы не только комаров убиваем, которые кусаются, но и цыплят едим? Человек вообще все ест, еще и щенят топит, хотя собаки красивые и верные.
А вот еще случай был у них в школе. Одноклассница не выучила урок, а ее должны были вызвать. Обмотала платком шею и делает вид, что голос потеряла. Учительница спрашивает, что с ней, а она, притвора, еле слышно – охрипла. А учительница: «Видите, она больная пришла в школу, лишь бы урок не пропустить». Одна девочка не выдержала и рассмеялась – прыснула. Учительница сильно рассердилась: бессердечные, легкомысленные, плохие товарищи, нет бы, мол, с уважением к такому примеру и сочувствием, а вы – в смех. «И что мы должны были сделать?»
Да, непросто. Часто надо бы, а невозможно. Ну разве можно не дать ей списать контрольную, если она старается, но ей трудно, потому что нет учебника: отец мало получает, или же ей приходится работать и помогать родителям, или по болезни пропустила, или голова разболелась? Разве можно не подсказать, если приятель только одно слово забыл или просто с перепугу ошибся?
А если разбил стекло или еще что-нибудь натворил и не сознался? Ведь одному дома ничего не будет, а у другого родители строгие, могут и отлупить.
Одному легко, другому трудно, и ничего он с собой не может поделать. Одному как-то все сходит с рук, а другой сразу попадается и получает не только за свои грехи, но и за чьи-то, а то и за всех разом.
А зачастую и сам не знаешь, можно или нет, – например, когда первое апреля или святки. Веселый учитель позволяет, строгий – запрещает, а нервный – раз так, раз эдак; одному ничего не будет, а другому из-за любого пустяка – скандал.
И что это такое, вообще-то, эти нервы? Похоже, врачи сами не очень понимают. Кто нервный, а кто просто злюка? А доктором трудно быть? А доктор главней, чем инженер? А летчик? Инженер плохо построит мост – и он рухнет, или дом, или самолет – и сразу катастрофа. А доктор тоже может быть героем, если заразится от больного и умрет. А что такое слепая кишка, почему так называется? Почему один ужасно любит кино, а у другого от него глаза болят и голова? И что такое сон? А сны и предсказания гадалок сбываются? Что такое лунатик? А полиглот и полигам – это одно и то же? А летаргия вправду бывает? И как это факира закапывают в землю, а он остается жив?
Почему иногда говорят, что еще маленький и не поймешь, а иногда – что здоровенный оболтус, должен уже понимать?..
И мы разговариваем, болтаем о том о сем, и даже этот взрослый скандал не слишком нас интересует, у нас свои собственные важные дела, один видел, другой читал в книжке или в газете, а третий слышал по радио, на улице, от приятеля, у каждого были какие-то происшествия, встречи, трудные минуты, – вот и обмениваемся мнениями.
Наши разговоры то клеятся, то не клеятся, нет у нас ни председателя, ни повестки дня, мы и сами не знаем – научное мы общество или не научное. Самый младший тоже придет, послушает и как-то по-своему поймет. И не надо говорить «малый» – это обидная снисходительность.
У детей обычно жизнь взрослых на втором плане, у взрослых – жизнь детей на втором плане. Когда же настанет то счастливое время, когда жизнь взрослых и жизнь детей окажутся равноценными?







