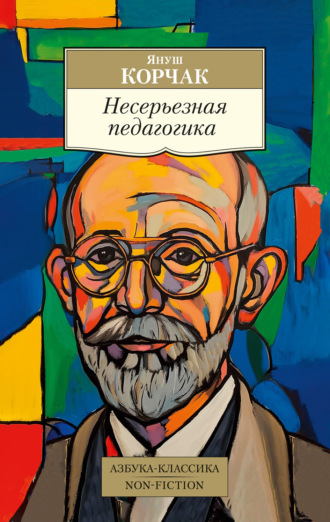
Януш Корчак
Несерьезная педагогика
Ребенок наблюдает за собой, анализирует свои поступки. Только мы этого детского труда не замечаем – не умеем читать между строк в мимоходом брошенных фразах. Хотим, чтобы ребенок поверял нам все свои мысли и чувства. Сами не слишком склонные к откровенности, не желаем или не умеем понять, что ребенок намного стыдливее, уязвимее нас, острее реагирует на грубый контроль за движениями его души.
– Я сегодня не молился, – говорит Стефан.
– Почему?
– Забыл. (Пауза.) Если я умываюсь утром, то сразу потом и молюсь, а если не умываться, то и помолиться забываешь.
Не моется он из-за чесотки.
Трудность представляет для него вежливая форма с «пан». «Угадай пан», «подожди пан», «не говори пан» – наряду с «пускай пан угадает…»[7].
А то бывает:
– Пан бы себе писали, а я тут болтаю и пану мешаю.
О санках я упомяну в том самом разговоре обо всем сразу. Скоро, наверно, и снег-то растает. И хорошо вышло, что я не сделал ему замечание. Вот, оказывается, отчего он подзабросил занятия:
– Я так боялся в мастерской, что мастер почует запах мази. Он – сюда, а я – в другой угол. А утром катался на санках, чтобы выветрилось.
Две приютские привычки: Стефан смеется тихо, прикрывая рот.
– Почему ты не хочешь громко смеяться?
– Воспитательница говорит – некрасиво.
– Может, потому, что там много детей и она боится шума…
Вторая: каждый день оставляет на столе кусочек баранки и чай на донышке. Видно, что-то за этим стоит.
– Скажи, Стефек, почему ты всегда оставляешь?
– Нет, я доедаю.
– Слушай, сынок, если ты не хочешь сказать почему – не говори. Бывает, что неохота о чем-то рассказывать. (Право на тайну!) Но ты оставляешь.
– Ну… говорят, что, если все съедать, подумают, будто ты целый год не ел.
Увидев, что и это признание далось ему с трудом, я больше не приставал. Сам того не желая, я его задел. Мне бы тоже было неприятно, если бы я похвастался знанием светских норм и вдруг обнаружил, что меня ввели в заблуждение.
– Пан доктор, я хочу писать большое «К» так же, как вы.
В Доме сирот многие дети подражали моему почерку. Взрослые буквы лучше, выше ценятся. Помню, как долго я бился, чтобы научиться писать большое «В» так, как отец писал на конверте в слове «Варшава». Я думал впечатлить учительницу, а получил нагоняй.
– Вот когда сам станешь отцом, тогда и пиши как вздумается.
«Но почему? Чем она недовольна? Что в этом плохого?» – я был удивлен и уязвлен.
Сегодня, во время диктанта, пришел фельдшер с бумагами. Я не заметил, что Стефан внимательно наблюдает за тем, как я пишу. А он наблюдал: после ухода фельдшера стал писать с такой скоростью, что прочитать сие и мечтать было нечего.
Как учитель я вижу лишь три чудовищно небрежно написанные строчки, а как воспитатель – попытку взбунтоваться против собственного несовершенства: «Я хочу писать так же быстро, как ты, хочу быть на тебя похожим».
Что ж, попробуем.
– Смотри, какие тут у тебя каракули. Бамс-блямс-трямс… Почему эти три строки так плохо у тебя вышли?
– Не знаю. (Смущенная улыбка.)
– Может, ты устал?
– Да нет.
Не хочет лгать, а правды сказать не может.
Проверяем его успехи в беглости чтения. Так как мы теперь читаем книгу с более мелким шрифтом, пришлось считать буквы.
– Там было тридцать семь строк по семнадцать букв – это значит шестьсот двадцать девять букв. Ты их прочел за двести десять секунд – это значит три буквы в секунду. А здесь шестьдесят пять строк по двадцать семь букв – ты прочел их за шесть с половиной минут. Получается почти пять букв в секунду.
Это не произвело на него особого впечатления. Хотя он с любопытством следил за моими подсчетами.
Перед тем как уснуть:
– Поцеловать тебя на ночь?
– А что я, святой?
– А разве только…
– Или ксендз, или еще кто?
– Я когда читаю, люблю встречать легкие слова: «ворота», «доволен», «покатала». И бесят меня всякие там «тщедушный», «дождливый»…
Легкая задача; решал более трудные, а теперь путается – ошибается. Что за черт?
– Ой, пан доктор, – вон коросточка.
– Где?
– Вон тут. (Показывает на шею.) Это не чесотка?
– Нет, завтра выкупаешься – и все пройдет.
И вот уже щелкает задачки как орехи.
Одиннадцатый день
Когда я надел синие очки, Стефан шепотом спросил:
– Очень болят глаза?
Шепот и улыбка – только благодаря Стефану я обратил на них внимание, в интернате не заметил бы.
– Я здоров, а вы больны, – сказал он вечером.
Это прямодушное выражение сочувствия. Мы говорим красивее, но чувствуем слабее. Я благодарен ему за эти слова.
Не знаю, почему он сказал:
– Сейчас я совсем не думаю о брате.
– Это плохо, ты должен думать об отце и брате.
Гнусная война.
Он плакал, когда я уезжал в больницу. Думаю, это из дома: полагается плакать, когда уходят в больницу, умирают.
В больнице он навестил меня вместе с Валентием.
– Пан доктор, а те офицеры тоже больные?
– Да.
– Глазами?
– Нет, разными болезнями.
– А в карты они на деньги играют?
Несерьезная педагогика
Радиобеседы Старого Доктора
Вступление
В «Правилах жизни» я обратился напрямую к детям.
Излагая содержание цикла лекций в небольшой брошюрке, я назвал ее «Право ребенка на уважение».
Главная мысль: ребенок – такой же, как и мы, полноценный человек.
Эта радиоболтовня – еще одна попытка, шутливая.
(Приглушите – осторожно с радиоволнами!)
Виткевич[8] сказал: «В сущности, чем ближе узнаешь крестьянина, тем он менее различим, тем менее существует».
Амьель[9] сказал: «Позволим жизни свободно идти вперед. Следует отринуть озабоченность, тревожность, педантизм, сделаться молодым, ребячливым, быть благодарным и доверчивым».
Без педантизма, но вооружившись доброжелательностью и доверием, видеть в ребенке человека. Не пренебрегать.
Деревня – город
Зимой горожане задыхаются в духоте душного городского воздуха. Их закопченный городской организм, изнуренный пылью и изнурительным городским трудом, тоскует по лону природы. Зима состоит из долгих городских вечеров, четырех стен и четырех времен года: радостной весны, знойного лета, снежной зимы и ненастной осени…
Тьфу, что за бессмыслицу я тут понаписал! Зима состоит из зимы, четырех стен и четырех времен года. Духота закопченной духоты…
Мне и в школе не давались сочинения. Впрочем, первые фразы всегда сложно придумать…
О, знаю. Вот как я начну.
Каникулы и молодежь… Нет, не так. Каникулы! Молодежь и школьная детвора отправляются… с гомоном отправляются… прочь за городские стены, в летние лагеря… из стен… да, в горы, на море, озера, заниматься спортом, на экскурсии. Пыльные, зачитанные школьные учебники…
Э-эх… Вновь ерунда получается…
В молодости я ездил с детьми в летние лагеря. А теперь вот сижу один. Да… Tempora cavant lapidem[10]. Что ж, сижу один, поистрепанный. Теперь – тихая деревенская усадьба, пансионат, простокваша, книжка, свежие яички всмятку прямо из-под курицы.
Я тоже, я тоже хочу в горы. На будущий год? Купил два фолианта по минералогии – буду готовиться. Геология – это вам не лыжи. Скалы, гранит, формации, монолиты… Не лыжи. А вы что думаете!
Молодые тоже не застрахованы. Спорт…
Навещаю их (знакомых) зимой. Звоню. Дверь открывает прислуга.
– Дома хозяин?
– Нет, в больнице, в травматологии, – машину занесло.
– А хозяйка дома?
– В горах – еще не вернулась, лежит, ногу сломала.
– А ребенок?
– Пошел с бонной к доктору – катался на саночках, вывихнул ребро.
Все так. Влекут горы, зовут. Мне бы с камешками поговорить – с людьми не очень получается. И не то чтобы я не хотел – это какой-то врожденный изъян.
Вот, к примеру, три года тому назад в пансионате. Решил сразу же, с первого дня, наладить добрые отношения. Выхожу на веранду. Вежливо улыбаюсь, представляюсь – так, мол, и так, замечаю:
– Хорошая сегодня погода.
А она в ответ:
– Погромче, пожалуйста.
Я еще раз, громче:
– Хорошая сегодня погода.
Она снова просит погромче. Как-то неудобно трижды повторять, что – ну разумеется! – погода хороша… В сущности, пустяк, но вот – неловкость с первых минут… А потом говорят – нелюдим.
Ну ладно. Два года назад, тоже в пансионате. Тут уж я решил быть осторожнее. Выходил не раньше чем к завтраку. Но вот соседка по столу роняет на пол ложечку. Я любезен, быстро нагибаюсь, поднимаю – и хлоп головой о поднос, который несет Марыся, а та, видно, новенькая, неловкая; чашки подпрыгнули, кофе и сливки разлились, соседка прошипела: «Не стоило утруждаться». И убежала – переодевать белое платье.
Тоже пустяк, но я обескуражен. Не виноват, а все равно показал себя растяпой.
В прошлом году я был еще осмотрительнее. Но ближе к вечеру они сами со мной заговорили – дама и молодая барышня. (Кофе поблизости нет, обе хорошо слышат.) «Лето обещают хорошее», «Деревня – это вам не город»… И черт меня дернул с милой улыбкой спросить у старшей:
– Это ваша дочка?
У-у-у! Та прищурилась – льдинки, северный ветер:
– Неужели же я похожа на мать такой взрослой барышни?!
На следующий день сижу я на скамейке с дочкой супруги адвоката (развитая, общительная девочка), она издали показывает пальчиком на эту даму и говорит:
– О, эта тетенька, вон та, сказала про вас… но я не скажу что. А я тоже один раз болванку видела, для шляп, вот!
Так что на сей раз я выбрал себе самую укромную комнатку. Хотя хозяйка отговаривала – эта, мол, темная, а есть солнечная, на втором этаже. Ничего-ничего. Отнес чемодан. Умылся. Пошел знакомиться с окрестностями.
Встретил хозяина пансионата. Там лес. Тут речка. Тишина.
Спрашиваю его:
– Климат здоровый?
– Не шибко.
– Почему?
– Говорят, малярийное место.
Спрашиваю:
– Кухня хорошая?
А он:
– Жена проследит, если камни в печени не будут докучать; мне нравится.
Спрашиваю:
– А клопы есть?
– А как не быть? Есть. Гости с вещами навезли.
– А публика (хозяйка говорила) приличная?
– Какое там, всякий сброд.
Упоминаю свою комнату. Удивляется:
– Эту дала? Отберет, наверное.
Говорю:
– Нет, я уже занял.
– Это ничего не значит – уединенную комнату просили молодожены; она вам еще лучше даст.
– Но я не соглашусь.
– Согласитесь.
Я прошу его поговорить с женой. Чтобы оставила меня в той комнате.
Не хочет:
– Это ее дела, я не лезу, только помогаю ей немного.
Мы явно друг другу понравились. Открываю ему секрет: что намерен, должен, хочу тут программу для радио, вот… Как бы это устроить?
– Гм. Непросто. Хотя кто знает, если вы жене понравитесь… Она тогда поспособствует вашей работе.
– Ну да. А что надо сделать, чтобы ей понравиться? У меня ведь времени мало.
– Зайдите к нам вечерком, попросите у нее иголку с ниткой. Спросит зачем – скажете, что оторвалось, надо пришить. Женщины умиляются, когда мужчина шьет. Сразу скажет: ну что вы, мол, она сама с превеликим удовольствием, и получится у нее ловчее; расчувствуется, все простит, посоветует, сделает. У вас есть что-нибудь рваное? Мможет, пуговицу надо где-нибудь пришить?
– Ясное дело…
Тихо. Деревья шелестят. Вдали коровки пасутся. Петух в деревне прокричал.
– Так это будет программа для детей, о детях… Об этих, наших? – спрашивает.
– Ага.
– А что о них можно интересного рассказать? – удивляется.
– Посмотрю, подумаю, пока не знаю.
– Доктор, – говорит он, – я их, – говорит, – наблюдаю каждый год и диву даюсь. Вот увидите, есть тут одна девчушка – от горшка два вершка, а с претензиями, да еще какими: и удобств нет, и жестко, и темно, и дождь, а она ведь деньги платила, имеет право… Кучеру устроила скандал – обещал хорошую погоду, а она на прогулке промокла. Словно мы тут, в деревне, обязаны предсказывать погоду и урожай. Сами увидите. Вот о ней бы рассказать; ее тетя была на Ривьере, она знает…
– А мальчишки?
– А что мальчишки? Камнями в кур швыряются, ветки ломают, все равно ведь осенью уедут. Ну что вам сказать? Такой народ, ничего им не жалко. Сами не сажают, не сеют. Всё только покупают. Мы, деревенские, должны, а вам причитается. Жена велела сделать волейбольную площадку. Нет, мало. Купил сетку. Мало. Подавай еще мячи и велосипеды.
Я успешно выступил с защитной речью.
Раздосадованный, он признал, что не все такие, даже не большинство, но именно эти немногие мозолят глаза и запоминаются.
– Они просто не понимают: нужно, можно им объяснить. А можно родителям.
Он махнул рукой.
Тогда я спрашиваю:
– А взрослые?
– Удивительно, как они еще не спалили тут все. Опять пришлось дюжину пепельниц купить. Каждый год траты: баки для горячей воды, шезлонги, граммофонные пластинки…
– А платят?
– Когда как. Каждый год жена надеется, что уж нынче в убытке не останемся.
– Ну хорошо. Однако же, согласитесь, это хоть какое-то разнообразие в монотонной жизни.
– Нет. Каждый год одно и то же. Теперь меня развлекают уже только их драгоценные советы. Один рекомендует разводить бобров, другой – тутовые деревья. Или устроить пруд, пустить рыбу. Сыры, раки и консервы на экспорт. А вот еще – скрещивать. Например, жаворонка с соловьем – зачем нам заморские канарейки? Лошадей предлагают кормить хлопком, а из молока ткать ковры. Теперь сплошные машины да прививки. (Он видел в кино тракторы.) Например, привить дыню на дуб. А что, занятно – получились бы с горчинкой. А один был в Дании и видел: куры в инкубаторах несут по три яйца в день. Или еще табачные плантации. У нас-то что – отсталость, ретроградство и расточительность. А луга? Вот зачем столько места – весь луг – засевать травой и поливать? Лучше осушить, чтобы комаров не было. А ездить на бричке, когда можно на автомобиле? Один бывший депутат мне даже железную дорогу обещал.
Я приуныл. Говорю:
– Ну да. Всякий вздор несут – оттого что не знают.
– Нет, – возразил он живо. – В городе знают, всё знают. Как пить дать, отличат люпин от ячменя, козла от зайца. Знают они всё, газеты читают.
– А вы?
– И я выписываю. Зимой иногда просматриваю, но в основном просто поддерживаю прессу. Слишком мудрено. Я предпочитаю книги. Да, доктор, с мозгами нынче кризис. Нам нужен какой-то обучающий курс по рациональной реализации эксплуатации и интерпретации регистрации.
Мы замолчали. Призадумались.
– Вот, поглядите, мальчонка с палкой. Мать о нем говорит – непоседливый ребенок. Вы должны с ним познакомиться поближе. Это нечто.
– Небось плохо ест?
– Угадали. С самого рождения. А что, у вас в городе правда приходится детей уговаривать поесть?
Тишина. Я остановился. Мы посмотрели на поле и луга. Первый день. Деревня. Красиво. Гляжу. Тихо.
«Что это за дерево?», «Какая это птица поет?», «А вот это как называется?» – спрашиваю.
А он – вежливо, мягко, благожелательно:
– Видите?
– Где?
– Там, на лугу, во-он, то, что движется? Четыре ноги, рога и хвост?
– Вижу.
– Это, доктор, знаете что? Это коровы.
– Коровы?
– Да-а.
– Я знаю. Вы думаете – не знаю, не видел никогда?
Он улыбнулся и говорит:
– Ну и отлично. А то я подумал… вдруг не знаете?
Дошкольник
Уже назавтра судьба свела меня с дошкольником. (Тот самый непоседливый ребенок, который плохо ест.)
Познакомила меня с ним мать. Сказала:
– Подай пану доктору ручку, поздоровайся.
Он смерил меня недоверчивым взглядом (гримаса), повернулся боком.
– Ну же, будь хорошим мальчиком.
Протягивает два пальца левой руки.
Мама:
– Нужно подавать правую, и не только пальчики – всю ручку. Будь же хорошим мальчиком. Пан доктор любит воспитанных детей.
– Так он доктор?
– Некрасиво говорить – он. Нужно говорить – пан.
Желая смягчить неприятное впечатление, говорю:
– Он меня не знает; зачем заставлять, если не хочет здороваться?
Ведь если ребенок при первой встрече с новым человеком поворачивается боком, подает левую руку – два пальца – и сразу отдергивает, это верный признак: он не желает, чтобы его гладили по головке и, боже упаси, целовали, чтобы задавали вопросы. И даже чтобы разглядывали, не слишком-то хочет (точнее, вовсе не хочет).
Много лет назад одна мама сказала: «Не бойся, ты подружишься с этим дядей». Ребенок тоже смерил меня взглядом и возразил: «А чего мне с ним дружить – он мне не компания».
А еще очень-очень давно было дело, в саду: играет возле скамейки мальчик (я сидел на этой скамейке, а его мама – на соседней). Он мне понравился, похож на маму, тоже прехорошенький; я и говорю:
– Здравствуйте, молодой человек.
Он удивился, отступил на несколько шагов, нахмурил брови, мячик держит под мышкой, смотрит и молчит.
Мама ему:
– Почему ты не отвечаешь? Некрасиво, с тобой ведь поздоровались.
Презрительно пожал плечами:
– А чего я буду отвечать? Я его не знаю, какой-то чужой человек.
Это было очень давно. Уже тогда наметилась (хотя и не достигла такой глубины, как теперь) пропасть между поколениями.
Впрочем, и я тогда был привлекательнее…
Вторая встреча с дошкольником. Клумба. Он один. Я любуюсь анютиными глазками.
Он:
– Дай конфету.
Разглядываю себе желтые анютины глазки.
Он:
– А что ты тут делаешь? У тебя есть часы? Я могу завести.
Я:
– Нашел дурака.
Он:
– Нельзя рвать цветочки.
Я:
– Знаю.
А он:
– Ну так дай конфету.
Отвечаю небрежно:
– Если бы даже у меня были конфеты, я бы их с собой не носил, держал бы в комнате.
А он:
– Ну так пойди и принеси, я могу тут подождать.
Говорю:
– Ты меня не понял, это было сослагательное наклонение; нет у меня конфет, есть шоколад.
Удивился, но готов пойти на компромисс:
– Ничего, шоколад я тоже могу съесть.
– Не сомневаюсь, что можешь, если б я тебе дал, но я не дам.
– Почему?
– Потому что он вкусный, я лучше сам съем.
Он долго взвешивает мой ответ, я продолжаю любоваться анютиными глазками.
Отходит на несколько шагов, спрашивает:
– Дашь?
Отрезаю:
– Нет.
Он:
– Ну и дурак.
Я:
– А ты грубиян.
– Сам грубиян.
Вот так и поговорили. Он наподдал палкой по цветам и ушел.
В третий раз мы встретились в тенистой (кажется, грабовой) аллее. Иду себе, рядом собака, он следом. Догнал, спрашивает:
– У вас есть перочинный ножик?
– Нет.
– А авторучка?
– Нет.
Пауза.
Слева собака, справа он, я посередке. (И тенистая аллея.) Он лупит палкой по листве и говорит:
– Что ни возьму в руки, все испорчу.
– Очень даже может быть.
Пауза. Собака, я, он.
– А я послушный?
Я:
– Не знаю, я с тобой не знаком, ты чужой мне человек.
Удивился:
– Я человек?
– Ну да, у тебя же две ноги.
Пауза.
– У курицы тоже две ноги.
– Но рук у нее нет, зато есть перья и клюв.
– Ну да, – соглашается он.
Собака (все та же, черная с белыми пятнами), тихий деревенский вечер и я.
А он снова:
– Я послушный?
Я остановился, смерил его взглядом с головы до ног, несколько секунд подумал.
– Не знаю. Я тебя пока не знаю.
– Вы меня еще узнаете, я безобразник, я у всех сижу в печенках. Со мной говорить – что об стенку горох. Со мной лошадиное здоровье надо иметь.
– Ого!
– Да, я наказание божье, непоседливый ребенок, я трудный, просто мучение, вылитый отец…
– Кто тебе это сказал?
– Мамочка. Моя мама. У нее голова раскалывается; не верите?
– Почему не верю? Верю.
– Я мамочку в гроб загоню, а папа говорит, что я фрукт и уникум.
– Фрукт, смею предположить, ты тот еще, но, увы, не уникум.
Пропустив мимо ушей мое ехидное замечание, продолжает с некоторой грустью:
– Ничего из меня не выйдет, я стану хулиганом и бандитом.
– И кто тебе такое сказал?!
– Прислуга. Из-за меня уже три девушки от нас ушли, но мама только об одной жалеет, потому что она хорошо готовила. Ее чуть удар не хватил.
– Из-за тебя?
– Угу. Поглядите, вот здесь я вчера порезался; но на мне все заживает как на собаке. Меня черту подарить – так и тот откажется. Разве хорошо так говорить?
– А кто так говорит?
– Мой вылитый отец. Правда же, у меня красивые глаза?
– Не знаю, я не глазник.
– Все тети говорят… и что жизни стану ломать.
– Не понимаю.
– Я тоже не понимаю. Но я в любую дырку влезу, и на крышу тоже, чудом не убился; я все знаю. А вы тоже все знаете?
– Нет, я очень мало знаю, хоть я и тертый калач, водку пил, а ума не набрался.
– И я пил водку, она щиплется, надо привыкнуть; и пиво горькое, но мужчина должен привыкать. А я человек?
– Ну конечно человек, существо непостижимое.
– Я знаю, какая рука правая, а левую невежливо подавать… А я одному дяде вымазал брюки медом и разбил пенсне. Он все спрашивал, кого я больше люблю – маму или его.
– А ты что?
– Я говорил, что люблю их, когда они хорошо себя ведут.
– А он?
– Смеялся. Я вечно кривляюсь, чтобы все смеялись.
– А ты любишь кривляться, чтоб над тобой смеялись?
– Терпеть не могу.
Мама позвала его спать, а он:
– Спрячь меня.
– И не подумаю.
– Ну и ладно, без тебя обойдусь. Буду носиться как угорелый.
Так и сделал. Потом бросился на песок и стал в нем барахтаться; даже собака подошла, обнюхала, чихнула и отошла в недоумении. А когда мать повела его мыться («Как ты выглядишь, на кого ты похож, что о тебе подумают, стыд какой!..»), вырвался, вернулся и подал правую руку:
– Я просто так бесился. Спокойной ночи, пан доктор.
Может, и вправду уникум?
Влез в окно, рассыпал мой табак. Хорошо, что у меня солнечная комната с плетеным креслом на втором этаже.
Финал – под сосной на полянке.
Читаю в шезлонге. Неподалеку играют дети.
Подходит:
– Что ты читаешь?
– Ты же видишь – книжку.
– Сказки?
– Минералогию. Не мешай.
– А картинки там есть?
– Есть. Но ты не поймешь.
– Покажи.
Я показал.
– Я кормил слона и не боялся: хочешь со мной побоксировать?
Говорю строго:
– Уйди, я сейчас не хочу с тобой разговаривать.
– Ты сердишься?
– Нет, но я читаю.
– Хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, да? А то у мамы ни минуты покоя нет.
– Я хочу не минуту, а два часа покоя.
– Тогда поноси меня на закорках – у меня сегодня плохой день.
– У меня тоже.
– Дай очки.
– Брысь отсюда, слышишь?
Слышит – отскочил и кинул в меня шишку.
Медленно, по слогам произношу:
– Повторю тебе два раза: у-хо-ди. Два раза повторю, а потом…
– Дашь мне по лапам?
– У тебя руки, а не лапы.
– Дашь мне пенделя?
– Нет. Пендель – иностранное слово, некрасивое. Я считаю до двух, а потом шлепну по руке (не по лапе). Раз!
– Раз?
– Да.
– А ты сильно бьешь? Я – кулаками, а еще кусаюсь и плююсь.
– Первый раз говорю: уходи.
Отодвинулся. Делаю вид, что читаю, а сам наблюдаю.
Опять бросил в меня шишкой. Уходит, возвращается, стоит, смотрит; снова кидает шишку.
Говорю:
– Уйди, ставлю тебе ультиматум: второй и последний раз, помнишь?
Я напрягся, изготовился; притворяюсь, что читаю, книгу держу левой рукой, правая начеку. Бросает. Вскакиваю, хватаю его.
– Пусти!
– Отпущу, но не сразу.
– Пусти, а то укушу.
– Ты не крокодил.
– Крокодил. Сейчас плюну.
– Это не смертельно; меня кусали больные дети и плевали на меня, а ты здоровый.
Придавил его, держу – получилось; книжку кладу на шезлонг, обе руки свободны. Сажусь, не показываю, что запыхался.
– Хочешь получить по правой руке или по левой?
– Пусти!
Дети перестали играть, смотрят (классовая солидарность перед лицом опасности). Я волнуюсь: удар должен быть метким, верным – вдруг рука дрогнет, промажу? Он извивается, вырывается. Но решил, бедняга, набрать воздуха перед вторым раундом. Я ловко воспользовался этим и – раз! Он вырвался, отскочил, пнул землю, выпалил:
– Ты сопляк невоспитанный и упрямый щенок! – и яростно бросился на детей.
Ретировались даже двенадцатилетние.
Нельзя ни бить, ни сердиться.
Читаю: «Возьмем в дождливый день с протоптанной дорожки вблизи промышленного города унцию самой черной земли. Она состоит из глины, смешанной с сажей, песком и водой. Все эти элементы находятся в состоянии взаимной беспомощной войны, уничтожая природу и мощь друг друга… Песок вытесняет глину, глина выжимает воду, сажа все грязнит. А если оставить их в абсолютном покое, из глины возникнет сапфир, из песка – опал, из сажи – алмаз; три драгоценных камня, способные отражать все лучи солнца, в оправе снежной звезды»[11].
Хозяйка собственноручно пришила мне три пуговицы. Гора с плеч. Я получил разрешение рассказывать обо всем, с условием не упоминать, где это происходит, и не называть имен. И ни слова о взрослых – только о детях до четырнадцати. Все безымянные – и река, и собака, и ближайшее местечко. Иначе я окажусь сплетником и клеветником, мне откажут и прогонят с дачного двора, из пансионата, из усадьбы.
Я последовательный и беспощадный враг телесных наказаний. Порка, даже для взрослых, – наркотик, но никогда не средство воспитания. Ударивший ребенка – палач. Без предупреждения – никогда; только как средство самозащиты – раз! – по руке, и притом без гнева (если по-другому никак не получается).







