
Элизабет Хэнд
Бренная любовь
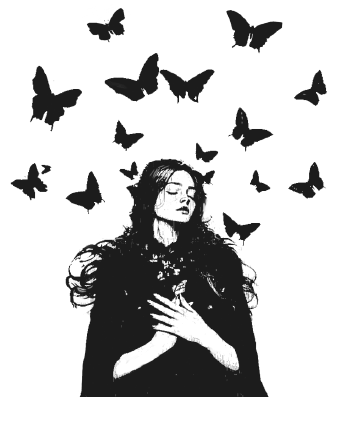
Дэвиду Стрейтфельду
Если тени оплошали,
То считайте, что вы спали
И что этот ряд картин
Был всего лишь сон один.
Шекспир. Сон в летнюю ночь (пер. М. Лозинского)
Как сгорает в пламени лист
и в зелени проступают
жилки; главная в центре
и тонкие – в глубине,
Так и мир случается дважды:
сперва – как его мы видим,
а потом как он есть, сотворяясь
из глубины легенд.
Уильям Стаффорд. Двойной фокус[1]
Если потусторонний мир наведывается в тот, где обитаем мы, ночью, это называют сном. Если же он проникает к нам днем, это называют болезнью.
Роберт Шуман
Художники склонны к концу жизни превращаться в пессимистов.
Хоуп Мирлис. Луд – Туманный
Elizabeth Hand
Mortal Love
This edition is published by arrangement with Sterling Lord Literistic, Inc. and The Van Lear Agency LLC
Copyright Elizabeth Hand © 2004
© Екатерина Романова, перевод, 2024
© Василий Половцев, иллюстрация, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
От автора
Благодарю Художественную комиссию штата Мэн и Национальный фонд искусств за грант, позволивший мне написать эту книгу.
Бесконечная благодарность моему агенту, Марте Миллард, которая по сей день остается владелицей единственного в мире литературного агентства полного цикла. От всего сердца благодарю моего редактора, Диану Гилл, и Дженнифер Брель (обе из издательства «Уильям Морроу»), а также моего прежнего редактора Кейтлин Бласделл, прочитавшую когда-то первый черновик этой книги.
За последние пять лет разные люди читали разные версии этой книги, и каждый предлагал, как можно ее улучшить. Я в неоплатном долгу перед Питером Страубом, Джоном Клютом, Бобом Моралесом, Полом Уитковером, Биллом Шихеном, Эдди О’Брайеном, Эллен Датлоу, Кристофером Шеллингом и особенно перед Джоном Краули.
В темные времена меня всегда поддерживал мой друг Бен Смит. К сожалению, он не успел увидеть эту книгу на полках книжных магазинов, но без него я не смогла бы ее закончить.
Джудит Клут круглосуточно помогала мне с проверкой лондонских реалий. Майк Харрион подсказал правильную терминологию для описания корнуолльских утесов близ Тинтагеля. Джудит Бил открыла для меня портал в Хайбери-филдс, а Энн Уитмэн – в Масуэлл-хилл. Шлю им горячий привет и благодарности, как и всем остальным моим друзьям и многочисленным родственникам на севере Лондона, неустанно делившимся со мной своими знаниями и временем. Особенно я признательна Джону Клуту, моему гиду по Кэмден-тауну, северной части Пенуита и другим местам.
«Бренная любовь» – волшебное дерево, уходящее корнями в реальный мир. До нас дошло бесконечное количество сведений о Братстве прерафаэлитов и их круге общения. Я старалась черпать сведения из первоисточников и воспоминаний современников, включая, помимо прочего, «Воспоминания об Эдварде Берн-Джонсе» Джорджианы Берн-Джонс, письма Алджернона Суинберна, книгу «Домашняя жизнь Суинберна» Клары Уоттс-Дантон и переписку Джона и Эффи Рескина с Джоном Эвереттом Милле, приведенную в книге Мэри Лютьен «Милле и Рескины».
«Влюбленные прерафаэлиты» Гэй Дейли и труды Иэн Марш, включая ее «Прерафаэлиток», оказались настоящим кладезем сведений о женской половине БПР. В свое время откровением стало для меня и «Искусство умалишенных» Джона М. Макгрегора, как и его последующие труды, посвященные художникам-визионерам. Информацию о британских сумасшедших домах девятнадцатого века я черпала в работах Джанет Оппенгеймер, Эллен Дуайр, Эндрю Скалла и В. Ф. Байнима. Если вы хотите побольше узнать о любви викторианцев к фейри, рекомендую прочесть «Странные и волшебные народцы» Кэрол Г. Сильвер, а также просмотреть каталог Королевской академии художеств к выставке 1999 года «Викторианская сказочная живопись». За биографическими сведениями о великом художнике-сказочнике Ричарде Дадде я обращалась к книгам Патрисии Олдридж («Поздний Ричард Дадд») и Дэвида Грейсмита («Ричард Дадд: Скала и замок Уединения»). Из книги «Британские фольклористы: история» Ричарда М. Дорсона можно узнать много интересного о различных собирателях фольклора, в том числе о леди Уайлд и Эндрю Лэнге.
Предание о короле Герле («Пес еще не спрыгнул») основано на истории «О короле Герле» из «Забав придворных» Вальтера Мапа и записано Кэтрин Бриггс в томе первом «Словаря британских народных сказок». Существует несколько обработок «Сватовства к Этайн», в том числе версии леди Грегори и леди Уайлд. Отрывки из «Короля Орфью» взяты из книги «Бретонские лэ в среднеанглийском языке» под редакцией Томаса Рамбла. Любые ошибки и неточности в тексте допущены исключительно по моей вине и будут исправлены при дальнейших переизданиях.
Больше о книге можно узнать на моем сайте:www.elizabethhand.com.
Часть 1. Зеленая дева
В 1839 году первый председатель Межобщественного совета по цвету И. Н. Гэтеркоул опубликовал статью «Система обозначения цветов», в которой говорилось: «Требуется разработать… такую цветовую систему, которая была бы в должной мере стандартизирована для использования в науке, в должной мере обширна для применения в науке, искусстве, промышленности и в то же время по возможности проста и понятна широкому кругу лиц».
При соблюдении надлежащих условий названия цветов хорошо подходят для разговорной речи. Применение иных источников света может привести к тому, что данные названия будут неточно отражать воспринимаемый цвет объекта.
Система обозначения цветов, разработанная Межобщественным советом по цвету
Глава 1. Пропала по обе стороны
Письмо было на немецком. Лермонт сразу узнал почерк своего давнего друга и коллеги доктора Гофмана, главного врача франкфуртской лечебницы для душевнобольных, в доме которого ему довелось гостить три десятка лет тому назад, в 1842 году. С тех пор они исключительно переписывались, несмотря на неизменные письменные заверения Гофмана, что Лермонту всегда рады в его доме, что супруга его Тереза шлет ему сердечный привет и что (в последнее время) трое детей их теперь уж не дети, а сами почти достигли того возраста, в котором некогда познакомились молодые врачи.
Мы теперь не узнали бы друг друга, Томас, прочел Лермонт. Молюсь, чтобы Время обошлось с тобой не так жестоко, как с вверенными мне несчастными душами.
Лермонт поднял голову и выглянул в окно постоялого двора, где он остановился на ночлег, – близ городка под названием Уоллингем, графство Нортамберленд. Слякоть лежала на кремнистой тропе, тянущейся вверх по отлогому склону к вересковым пустошам, почти неразличимым за зыбкой серо-белой мглой. Мы теперь не узнали бы друг друга. Томас Лермонт с невеселой усмешкой подумал, что, напротив, Гофман без труда узнал бы его, ведь за тридцать лет Лермонт ни на йоту не постарел. Он со вздохом вернулся к чтению письма.
Я пишу, дорогой Томас, дабы привлечь твое вниманье к одному прискорбному и непостижимому для меня случаю. Ты, несомненно, помнишь, что много лет тому назад попросил сообщать тебе о любых пациентах женского пола с определенными отклоненьями, каковые ты давно изучаешь и хотел бы научиться лечить. В моей больнице, как ты знаешь, в основном проходят лечение дети и молодые люди, коим душевные недуги доставляют немалые страдания на тернистом пути к респектабельной жизни. Пять месяцев тому назад ко мне поступила молодая особа. Ее привез, попросив не задавать вопросов о характере их отношений, один мой давний приятель. Ты, верно, понимаешь, о чем я толкую. Мой приятель – композитор, талантливый и подающий надежды, но не обретший пока широкой известности. Эта женщина разыскала его после того, как случайно услышала его произведенье у кого-то в гостях. Она представилась Изольдой, хотя мой друг полагает, что это лишь ее романтические выдумки, что в детстве она видела современную постановку сей оперы – грубейшее родительское упущение, я считаю! – и что в действительности зовут ее Марта.
Во Франкфурте у нее никого не было. Она сообщила, что ее бросил женатый любовник (это правда), однако временами она уверяла меня, что на самом деле это она бросила мужа. Не подлежит никакому сомненью, что она страдала dementia praecox[2] и, казалось, застряла в том возрасте между девичеством и зрелостью, когда девушки наиболее подвержены влиянью потаенных порывов души.
В повадках ее усматривались явные признаки половой инверсии; лицо иной раз обретало подлинно мужские черты – загадочная аномалия, коей я так и не нашел объясненья. Со мной она держалась развязно, от чего я пытался лечить ее водными процедурами. Именно на фоне водолечения она начинала вести себя особенно буйно, что натолкнуло меня на мысль тебе написать.
Нет, она не противилась, когда ее вели в душевую, и будто вовсе не замечала резких перепадов температуры водяных струй, которые делались то холодными, то горячими. Она разговаривала с водой. Из этих бесед мне стало ясно, что она воображает себя Ундиной. Как в стихах: «Видел русалок – прекрасных и странных? Волосы зелены, очи туманны…»
Лермонт ощутил знакомое биение в груди и вкус кислых яблок на языке, услыхал шелест ветвей на ветру.
Еще раз хочу напомнить тебе о вреде, каковой фантазии оперы подчас наносят женской душе! Судя по бессвязным речам Марты, она попеременно видела во мне то своего мужа, то любовника, а то и пленителя, что нередко случается с такими женщинами in extremis[3]. На четвертый день она так разбушевалась в душевой, что мне пришлось вколоть ей снотворное.
Лермонт спешно открыл последнюю страницу письма.
…продолжал вводить ей успокаивающее. Это останавливало припадки, но с каждым днем она все больше сникала и слабела.
Я уже начал составлять черновик этого письма, Томас, в надежде узнать твое мненье по данному вопросу и, возможно, просить твоей помощи, однако вчера утром меня разбудила сестра-хозяйка, прибежавшая ко мне домой с криками и известием, будто больница объята огнем. Я поспешил туда и обнаружил, что, слава богу, объята огнем не вся больница, а лишь одна палата. Палата Марты.
В этом огне она, увы, погибла, притом не одна. Когда пожар удалось потушить, я обнаружил на месте обугленные останки другого пациента. Дежурная медсестра заверила меня, что ни свечей, ни ламп в палате не оставляли: должно быть, он принес свечу с собой.
Много часов я просеивал останки и все же не нашел среди них никаких следов девушки, если не считать ее туфель. Мне еще предстоит выяснить, украл ли тот пациент ключ от ее палаты, или же она впустила его сама. Юноша он был безобидный, писал на досуге затейные сказочки, которые были мне по душе. Увы, все свои сочиненья он, похоже, унес с собой на тот свет, поскольку никаких бумаг в его палате я не нашел.
Судьба Марты – наглядный образчик пагубного воздействия низменных страстей на молодую женщину, чей норов еще не смягчен материнством и не усмирен остепеняющими объятьями мужа. Раймерих Киндерлиб, пожалуй, усмотрел бы некую зловещую иронию в ее судьбе, я же этого делать не стану. Когда я сообщил другу печальную весть, горе его было изрядно сдобрено муками совести. Мне нечего было отдать ему, кроме туфель той девушки и ее праха, который он обязался предать речным водам.
Итак, добрый мой друг, я глубоко сожалею, что по моей вине вы упустили возможность расширить свои познанья о женских одержимостях и, быть может, найти средство для их излечения. Надеюсь, моя оплошность не помешает вам и впредь считать меня другом, каковым я являюсь вот уже тридцать лет невзирая на разделяющее нас внушительное расстоянье. Я продолжаю с большим интересом читать любезно присланные вами статьи Лондонского фольклорного общества, хотя перевожу их медленно и, уверен, не без курьезных ошибок. Молю Господа о вашем здравии и уповаю, что мы еще не раз посмеемся вместе, как много лет тому назад, прежде чем Он заберет к себе наши души.
Всегда искренне ваш,Генрих Гофман.
Лермонт отложил страницы и дрожащей рукой вытер уголок глаза.
Пропала. Опять.
Когда он был еще ребенком, отец, уходя на охоту с друзьями, позволил ему выгулять в лесу их гончую. Пес был еще молод, не обучен командам и так ретиво влек за собой юного Томаса сквозь заросли ольхи и утесника, будто задумал удавиться кожаным поводком. Томас давно умолял отца взять его с собой на охоту и столь же настойчиво выпрашивал собаку.
Однако минуло несколько часов – и он возненавидел зверя. Ненависть его мешалась с жалостью к глупому и беспомощному созданию, чья жизнь целиком зависела от неловкого, выбившегося из сил мальчишки. Лермонт помнил, как стоял на вершине холма – пес рвался с поводка, хрипел, что-то ужасно клокотало у него в горле, – а летнее солнце уже катилось к мерцающей внизу реке. Когда он наконец разжал пальцы и выпустил поводок, пес с радостным взвизгом скрылся в чаще. Лермонт испытал гадкое блаженство. Он понимал, что именно он обрек пса и на страшные муки, и на долгожданное избавление, и что отец, возвратившись с охоты, накажет его – ведь поводок обязательно зацепится за низкую ветвь или корень и задушит пса.
Он побежал вниз, чтобы догнать гончую, однако было поздно. Тявканье потонуло в сумеречных звуках – плеске реки, криках лесных горлиц и далекой музыке охоты. Томас нашел на берегу дуб, рухнул на мох у его подножья и стал дожидаться возвращения отца.
Сегодня, на постоялом дворе, Лермонтом вновь овладела та горячка, он ощутил то же бурление крови в жилах. Он представил, как бедный Гофман растерянно глядит на дымящиеся в его руках туфли, расхохотался и нащупал в заднем кармане брюк ножницы.
«Ты так юн», – сказала ему женщина у реки. Он заснул и в первые мгновения подумал, что это его мать, а потом вспомнил, что мать умерла. «Совсем юн», – удивленно повторила женщина, опустилась на колени и положила голову на колени Томасу, длинными тонкими пальцами расстегивая ему брюки.
Сгинула, нет ее, подумал он и принялся исступленно кромсать ножницами письмо Гофмана. У него под рукой в жестяном подсвечнике оплывала салом свеча; когда стол усыпали бумажные обрезки, он начал скармливать их пламени, по две-три полоски зараз.
В Уоллингем он приехал, надеясь повидать другого своего приятеля, поэта Суинберна, однако тот, как выяснилось, сам уехал в Лондон. Пепел ложился на стол; Лермонт резко провел рукой по столу, взметнув его в воздух. Потом занес руку над свечой и медленно опустил к самому пламени, так что оно опалило кожу, и продержал так несколько секунд. Запах горелой плоти наполнил комнату. Наконец Лермонт охнул и уронил руку на стол. Пламя дрогнуло, но не погасло: капля прозрачного жира стекла по свече на стол. Лермонт стал крутить рукой, осторожно поднимая рукав сорочки и обнажая сетку из прежних шрамов – красных, голубоватых, белоснежных. Одни были в форме лепестков, как тот, что сейчас расцвел на ладони, другие расходились веером, образовывая отпечаток руки.
Он найдет ее. Отправится в Лондон и продолжит поиски: опросит всех членов Фольклорного общества и городской Комиссии по делам душевнобольных.
Стоило этой мысли прийти ему в голову, как он понял, что она тоже туда отправится, пусть и будет держаться подальше от Бедлама. Она отыщет Суинберна или какого-нибудь бедолагу вроде него, набросится, как сова на полевку, а после вновь расправит крылья в поисках следующей жертвы. Она окажется там быстрее него и будет путешествовать инкогнито: медлить нельзя, надо выезжать сейчас же!
Лермонт опустил голову и лизнул ладонь: кожа под языком так и горела. Затем он вернул ножницы с длинными ручками в карман брюк, собрал немногочисленные вещи и отправился искать экипаж.
Минуло несколько недель. Наступил декабрь, ночи казались бесконечными, особенно на севере Лондона. В узком переулке стоял, пьяно покачиваясь, поэт Суинберн.
– Ала, ала кровь! – пропел он вслух и засмеялся.
Вечером он побывал на встрече Клуба каннибалов в «Бартолини», где пили за сосланного в Триест Ричарда Бертона, и Суинберну пришлось зажать нос, чтобы не задохнуться от смеха над грубой шуткой, которую они сыграли с официантом. После ужина ему вздумалось прогуляться одному – он любил гулять, – и спустя несколько часов блужданий по лабиринту улиц, отделявших ислингтонскую армию конторских служащих в черных сюртуках от контор в Сити, он очутился здесь.
Поэт шагал и твердил себе под нос:
– Нет гаже ничего кругом, / Чем то, что пишем и чем срем. / На вонь плевать: свою елду / Суем что в жопу, что в манду. В любой…
Конторские служащие с наступлением темноты разбежались по тесным безотрадным улочкам, оглашаемым криками младенцев и неумолчным надсадным кашлем лондонской бедноты. Желто-зеленая ночная дымка несла склепную вонь великой реки, пролегавшей в двух милях к югу. С Хайбери-филдс долетали детские визги и музыка паровой ярмарочной карусели. Суинберн бубнил стихи и шагал, неистово размахивая руками, и порой с веселым или смятенным криком выписывал причудливые пируэты в попытке разминуться со встречными. Время от времени он извлекал из-за пазухи серебряную флягу с бренди – доставшуюся ему, кстати, от Бертона, – и отвинтив крышку, сперва помахивал ею перед носом, словно букетиком цветов, аромат которых мог бы перебить вездесущую вонь жареной рыбы, затем делал глоток и продолжал свой нетвердый путь сквозь зимний сумрак.
Он был невелик ростом, а рыжие волосы уже начали седеть от пьянства. Из-за малого роста и мелких черт лица его можно было легко принять за рядовую солдатку легиона женщин – прачек, проституток, девиц, – перепутавших понедельник с воскресеньем и предававшихся по этому случаю такому безудержному пьянству, что ему не раз приходилось перешагивать через их распростертые на дороге тела, вывалянные в грязи, с вывернутыми наружу нижними юбками, провонявшими рвотой и спермой.
– …в любой грязи, в любом дерьме / Найдется нам, что отыме…
Он визгливо хихикнул, увидев впереди болтающуюся на ветру вывеску кабака. На доске были изображены две руки, в каждой по стакану, над фонтаном белой пены.
МЫШЦЫ ВЕЧНЫЕ[4]
Кладезь Св. Друстана
– В бога и богородицу! – напевно выругался Суинберн, затем умолк.
Под вывеской стояла женщина. На ней была тяжелая шерстяная накидка поверх строгого черного платья, потрепанного, но из хорошей материи, – платья экономки. На голове ни шляпки, ни косынки; волосы собраны в тугой пучок над высоким гладким лбом. Когда Суинберн подошел ближе, незнакомка не отвернулась, а, напротив, подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза.
– Медуза! – возопил Суинберн, прижав ладони к щекам. – Свинолебедь! Ах, чтоб меня! Бедняжка!
Женщине полностью разъело нижнюю челюсть, а на месте подбородка торчала шпора из оголенной, черной, мягкой с виду кости, похожая на обугленную деревяшку. Однако взгляд льдисто-голубых глаз незнакомки в тусклом свете кабацких окон казался лукавым и насмешливым, а говорила она ласково и подобострастно.
– Меня за вами прислала госпожа, сэр.
– Госпожа? Хороша! – Суинберн потуже запахнул плащ и уставился на женщину. – Фосфорный некроз? Ах, фу-ты ну-ты! Бедняжка Фосси!
Он потянулся было за монетой – человек он был добрый, особенно в подпитии, – однако незнакомка покачала головой и схватила его за запястье. Поэт тотчас отдернул руку. Женщина засмеялась.
– Не надо денег, сэр… Ступайте за мной!
Руки она спрятала под плащ; он заметил, что она без перчаток, зато от его внимания ускользнуло, что ее ногти светятся голубым, как язычки газового пламени.
– За вами? – переспросил он.
– Да.
Она склонила голову набок, показывая ему свое изувеченное лицо. Суинберн сглотнул ком в горле, подумав, какую чудовищную боль ей приходится терпеть, ощутил мимолетный проблеск влечения и молча кивнул. Женщина вышла на улицу. Быстро оглянувшись, она поспешила в проулок – такой узкий, что выступавшие с обеих сторон свесы крыш встречались и полностью загораживали сумеречное небо.
Суинберн пошел следом, слыша впереди эхо ее шагов. Проулок петлял, с каждым изгибом становясь все темнее и уже. Булыжники мостовой сменились гравием, затем утрамбованной землей и, наконец, кашей из грязи и жухлой травы, от которой несло выгребной ямой. Суинберн очутился в тоннеле, по которому некогда бежал закованный в деревянные трубы канал Нью-Ривер; теперь от акведука остался лишь деревянный остов-скелет да истлевшие пучки водорослей. Незнакомка, шагавшая чуть впереди, вдруг остановилась.
– Я доложу ей, что вы пришли, – сказала она, развернулась и исчезла в темном проходе.
– Т-твою мать! – Поэт всплеснул руками, чертыхаясь и смеясь. – Фосси меня околпачила! Вернись, родная…
Он уже потянулся за флягой, как вдруг различил впереди шаги.
– Я покажу вам дорогу, – раздался тихий голос.
Поэт поднял голову. В проходе стоял человек с фонарем.
– Суинберн, – сказал он. – Меня зовут Якоб Кэнделл. Мы с вами уже встречались, помните? Три года тому назад, на званом обеде у моего покровителя, доктора Лэнгли. Вы рассказывали, как купались в море в Падвитиэле и едва не утопли.
Суинберн восторженно заулыбался.
– Ну да, точно! А еще вы знакомы с Бертоном. Выходит, это он все устроил…
– Нет. Все устроила она.
Кэнделл улыбнулся. Он был в грязном пальто нараспашку, под которым виднелась длинная блуза художника в осколках яичной скорлупы, пятнах засохшей краски и лесном опаде.
– Ступайте за мной, я покажу дорогу. Я проделал немалый путь, чтобы вас отыскать.
Суинберн глотнул из фляги.
– Тогда я перед вами в долгу, сэр! Как я понял, вы с этим Лэнгли, вашим патроном, уехали в Египет смотреть пирамиду Сесостриса…
Художник сделал шаг навстречу. Свет фонаря упал на его бородатое лицо: приятное, круглое лицо с большими светло-голубыми глазами и пунцовыми губами. На вид ему было тридцать три, самое большее тридцать четыре года – примерно как Суинберну.
– Я вернулся! – Кэнделл издал короткий судорожный смешок и восторженно затараторил: – Я приехал показать вам кое-что! Пирамиды – это ерунда, Египет – ничто… Скоро вы увидите другой мир – тот, что под нами! Тоннель…
Он указал в темноту и зашевелил губами, будто силясь припомнить нужное слово.
– Ее… отверстие. Проход.
Суинберн захихикал. Губы Кэнделла медленно растянулись в милейшей улыбке, затем он легонько тронул поэта за руку.
– О, что я видел!.. После Египта мы провели неделю в Александрии, Лэнгли хотел, чтобы я сделал подробные заметки о его путешествии. Свет там столь насыщенный и густой, что нищие продают его по одному меджидие за бутылку! Я им заплатил, и взгляните, взгляните…
Он вытянул перед собой грязную руку.
– Поразительно!.. – прошептал художник и раскрыл ладонь, словно освобождая пойманную пичугу. – Сперва глаза должны попривыкнуть к блеску, иначе вы ослепнете от зрелища, которое нам предстоит увидеть.
Суинберн задрал голову и уставился в сводчатую тьму.
– Ни зги не вижу.
– Скоро увидите! – заверил его Кэнделл. – Возрадуйтесь! Дивитесь! Боготворите!
Он устремился вглубь тоннеля.
– О, великолепие! О, дивный блеск! Вы непременно увидите, мы все увидим.
– Он знает дорогу! – воскликнул поэт и побежал за художником. – Да стойте же, погодите…
Кэнделл широко улыбнулся.
– Зелено! – вскричал он и на бегу простер руки вперед. – Зелено!
Суинберн едва за ним поспевал. Они были уже под землей, вокруг из темноты проступали руины Лондиниума. Храм, бордель, огромные отполированные валуны.
– Он нам покажет чудеса, чудеса!.. – шептал Суинберн, нетерпеливо потирая руки.
– Вердетта, ветивер, жимолость, – простонал Кэнделл. – Да, да, я увижу! – Он поймал что-то в воздухе и тут же раздавил это пальцами.
Проход сузился и уперся в земляную стену. Фонарь Кэнделла нырнул вниз: художник нагнулся и полез в расселину.
– О, дивное свечение! Вижу свет! – воскликнул Суинберн, торопясь за ним. – Щель, щель!
Он прополз следом за Кэнделлом и выпрямился.
Они стояли посреди большого зала или пещеры c неоштукатуренным, сложенным из камней сводчатым потолком. Меж камней вились стебли лиан. Суинберн стал осматриваться, сделал шаг, и тотчас под ногами что-то хлюпнуло: крошечные грибы с коническими шляпками, мясистые зеленые земляные языки, красные поганки лопались, источая аромат яблок и водорослей. Всюду лежали груды битого кирпича, очень древнего, подернутого мягкой бирюзовой плесенью. В воздухе стоял странный приторный яблоневый дух, словно в цветущем саду на берегу моря.
– Где мы? – пробормотал Суинберн.
Тут и там среди развалин и битой кладки виднелись диковины: длинные и тонкие зеленые камни, явно вытесанные вручную, но для чего? Бронзовые наконечники стрел, лазуритовые бусины, граненые кабошоны из варисцита размером с ноготок мизинца. Грудами лежали аммониты – черные как смоль, малахитовые. Некоторые из них обросли, словно ракушками, сверкающими самоцветами.
– Где мы? – повторил Суинберн. – Что это за место? Воистину, загадка! Кэнделл?
– Вы глядите, глядите!
Художник стоял на коленях у дальней стены пещеры, спиной к поэту. Лишь теперь Суинберн разглядел, что свет, заливавший все кругом, исходил вовсе не от фонаря Кэнделла.
Фонарь давно погас.
– Диво! – прокричал Кэнделл; опустив голову, он прижимал ладони к каменной стене, словно пытался ее раздвинуть. – Откройся!
Суинберн, заливаясь смехом, подкрался к нему.
– Так тут раек! Два пенса за просмотр! Пустите!
Он сел на корточки рядом с Кэнделлом, не боясь запачкать шитые на заказ брюки, и отпихнул художника в сторону.
– По очереди, господа, по оче…
Он умолк.
В стене перед ним сияла вертикальная трещина длиной с мужскую ладонь и шириной с палец. Из нее лился изумрудный свет и вырывались вспышки белого света – слепящие, ярче солнца. Суинберн отпрянул и прикрыл глаза ладонью. Кэнделл опять встал на четвереньки и, высунув язык, уставился в щель.
– Дайте же взглянуть! – прошептал Суинберн, оттолкнул Кэнделла и прижал лицо к стене. – Дайте…
Зрелище было удивительное: будто ему дали стекло, волшебным образом расцветившее море. В зеленом мире порхали, вертелись и кружились призматические создания: рдяные, лазурные, желтые, пульсирующе-синеватые, – цвета потаенных сердечных клапанов. Сияние было столь ярким, что ничего нельзя было как следует разглядеть, однако Суинберн чувствовал – нет, знал, – что за стеной обретался иной мир. Он его слышал: голоса, напоминающие крики морских птиц, ритмичный рев волн. Он вдыхал его аромат, столь свежий и упоительный, что рот невольно наполнился сладковатой жидкостью. Глаза резануло: смаргивая слезы, он вновь прижался к каменной стене и высунул язык, надеясь урвать хоть толику этой райской сладости.
Художник засмеялся и встал на колени, крепко приложившись лбом о камень. Они не заметили, как сомкнулась щель, и поняли лишь, что остались в невзрачном мире по другую сторону тьмы.
– Диво! – выдохнул Кэнделл, облизывая сухие губы. – Диво!
– Манда! – вскричал Суинберн и, шатаясь и возбужденно размахивая руками, поплелся наверх.






