
Эшколь Нево
Тоска по дому
Eshkol Nevo
Arba'a Batim Ve-Ga'aqua
HOMESICK
Copyright © Eshkol Nevo, 2004
Published in the Russian language by arrangement with The Institute for the Translation of Hebrew Literature
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2021

Издание осуществлено при содействии Посольства Государства Израиль в Российской Федерации по случаю 30-летия возобновления дипломатических отношений между Израилем и Россией
Published with the assistance of the Embassy of the State of Israel to the Russian Federation on the occasion of the 30th anniversary of the restoration of Israeli-Russian diplomatic relations.
Перевод с иврита Виктора Радуцкого
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2021
* * *
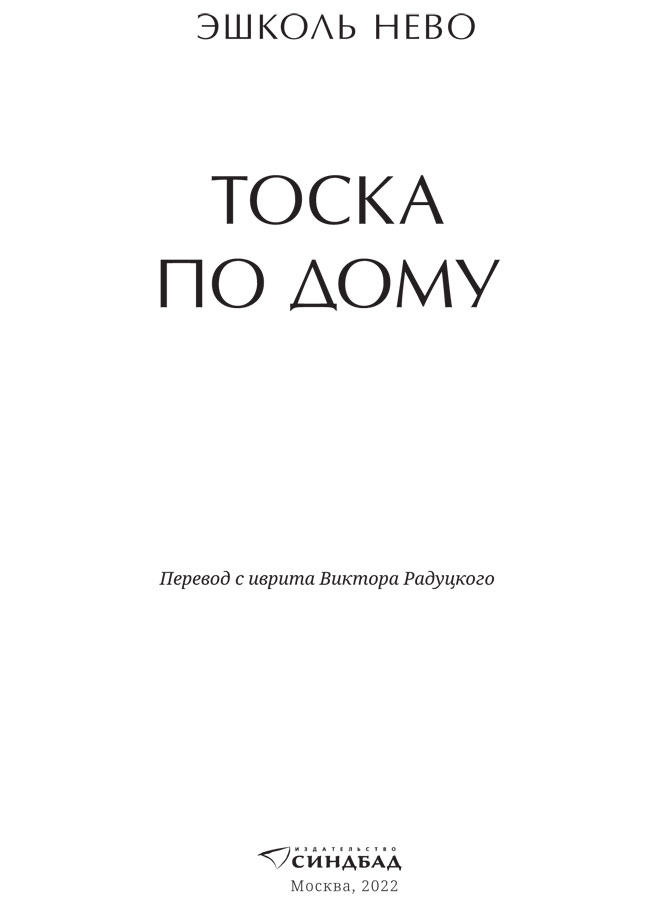
Моим родителям
Пролог
В конце концов он вытащил всю оставшуюся мебель на улицу. Приятель должен был подогнать пикап и забрать ее. А тем временем он ждал. Уселся на кушетку. Очистил засохший апельсин. Погрыз корку. Сосед мыл машину, с особой тщательностью поливая бампер. В детстве, вспомнилось ему, он, разглядывая стекавшие с машин потоки воды, стремился определить, какой из них первым достигнет земли. Он посмотрел на часы. Четверть второго. Приятель уже опаздывает на двадцать минут. На него это не похоже. Возможно, стоит пока что расставить мебель так, как она стояла в гостиной. А может быть, и нет.
Женщина, которой он однажды помог донести пакеты из продуктовой лавки, прошла между кушетками, посмотрела на него долгим взглядом и улыбнулась.
Другая женщина, зацепившись ногой за тумбочку, проворчала:
– Загородил весь тротуар.
Дом первый
Топографически речь идет о седловине. Два горба, а посередине – торговый центр, общий для всех. Один горб – ухоженный, аккуратный Мевасерет, где живут ашкеназы. Второй горб был когда-то временным лагерем новых репатриантов из Курдистана. Теперь здесь в основном царит беспорядок. Бараки соседствуют с виллами, руины – с цветами, запущенные улицы. Официальное название Маоз-Цион. Неофициально все называют его Кастель, то есть замок. По имени укрепленного пункта на вершине горы, где во время Войны за независимость пали бойцы, отбив его у арабов; теперь это мемориал в память наших павших солдат. На въезде, сразу после светофора, вы увидите «Дога и сыновья», небольшой минимаркет. Там, говорят, лучше всего спросить, если имеются вопросы.

Случайная выборка объявлений на доске рядом с «Дога и сыновья»: курс практической Каббалы, специальные цены по случаю открытия. Праздник скаутов Маоз-Циона переносится. Косметолог с большим опытом посещает клиентов на дому. Студент-отличник, изучающий математику, поможет вашим детям готовить уроки. Общественность приглашается на вечер, который проводит раввин Амнон Ицхак, возвращающий заблудших на путь праведный. Мероприятие состоится при любой погоде.

Человек, которого они спросили в минимаркете «Дога и сыновья», ошибся, и Амир и Ноа оказались не в квартире, сдававшейся в аренду, а в доме скорбящих. Крупная женщина плакала. Другие женщины входили с серебряными подносами. Никто ими не интересовался, но было как-то неловко сразу уйти. В углу дивана, прижавшись друг к другу, они, склонив головы, слушали рассказы о сыне, погибшем в Ливане, отведали малую толику поднесенной им пахлавы и иногда украдкой поглядывали на часы. Амир, заламывая пальцы, думал: «Вот и выпала возможность быть печальным демонстративно. Может быть, именно здесь можно отдохнуть от натуги выглядеть счастливым, позволить черным чернилам, на протяжении многих лет извергаемым каракатицей печали, растечься без помех по всему телу». Ноа играла своими волосами и думала: «Мне нужно в туалет». И еще: «Интересно, как траур и скорбь вселяют в людей голод».
Спустя ровно час они поднялись, склонили головы перед крупной женщиной, проложили себе дорогу меж стульями и коленями и отправились искать квартиру.
Хотя и азарт поиска, и ощущение чрезвычайной ситуации, прежде направлявшие их шаги, как-то поубавились.

В квартире было две комнаты. Гостиная размером с кухню. Кухня размером с ванную. Ванная со шваброй, чтобы убирать воду, попадающую на пол, когда пользуешься душем. Но их все это совершенно не волновало. И даже то, что хозяин квартиры живет прямо за стеной, а от неба их отделяет только крыша из асбеста. Они решили жить вместе, чего бы это ни стоило. Хотя он изучает психологию в Тель-Авиве, а она вообще обучается искусству фотографии в Иерусалиме. «Маоз-Цион – неплохой компромисс, – сказала она. – Если учесть, что у тебя есть машина. И здесь мне нравится свет, – добавила она, – в нем есть некая … умеренная радость». Он взял ее за палец, подвел к окну и сказал: «Можно здесь устроить палисадник». А хозяин квартиры, чувствуя, что решение вот-вот будет принято, приблизился к ним и сладко произнес: «Здесь не так, как в городе, проблем с парковкой здесь нет».

Месяцем ранее, когда мы еще колебались, мне приснился сон. Я толкаю тяжелый грузовик по дороге в Иерусалим, толкаю его сзади, как супермен: от Лода до Модиина, от Модиина до Латруна и далее. Сначала я бегу, шаги мои легки, грузовик летит вперед, и ветер рассеивает мои тревоги, но после въезда в Шаар ха-Гай, когда дорога в Иерусалим становится все круче, я вдруг совсем не по-суперменски начинаю потеть и тяжело дышать. На ровном участке, до того, как подняться на Кастель, я уже с трудом глотаю воздух, а грузовик едва-едва ползет. Машины гудят мне, дети в окнах указывают на меня пальцем и хохочут, а я, несмотря ни на что, продолжаю, верный какому-то настойчивому внутреннему приказу, и из последних сил докатываю грузовик до самой вершины, до моста, ведущего в Мевасерет. И тут, когда я останавливаюсь отдышаться и, на минуту убрав руку с грузовика, утираю пот со лба, машина начинает скатываться вниз. Прямо на меня. Я пытаюсь остановить грузовик, наваливаюсь на него всем весом своего тела, но это не помогает. Мои сверхчеловеческие силы разом оставляют меня, и теперь я просто человек, пытающийся остановить грузовик, вес которого стократно превышает мой собственный. С каждой секундой машина набирает ускорение. Ошалевшие от ужаса автомобили, увернувшись буквально в последнюю секунду, чудом избегают столкновения. Столб на остановке автобуса сгибается в дугу под напором грузовика. А я бегу задом наперед, пытаясь задержать его слабыми толчками и выставляя вперед ногу, как это делают, когда хотят растянуть мышцы. Несмотря на мои смехотворные усилия, катастрофа – и мне это совершенно ясно даже во сне – неизбежна. И действительно, в конце спуска, прямо перед Абу Гошем, это происходит. Грузовик врезается в машину, которая врезается в машину, которая врезается в бетонный разделительный забор между полосами движения. Искореженное железо, изуродованные части тела, мозаика из стекла и крови. Конец.
Когда я проснулся, охваченный ужасом, мне показалось, что я понял сон.
Я позвонил Ноа и объявил ей:
– Жить вместе – да! Ближе к Иерусалиму – да! Но не за Мевасеретом.

– А, да, есть еще кое-что, – сказал хозяин квартиры, перед тем как мы намеревались подписать договор, и Ноа подумала, что он собирается говорить с ними о налоге на недвижимость или еще о чем-то подобном. – Соседи… – Он немного понизил голос и указал на ближайший дом. – Их сын погиб в Ливане на этой неделе. Так что если вы хотите поставить музыку, то уж пусть будет, так сказать, что-нибудь спокойное.
– Понятно, – сказал Амир, – вам не о чем беспокоиться, мы ни в коем случае не создадим им никаких проблем.
– И кроме того, господин Закиян, – добавила Ноа, – вы нас еще не знаете, но мы пара тихая. Очень.

В конце концов я заплакал, но совсем не потому, что все подумали, вот, мой старший брат Гиди погиб, хотя я его очень люблю, у меня в горле драло, оно огнем горело после того, как солдаты пришли среди ночи, направились к маме, и она стала кричать, а потому, что вдруг мне все надоело, в один миг, поскольку никто не обращает на меня внимания. Все началось с того, что я порезал палец, когда готовил салат людям, пришедшим скорбеть с нами, из-за лука, который делает туман в глазах, не видно, где палец, а где нож. Потекла кровь и заполнила пространство между ногтем и кончиком подушечки, меня мама учила, что именно так называют эту часть пальца, а папа, который ничего не делает, только возится со своей трубкой и молчит вместе с дядей Менаше, сказал:
– Ты не видишь, я занят, Йотам, и что ты из этого делаешь целую историю, всего лишь маленькая ранка, и куда подевался пластырь, ступай к маме, спроси, где пластырь.
Но мама была погружена в свои «Гиди, ой, Гиди», а вокруг сидели все ее подруги, пытавшиеся ее успокоить, и, чтобы к ней подойти, необходимо было долго пробираться, минуя все их стулья, и тогда я стал просто в углу гостиной за каким-то стулом, не зная, то ли вернуться к папе, то ли пробиться через всех, кто окружал маму, а кровь тем временем залила мне всю руку, что выглядело довольно страшно. Хотя я совсем не трус, но вдруг, прежде чем я сумел справиться с этим, проглотить слезы, как я иногда делаю, когда меня обижают в классе, я заплакал, но не захныкал тихонько, а разрыдался, как младенец, и все тетушки, понятное дело, тут же вскочили, окружили меня со всех сторон, и мама крепко меня обняла, и тетя Мириам, мамина сестра, побежала за пластырем, и все они начали шептать друг другу, мол, бедняжка, они были очень привязаны друг к другу и кричали Мириам, чтобы поторопилась, а парень с телевидения, расспрашивавший во дворе дядю Амирама, который был официальным представителем нашей семьи, потому что папа и мама вообще не хотели говорить, а Амирам руководит отделом в Электрической компании и умеет говорить, – тут телевизионщик, по-видимому, услышал, что в доме что-то происходит, вошел в дом со своим ассистентом с телекамерой и попытался сунуть маме микрофон прямо в рот. Но дядя Амирам помчался за ним, схватился за голову:
– Что же вы делаете, что делаете? Ведь договорились же, что вы в доме не снимаете…
А тетушки закричали:
– Вышвырнуть его вон отсюда, пиявки, стыда у вас нет.
И стали выталкивать мужика с телекамерой, уперлись ладонями в его грудь и толкали, пока не вытолкали за порог вместе с его огромной телекамерой. А потом стали выговаривать дяде Амираму:
– Чего это ты вдруг дал им войти в дом?
А он и говорит:
– Нет, я не давал, они просто обошли меня и вломились, холера их забери.
Но тут вернулась тетя Мириам с пластырем и осторожно перевязала мне палец, совсем не было больно, погладила меня по голове и по щеке и прошептала прямо в ухо:
– Я приготовлю салат, ладно?

Когда говорят «домовладелец», то представляешь себе человека взрослого, авторитетного и нудного. Но Моше Закиян совсем не такой. Он всего лишь на два года старше Амира (хотя женат на Симе и отец двух детей). Водит автобус компании «Эгед», немного лысоват, у него небольшое брюшко поверх брюк. Умеет все починить: замки, электрику, засорившуюся канализацию.
Немногословен, предпочитает делать дело. И без ума от своей жены Симы. Любой может заметить, что он всегда глядит на нее с нежностью, будто она кинозвезда, не меньше. Всегда делает то, что она говорит. Кивает головой в знак согласия с ее словами. А она говорунья, чтоб не сглазить. Остра на язык. Ясный ум.
– Вам приятно будет жить у нас в Кастеле, – говорит она, когда Амир и Ноа прибывают с вещами, – я уверена. Здесь все знают всех, все как одна семья. И у вас будет тишина, чтобы учиться. Я, – она глядит в глаза Ноа, – совсем не так проста, как кажется. Я тоже училась. На бухгалтера. Но сейчас бросила, из-за детей, что поделаешь.

В течение двух-трех дней мы обустроили квартиру. Что уж там нам было нужно? Совсем немного. Кушетка от моего дяди, письменный стол от ее родителей, несколько стульев от приятелей, поделки и украшения, накопленные нами врозь, в наших предыдущих квартирах, на стенах фотографии в рамках, сделанные Ноа, матрас с пятнами, следами любовных утех, телевизор с неисправной кнопкой регулировки цвета. Вот и все. После всех наших коммунальных хибар со спорами по поводу счетов за свет, газ и воду мы в первые дни чувствовали себя, словно во дворце. Королева и король. Мужчина и женщина. Можно говорить по телефону сколько влезет. Можно набить холодильник любимой едой. Можно расхаживать по дому в трусах и без них. Можно заниматься любовью в любом месте нашего дома, не опасаясь, что сосед по комнате придет раньше, чем условились. Только прежде надо закрыть жалюзи. У соседей напротив еще не закончились тридцать дней траура, а нам не стоит делать то, что несовместимо со скорбью.

Прошло слишком мало времени. Эта история все еще кипит и бурлит.
Единственный способ к ней прикоснуться – это окунуть в нее палец.
И отдернуть без промедления.

Первая фотография в альбоме вовсе не свидетельствует о том, что Амир и я вместе. Я имею в виду «вместе» в смысле «пара», друзья не разлей вода. Моди сделал этот снимок, я думаю, у тайного источника в ущелье пересыхающего ручья Драгот. Моди щелкнул внезапно, не просил сказать: «Чииз», чтобы запечатлеть улыбку, не предложил принять «позу», а это как раз именно то, что мне нравится. Хотя и экспозиция слишком велика, да и фокус далек от идеального. Все выглядят довольно усталыми, но это приятная усталость после долгого похода. Янив лежит с шляпой на лице. Яэль, которая тогда была его девушкой, положила голову на его живот, рассыпав свои локоны, и один из них, отделившись, касается земли. Амихай передает армейскую флягу Ниру, чьи красные щеки свидетельствуют, что он в ней нуждается. Хила́, та, что позвала меня в этот поход, – «не для того чтобы знакомиться с мальчиками, с чего бы вдруг, а чтобы познакомиться с пустыней», – ищет что-то в своей сумке, возможно свитер, поскольку майка, которая на ней, слишком тонка, а ветер набирает силу. Ади, книжный червь, держит книгу, выпущенную, судя по формату, издательством «Ам Овед», но она не читает. Ее зеленые улыбчивые глаза, глядящие поверх книги, устремлены на Моди. Она единственная, кто знает о его коварном замысле запечатлеть всех, захватив врасплох, возможно, потому, что они друзья.
Все они – и Янив, и Яэль, и Ами, и Нир, и Хила́, и Ади – вместе, то есть они достаточно близки друг к другу, всех их можно вместить в воображаемый круг, диаметр которого не более полутора метров. И только двое находятся вне этого круга: Амир и я.
Амир сидит на валуне, нависающем над источником, обхватив колени, обозревая окружающих пристальным взглядом. Я прислоняюсь к своей сумке, расположившись по другую сторону источника, и тоже обозреваю окружающих пристальным взглядом.
Просто невероятно, насколько же похожи выражения наших глаз.
Всякий раз, глядя на эту фотографию, я начинаю смеяться. Два наблюдателя. Неудивительно, что только через три дня мы впервые заговорили друг с другом, три дня, в течение которых он попеременно казался мне красавцем и уродом, интересным и раздражающим, застенчивым и высокомерным; три дня я ожидала, что он попытается завязать со мной более близкое знакомство, но в то же время надеялась, что он этого не сделает. Только на четвертый, последний день нашего похода, когда я поняла, что, если я и дальше буду только ждать, это может закончиться тем, что отношения между несозревшим джентльменом и состоявшейся леди так и не установятся, я, набравшись смелости, использовала момент, когда мы оказались далеко от всех, и задала ему глупый вопрос: не знает ли он, почему только валуны справа обладают особой раскраской, и он ответил, что это ему неизвестно, в подобных вещах он не очень-то разбирается. Он протянул руку, чтобы помочь мне преодолеть очередной валун, и прикосновение его руки было мягким, намного более мягким, чем я это себе представляла. Но все это уже никак не связано с фотографией. Я увлеклась.

– Приятная пара, – говорю я Моше после того, как студенты закрывают за собой двери.
– Очень приятная, – отвечает он и, сложив договор, кладет его в карман рубашки.
– Но немного странные, разве нет? – спрашиваю я, вытаскиваю договор из кармана рубашки и прячу в кляссер для документов, где ему и положено быть.
– Почему странные? Потому что живут вместе без всякой свадьбы? – спрашивает он, помогая мне вернуть кляссер на прежнее место.
– Да нет же, что это с тобой. Сегодня это принято, многие начинают жить вместе до того, как поженятся, проверяя, поладят ли друг с другом, и вообще, подходят ли для совместной жизни. Не то что ты – взял и женился в двадцать один на первой же своей девушке.
– Но у меня все хорошо вышло, – протестует Моше и улыбается широкой улыбкой.
– Ладно, у тебя вышло все хорошо, – улыбаюсь я ему в ответ, – но я говорю о принципе.
– Какой еще принцип? – спрашивает Моше и протягивает руку к пульту телевизора.
– Оставь, – говорю я ему, – не имеет значения.
Он включает телевизор. Спортивный канал. Похоже, принцип мне придется объяснить своей сестре Мирит. Она намного более терпима к сплетням. Никуда не денешься, женщины – это женщины, а мужчины – это мужчины.
– Душа моя, – вдруг говорит Моше, все еще не отрывая взгляда от телевизора, – ты ведь помнишь, что мои братья приедут в субботу?
Да, я помню. Как же можно забыть. Так много дел предстоит сделать в честь их прибытия. Проверить, не попал ли случайно нож для молочных продуктов в ящик со столовыми приборами для мясных блюд. Убедиться, что все продукты в холодильнике соответствуют самым строгим правилам кашрута, поскольку обычного свидетельства о кошерности для них недостаточно. Разобраться, хватает ли в доме свечей, и пополнить их запас в случае необходимости. Включить субботнюю автоматическую электроплиту. Найти свой головной платок. Выстирать его. Все приготовления должны закончиться к ночи четверга, потому что в пятницу они всегда приезжают пораньше, опасаясь пробок на дорогах, – и не имеет значения, что я много раз объясняла им: никаких пробок в эти часы не бывает, – но они панически боятся, что начало субботы встретит их в дороге. И не приведи Господь, чтобы Менахем, старший брат Моше, великий раввин из Тверии, подумал, будто у нас не все в полном порядке и не соответствует его стандартам. «Ты его не знаешь, Сима, он из этого сделает целую историю», – так Моше вот уже шесть лет с самым серьезным выражением лица предупреждает меня каждый раз перед их приездом. И всякий раз это снова и снова меня раздражает. Кто сказал, что так должно быть? Почему всякий раз, когда мы приезжаем к раввину Менахему в Тверию, он обязательно делает замечание по поводу моей одежды, а уже если он прибывает к нам, то весь мир должен в его честь стоять по стойке смирно?
Но я ничего не говорю. Ни единого слова. Я знаю, как это важно для Моше. А Моше важен для меня. И ради мира в семье я готова сделать многое. Почти все.

Наша квартира, как нарост на дереве, прилепилась ко второму этажу дома Моше и Симы Закиян, и на этом этаже расположена квартира из трех комнат, в которой живут папа, мама и двое детей. На втором этаже, в тех помещениях, что когда-то были частью оригинального арабского дома, живут родители Моше – Авраам и Джина, основатели династии Закиян: шестеро сыновей и около двадцати внуков. Уже в первую субботу в нашей новой квартире мы удостоились познакомиться со всеми. Повод – семидесятилетие дедушки Авраама. В пятницу постепенно прибывает все семейство, чтобы праздновать с неразговорчивым дедом. Первыми на вместительных фургонах приезжают одетые в черное дети Авраама и Джины, присоединившиеся к ультраортодоксальным общинам Бней-Брака и Тверии. За ними – все еще с большим запасом времени до наступления субботы – и все остальные, в кипах или без. Разобрав пластиковые стулья, все усаживаются на маленькой лужайке, состоящей из прямоугольных ковриков травы, привезенных из питомника; границы между прямоугольниками все еще различимы. Симу посылают к студентам, пусть и они присоединятся.
– Нет, нет, спасибо, мы не можем, нам надо готовить работу к сдаче.
Но Сима настаивает, берет Ноа за руку:
– Разве вы не слышали? Стыдливый никогда сыт не будет.
И Ноа уступает, соглашается, и я иду вслед за ней. Моше готовит для нас два стула, мы благодарно улыбаемся, Сима представляет нас собравшимся и предлагает угоститься разложенными на столе деликатесами: фаршированными листьями винограда, кубэ с заостренными концами, рисом со специями, какого я никогда не пробовал, и всевозможными салатами и сладостями. Дети с пейсами и без них играют в пятнашки, приятно течет беседа. Выясняется, что Йоси, младший брат Моше, любит фотографировать, и Ноа рассказывает ему немного о своих занятиях, – я же замечаю, что к психологии никто не проявляет явного интереса, – и, когда Йоси спрашивает ее, какой фотоаппарат стоит ему купить, Ноа подробно объясняет преимущества и недостатки разных камер. Солнце, очень медленно опускаясь, готово исчезнуть за Иерусалимскими холмами, возвышающимися на горизонте, и беседа неспешно переходит на другие темы, более тесно связанные с семьей: проблемы, их решение, воспоминания детства. Иногда вдруг прозвучит какое-нибудь выражение на языке курдских евреев – «капарох», «хитлох», «ана габинох», – и тут же нам переводят, чтобы мы не чувствовали себя чужими: «дорогая моя», «жизнь моя», «я люблю тебя». Через водопады волос Ноа я пробираюсь к ее уху и шепчу:
– Ана габинох.
Я думаю, что есть особая аура, окружающая нас, когда мы вместе, аура антиодиночества, и она хватает мою руку под столом и шепчет мне в шею с оптимизмом, столь редким для нее:
– Повезло нам с этой квартирой, а?

– Амир, ты любишь меня?
– Да.
– Почему?
– Что значит «почему»?
– Это значит: что́ ты любишь во мне?
– Массу вещей.
– Например?
– Например, как ты ходишь. Я очень люблю твою походку.
– Мою походку?
– Да, такую быструю, будто всегда хочешь побыстрее оказаться на месте.
– А что еще?
– Теперь твоя очередь.
– Моя очередь? Хм-хм… Я люблю твою манеру поведения с другими людьми. Как ты умеешь сказать каждому что-то настоящее, относящееся только к нему.
– Ты тоже такая.
– Не совсем, я более твердая, чем ты.
– Неверно, ты очень мягкая, вот, почувствуй.
– Там я действительно мягкая.
– И в других местах тоже.
– Да? Где, например?

Я долго колебалась, прежде чем сделала этот снимок. Боялась, что щелчок фотокамеры разбудит Амира, ведь его сон казался таким легким. И то, как он выглядел, свернувшись калачиком, словно котенок, на траве перед нашим съемным домиком в Амирим. Его длинные ресницы и нежные щеки, порозовевшие от сна, – это тоже заставило меня колебаться. Даже мне, фотографу, не выпускающему камеру из рук, пришла в голову мысль, что, может быть, не все следует фотографировать, может быть, я оставлю вещи такими, какие они есть, и на этот раз не стану документировать их, запечатлев только в своей памяти. Но свет, волшебный свет сумерек, и композиция, квадраты индейского свитера внутри квадратов травяного газона, и три апельсина, видневшиеся среди веток дерева, и забытая порванная баскетбольная сетка, оживившая пасторальную картину в необходимой мере, не более, – я просто не смогла удержаться.
И, конечно же, он проснулся.
Но, вопреки своему обыкновению, он не ворчал. Мы были умиротворены в эти выходные, каждый с самим собой, и каждый – друг с другом. И было нам хорошо вместе. Не после того, как уже все произошло, свершилось и накатывается тоска по тому, что было. Не прежде, чем что-то произойдет и все наполнено ожиданием и надеждами. Но – по-настоящему хорошо. Здесь и сейчас. Очень. Я помню, как утром мы медленно, не спеша занимались любовью и он прикасался пальцем к различным частям моего тела, словно еще раз убеждался, что я настоящая, и это поначалу меня рассмешило, а потом возбудило. После того как оба мы кончили, исполненные нежности, и снова юркнули под одеяло, я рассказала ему про «ночь акамола». Никогда не рассказывала об этой ночи никому из своих прежних парней, даже Ронену, с которым мы прожили вместе почти целый год. Боялась, что это отпугнет их, и только с Амиром я впервые почувствовала, что могу открыть свою тайну и он сумеет сохранить ее; я приблизила свои губы к его груди, словно именно грудь в состоянии меня услышать, и все ему рассказала. Он слушал тихо, не испугался, но и не давал советов, только гладил мою голову, снова и снова, как поглаживают голову ребенка. Пока я не уснула. А когда проснулась, он уже был на лужайке.
После того как я сфотографировала его и увидела, что он совсем не сердится, что я его разбудила, я отложила камеру в сторону и присоединилась к нему. Обняла его сзади, просунув ладони под свитер, обхватив его грудь и прижавшись к нему, шептала какие-то глупости влюбленных. По краешку его щеки я заметила, что он лениво улыбнулся мне и забросил назад обе руки, чтобы прижать меня к себе еще сильнее.
На обратном пути, возвращаясь в мир по дороге, петлявшей между холмами Галилеи, мы заговорили о том, что, возможно, в будущем году все-таки будем жить вместе, хотя он учится в Тель-Авиве, а я в Иерусалиме.
– Как же я смогу спать без тебя? – сказал он.
И я пересекла пространство над ручным тормозом, разделявшее нас, и обвилась вокруг его свободной руки. Мы и прежде уже говорили о такой возможности, но всегда – в самых общих чертах, ни к чему не обязывающих. Ни один из нас не хотел предложить что-либо конкретное, словно тот, кто первым предложит, и будет ответственным за неудачу.

Моменты, когда в Ноа вспыхивают сомнения:
Когда Амир настаивает на том, чтобы в центре гостиной повесить на стену эту грустную картину – человек, немного похожий на Жерара Депардье, ночью сидит в одиночестве на кровати в гостиничном номере, рядом с ним какой-то предмет, похожий на старое радио; он глядит в небо, на бледную луну, виднеющуюся в окне.
– Это единственная постоянная вещь в моей жизни, и она переходит со мной во все съемные квартиры, в которых мне довелось жить, – заявляет он, вбивая еще один гвоздь. Но ее эта картина вгоняет в депрессию.
Ей действует на нервы еще и то, как он наводит порядок, кладя на место разбросанные ею вещи.
– Пойми, – пытается она объяснить ему, – беспорядок жизненно важен для творчества.
Он согласно кивает головой. И продолжает следовать за ней, собирая ее обувь. Носки. Белую резинку для волос. И черную резинку.
И еще одна неприятная вещь: за две недели, прошедшие с тех пор, как они начали жить вместе, застопорились все проекты, которые она готовила в рамках учебных программ. Когда Амир дома, ей никак не удается сосредоточиться. Мысли ее все время рассеиваются. Ванная – это единственное место, где ей хорошо думается. Только там ее сознание обнажается, мысли текут свободно. И идеи роятся в голове, не сдерживаемые ограничениями или страхом.
Поэтому она часами остается в ванной, пока горячая вода в бойлере не кончается, и на пальцах не появляются морщины, как у старушки.

Только гипсовая стена отделяет студентов от семьи Закиян. Да еще в этой стене Моше прорезал маленькое оконце. Для чего? Чтобы и студенты, если захотят, смогли протянуть руку и включить электрический бойлер, который находится у хозяев дома, но снабжает горячей водой и примыкающую квартиру, где живут Ноа и Амир. И всякий раз, когда им хочется принять теплую ванну, они сдвигают в сторону деревянную заслонку, закрывающую отверстие в стене, рука их вторгается в дом и в жизнь другой семьи, включает бойлер и без промедления возвращается на свою территорию. Но иногда (ведь все любят принимать ванну примерно в одно и то же время) две руки, тянущиеся к выключателю с разных сторон, могут войти в соприкосновение. А раз в неделю, обычно по четвергам, заслонка отодвигается толчком, и рука Моше Закияна забрасывает письма, на которых значится адрес: «Для Ноа и Амира в доме семьи Закиян». (Моше сказал, что поставит им почтовый ящик, но на это потребуется время.)
И заслышав звук, издаваемый падающей на пол пачкой писем, Амир откладывает в сторону свои книги и тетради и мчится проверять. Чтобы выяснить, есть ли – кроме уведомлений из университета – еще и письмо от Моди. Самого лучшего друга – и самого далекого.

И дни надежды. Компания «Пайлот» публикует фотографию: церемония подписания мирного договора, крупным планом – перо, выводящее подпись. Абу-Даби взвешивает возможность возобновления связей с Израилем. (Как же мы по тебе тоскуем, Абу-Даби!) Ведутся разговоры об экономических проектах, о совместных сельскохозяйственных предприятиях, об «огурцах смелых», так сказать: напоминание о «мире смелых», о котором трубила пресса после подписания соглашения Израиля с палестинцами. В Газе строительный бум. В Рамалле сажают деревья. В арабской деревне на территории Израиля евреям предлагаются дачи. Питы, затар[1], хумус, задушевная беседа – все, что душе угодно. Спрос – и в это невозможно поверить – необычайно велик.

Дружииииииище, как дела?!
Прежде всего, я должен описать место, из которого придет к тебе мое письмо. Называется оно Реконсито, что на испанском (в вольном переводе) означает «дыра». И на самом деле, браток, речь идет о дыре. Чтобы сюда добраться, надо заранее, за день, из ближайшего города позвонить Альфредо, хозяину этого места, дабы организовать транспорт. Только джип 4×4 может преодолеть ухабистую дорогу, соединяющую город с фермой, и только у Альфредо, разумеется, есть такой джип. А что оправдывает столь сложную операцию? Чем же славен Реконсито? Весьма немногим. Несколько лошадей. Несколько коров. Маленькая гостиница на восемь коек. Ресторанчик, в котором подают еду только два раза в день. А еще есть тут нечто неуловимое, о чем у меня нет ни малейшего понятия, не знаю, как это назвать, но именно это и привлекает сюда туристов. Чем здесь занимаются? Значит, так. С раннего утра я сижу на кривом деревянном стуле, не меняя позы, и гляжу, как одни и те же вещи – коровы, деревья и облака – всякий раз выглядят по-разному. Под влиянием солнца, которое движется. Под влиянием моего настроения. Под влиянием того факта, что это мой третий взгляд. Звучит для тебя странно? Сожалею, но именно так обстоят дела в состоянии «походности». Да, я тут разработал (в течение дня) новую теорию, утверждающую, что у человека есть три основных состояния сознания: «солдатчина», «гражданка» и «походность», расположенные вдоль оси времен следующим образом:
«солдатчина» – «гражданка» – «походность»
А вот и объяснение: помнишь чувство, которое испытываешь, когда приходишь в отпуск домой из армии, меняешь форменную одежду на пижаму, и в тот же миг твое тело расслабляется, весь воздух выходит из груди, и плечи уже не такие твердые, и ты знаешь, что, по крайней мере, ближайшие 48 часов тебе не надо бояться, что кто-нибудь – комвзвода, комбат, военная полиция – может лишить тебя свободы? В этом-то и разница между «солдатчиной» и «гражданкой»: ты точно знаешь, что никто извне не сможет ничего тебе навязать. Ты и только ты решаешь, что тебе делать. Теперь внимание. Разница между «гражданкой» и «походностью» всего лишь внутренняя, а вообще-то они одинаковые. Потому что, выйдя за ворота воинской части, из которой ты демобилизовался, перейдя окончательно и однозначно в состояние «гражданки», ты продолжаешь подчиняться своим внутренним полицейским. Ты подчинен своей природе, своему характеру, который всем хорошо известен. В режиме «походность», вследствие процесса, мне не совсем понятного (следует помнить, теория еще в процессе развития!), ты увольняешь всех вышеперечисленных. Одного за другим. И сознание твое, по крайней мере чисто теоретически, становится распахнутым сюрпризам и открытым всем переменам.





