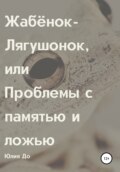Юлия До
Пуская мыльные пузыри
Лестница
– Любовь Григорьевна, а вы что здесь делаете? – удивился Дениска.
Он не ожидал увидеть учительницу так далеко от места ее юрисдикции. Буквально в двух шагах от двери своей квартиры. Лампочка моргала, тускло горела, желтя все вокруг, но в том, что полная женщина в темном плаще, из-под которого торчало черное платье, была Любовью Григорьевной, Дениска был уверен.
– Привет, Денис. – Он был единственным учеником, которому она говорила «привет». – Это моя обитель печали и жалости, – проговорила Любочка наигранно-трагично, но с улыбкой. – Моя мать – твоя соседка.
– Вы дочь старухи Тони?! – воскликнул Денис.
Осознав, как громко он сказал это, весь сжался. Кажется, старуха Тоня не услышала. Пронесло!
– Для тебя она старуха Антонина Васильевна, – строго поправила Люба. – То есть просто Антонина Васильевна!.. Но да, суть ты понял.
– Но вы… но как… – пыхтел Денис, комично шевеля руками, словно заржавевший Железный Дровосек. – Вы… вы же такая, она – такая!! Ооох, – выдохнул.
– И ты еще спрашиваешь, за что я тебе тройки ставлю? – усмехнулась Любовь Григорьевна, громко цокая каблуками.
Она была неуклюжей. И громкой. И в этом была какая-то прелесть.
– Вы такая добрая, а старуха То.. Антонина Васильевна она же жуть какая злобная, вредная и… и еще ябеда!
Люба улыбнулась, глядя под ноги, боясь оступиться.
– Нехорошо так говорить о пожилой женщине. Да, с ней нелегко, но она хорошая. Правда.
«А я и не знала, что мама – гроза подъезда», – хмыкнула Люба.
Антонина Васильевна постоянно спорила с мужем из-за мелочей. Они любили друг друга, прожили без измен больше двадцати лет, воспитали дочь. И они не то чтоб грызлись, брызжа слюной на всю кухню и разрывая друг другу глотки, но цапались достаточно. А как мужа после похорон мужа не на кого стало желчь переливать, Антонина Васильевна переключилась на соседей, аптекарей, кассиров, подростков, хозяев лающих собак и других несчастных. Только меня дочке единственной не срывалась.
– Ты не суди ее строго, Денис, она многое пережила, – сказала Любовь Григорьевна. – И в любом случае оскорблять старших – нехорошее дело.
«Как же часто я говорю: хороший и нехороший», – заметила Любовь Григорьевна и укорила себя за это. Этим же она грешила, когда учила немецкий в школе. На все вопросы она отвечала «гут», хотя знала много других слов: «шён», «прима», «херлих», «классе», «вундершён» и так далее. Но она всегда говорила: «гут». Потому что в ее жизни все было «гут». Не было ни «вундершён», ни «шлехт». И это угнетало.
– Ты понял? – спросила женщина со всей строгостью, на которую была способна, но строгости не было и в помине.
Любовь Григорьевна была мягким черным облачком – не тучей, а черным облачком. Денис всегда мысленно называл ее так. Черное облачко. А не Пузырихой. Она не похожа на Пузыриху!
Дениска угукнул, смотря под ноги. Развязался шнурок. Пришлось остановиться у перил. Любовь Григорьевна тоже остановилась, подождала его. Дениска побоялся даже, что лицо его треснет от улыбки. Она подождала его!
В один момент улыбка сменилась плаксивой мордашкой трехлетнего мальчика, уронившего любимую игрушку, пытавшегося поймать ее, споткнувшегося обо что-то и упавшего на пол, приземлившись к холодным доскам не чем иным, как мордашкой.
– Любовь Григорьевна… Вы простите, что я… ну, что я… ну, я… я рассказал, что… ну, что…
Голос куда-то пропал, сделался совсем тихим и смятым. Денис даже побоялся, что Любовь Григорьевна не услышала, и придется повторить.
– Ничего страшного, Денис, я уже знаю. И я понимаю: ты хотел как лучше. И это… печалит меня больше всего, но не будем о грустном.
Чувство вины, что гложило мальчика последние четыре дня, как рукой сняло.
Они спустились. Любовь Григорьевна бойко стучала каблуками, можно сказать, даже топала по подгнившему деревянному настилу. Дениска заметил легкую одышку у нее. Железная дверь завизжала.
На улице шел дождь, хотя не так – для этого природного явления писатели, филологи, лингвисты или просто мудрые люди подобрали более точное слово – «моросило».
Любочка была готова к июльской жаре, к лютой зиме, но моросящая осень вызывала в ней отчаяние. Она была неуверенной женщиной, боящейся показаться глупой. Когда моросило, она выходила из-под козырька подъезда, доходила, не раскрывая зонта, до арки дома, там замечала, что все прохожие открыли свои зонты, сворачивала налево, открывая зонтик (она ненавидела это дело почти так же, как закрывать мокрый зонт), проходила до ближайшей дороги (машины всегда обливали ей чулки), у светофора она понимала, что все уже закрыли зонты, поспешно складывала свой и прятала его полой плаща, ведь нет ничего глупее, чем идти под дождем (пускай и моросящим) с закрытым зонтом. А еще она не умела аккуратно складывать зонт, она вымокала при этом занятии так, будто всю дорогу шла без злополучного аксессуара.
– Любовь Григорьевна, у вас есть зонтик? – спросил Дениска, заметив нерешительность замеревшей под козырьком женщины.
– Д-да, конечно.
Она поспешно, но без особой радости, достала зонт из сумки. Раскрыла.
Дениска, захотев поиграть в джентльмена, схватил зонт, но оказался неджентльменского роста и окончательно испортил прическу Любочке, зацепившись за нее спицами и вытянув три пряди.
– А куда это ты в такую погоду без зонта? – полюбопытствовала Любочка, заботливо отводя зонт влево (теперь его несла она), подставляя под плевки дождя праву руку, часть шеи и сумочку. Дениска по-джентельменски поднялся на носки и толкнул зонт вправо от себя, снова зацепив спицами клок Любочкиных волос.
– К Ваське Пеплу, он в гости пригласил, до самого вечера, а может и до ночи, если спящим притворюсь, – он расплылся в хитрой улыбке.
– Ваське Пеплу? – удивилась Любочка. – Странное прозвище для мальчика. Ты знаешь, что есть такой персонаж у Горького? Он вор, дважды сидел в тюрьме, живет в ночлежке, да и конец его истории оставляет желать лучшего…
– А почему?
– Потому что он – герой русской классики, а в ней ничто хорошо не кончается. Ты хоть представляешь, сколько я перечитала сочинений на темы: «Почему Такой-то умер так-то?»; «Почему Такой-то покончил с собой?»; «Как считаете, зачем автор так детально описывает сцену гибели Такого-то?»; «Как смерть Такого-то повиляла на судьбы других героев?» и так далее. Это, Дениска, классика русской литературы.
– Жуть!
– И не говори. Ну ладно, мне здесь налево. Или хочешь, могу проводить тебя? – она тряхнула легонько зонтом, с купола его посыпались мелкие капли.
– Не, мне тут недалеко, спасибо. Хороших каникул, Любовь Григорьевна!
– И тебе!
Ее слов мальчик уже не слышал, он с диким воем выпрыгнул под дождь и побежал по лужам к старому красному дому у аптеки. Любочка подождала, потом пошла домой. Она улыбалась.
***
Еще на лестнице Любочка услышала: где-то звонил телефон. За два пролета до двери своей квартирки Люба поняла, что звонил именно ее телефон. На него тявкала Буба.
Бубочка не любила оставаться дома одна. Собачка боялась пролетающих за окном птиц. Боялась голосов соседей. Бубочка была очень трусливым шпицем, хотя старательно скрывала это от хозяйки. Когда слышался скрежет в замочной скважине, хитрая собачка пряталась под шкаф, когда дверь отворялась, до носика Бубы доносился знакомый запах приторно-сладких духов хозяйки, а до ушей – знакомый голос, она выпрыгивала из-под шкафа и старательно тявкала на дверь, мол, смотри, мама, какой я страж! Люба всегда делала вид, что верит в неумелую игру пушистого актера.
Телефон продолжал звонить. Любочке казалось, что она собственными ушами слышит недовольство соседей, ведь было довольно поздно.
Она торопилась, дважды выронила ключи. Открыла. Буба сначала принюхалась, узнала хозяйку и начала лаять. Она для этого даже отвлеклась от визжащего телефона.
– Да иду я, иду, я, – бормотала Люба то сердито, то извиняясь. Как будто ее слова мог слышать человек по ту сторону провода, находясь, возможно, на другом конце города.
– Алло? – несколько настороженно отозвалась Люба в холодную трубку.
Она не любила говорить по телефону.
– Я звонил семь раз, вы не ответили, – сказал бесстрастно, без приветствий голос – низкий, с хрипотцой, звучащий еще приятнее, можно сказать, уместнее в созвучании с хрипами и шорохами телефонных проводов.
– Простите, Лев Георгиевич, я была не дома, – растерянно, почти жалобно ответила Люба.
Ей было не до удивления, откуда он узнал ее номер, не до радости, что он позвонил. Сегодня она хотела только одного: чтобы ее оставили в покое.
– Я это понял.
– Вы чего-то хотели?
– Хотел сказать, что обдумал еще раз предложение того мальчика…
– Я его не посылала! И уже объяснила это! – заблеяла Любочка.
«Ну почему ты не оставишь меня в покое?»
Все ее тело раскраснелось и тряслось под мешковатым платьем. Лаковая ручка телефона чуть не выскользнула из ее мокрых не только от дождя рук.
– Не перебивайте меня. Прошу.
– Простите.
– … о том, чтобы пойти с вами на свидание, – продолжил, будто не прерываясь, бесстрастный голос. – Сегодня я понял, что ошибался. Когда вам будет удобно?
– Вы приглашаете меня?.. – удивилась Любочка. – Но как же Рита? Я думала, у вас роман…
– С Ритой я уже разобрался. Завтра в восемь вас утроит?
– Конечно. Да, я буду готова.
– Договорились. До свидания.
И положил трубку.
Любочка молча, не положив на место телефон, растянув провод, с небывалой аккуратностью и осторожностью села на подлокотник кресла. Бубочка вилась у ног. Дождь барабанил по карнизу. Она не могла поверить своему счастью.
Творческий кризис
«В Фиш-Шуппене Зои Бертесс жила с самого рождения. Она, как и все коренные жители зловонного городка, была циничной, алчной и готовой ко всем жизненным неприятностям.
Мать родила ее на рынке. Домой малышку Зои принесли в той же корзинке, что и протухшую рыбу.
Зои Бертесс жила в нищете, ее братьев отдали в подмастерья. Там от тяжелой работы, скудной пищи, жизни в кромешной темноте подвала, где всю работу приходилось выполнять на ощупь, и от жестоких побоев младший брат Бертесс умер в возрасте одиннадцати лет. Второй мальчик, увидев, к чему может привести недостаточное усердие, смог побороть страх, голод и закончил свое обучение. Однако мастером юноша пробыл недолго. Выйдя на свободу, вновь увидев мутное солнце на сером небе, он начал пить и кутить. Бог знает, откуда у нищего взялись на это деньги.
Однажды Бертесс перерезал горло тому, кого винил во всем. Его застали на месте преступления, мочащегося на труп мастера. Его повесили на городской площади на глазах сотен зевак, среди которых была и его сестренка, Зои Бертесс.
Все эти годы, пока братья страдали в темнице кровожадного мастера, Зои Бертесс жила в родительском доме. Работала она не меньше: готовила, убирала, стирала, штопала, ходила на рынок, таскала пьяную тушу отца домой из харчевни – она делала все.
Матери всегда доставляло удовольствие бить Зои. За любой проступок дочь расплачивалась синяками, ушибами и даже выбитыми зубами. Поэтому малышка Бертесс предпочитала отца.
Старик Бертесс все время проводил в кабаке. За столько лет Зои так и не поняла, была ли у него хоть какая-то работа. Она видала его лишь пьяным на улице, пьяным в распивочной и пьяным дома, занятым побоями или же отвратительными ласками жены. По непонятной причине Зои Бертесс любила своего отца, лишь в нем она чувствовала некое подобие родительской заботы. Он часто воровал на рынке или вытаскивал из чужих колясок игрушки для Зои. Он позволял дочери ходить за собой по пятам.
Зои Бертесс нравились ежедневные походы в таверну с отцом. Ах, как она это любила! Отец садился за самый дальний стол, а Зои делала все, что ей только хотелось! Он слушала песни, ругательные частушки, пьяные выкрики. Для нее они были слаще любой музыки! Многие посетители разрешали ей играть с ними в карты, кости. Все в кабаке «Морская волчица» обожали Зою Бертесс, ее смех, ее голос, ее тело, ее наивность; с годами она стала неотъемлемой частью этого отвратительного места. Должно быть, именно время, проведенное в «Морской волчице», сделала ее такой, какой она стала».
– Такой, какой она стала… Ужасно! Такой, какой она стала! – повторял, крича на весь дом и разбрасывая по комнате вещи, новый постоялец скромного пансиона госпожи Ровины.
Хозяйке этот молодой человек сразу не понравился. Высокий, сутулый, нервный – неказистый, как бы она сказала в молодости, а в те далекие времена она строго оценивала молодых людей, почему, собственно, и сталась старой девой, выскочившей почти в сорок лет замуж за картежника-лентяя только потому, что тот единственный предложил. Ровина никогда не доверяла людям искусства, считала их бедняками, распутниками и наглецами, наживающимися на честных работягах. Но этот постоялец – Николай Даниилович или Даниил Николаевич, она не запомнила и запомнить не собиралась, – заплатил за комнату и ничем, кроме постоянных восклицаний и стука по клавишам машинки, другим постояльцам не досаждал. Напротив, он им казался очень даже приятным и интересным собеседником. Марья Дмитриевна из третьей комнаты по три раза на день упоминала его очаровательные ямочки на щеках. Тьфу!
С третьего этажа донесся грохот падающего табурета. Нервные восклицания, граничащие с истерикой. Затишье. Снова стук машинки.
«Странный он», – подумала Зинаида Аполлоновна и чихнула. Правду говорила.
Он был нездешний, приехал почти два месяца назад, и, кажись, ни разу не вышел на улицу. Раз шесть курил на крыльце, но дальше – ни ногой. «Странный», – проворчала Зинаида Аполлоновна, вслушиваясь в звуки машинки, будто они могли рассказать ей что-то.
«Престарелый хозяин таверны, не имевший потомства, отошел в мир иной, завещав все Зои Бертесс, маленькой девочке, которая столько лет развлекала его клиентов. Вот уже десять лет Бертесс была владелицей «Морской волчицы», единственного питейного заведения, в котором или возле которого не предлагались услуги увеселения и скрашивания досуга. Дело было не в том, что Зои Бертесс не признавала проституцию или же осуждала женщин этой профессии, она просто не смогла бы дышать в своем собственном доме, если бы в нем находилась хотя бы одна женщина более красивая и более доступная (хотя доступнее некуда). В коморке на втором этаже, прямо над распивочным залом, всегда находилось место для одного, для двух или же даже для трех мужчин. Стоило только попросить! Зои Бертесс не отказывала никому и никогда, но Жозефу Феррюку она отдавалась с особенным удовольствием. Она предвкушала каждую встречу с Феррюком. По не понятной причине в нем она видела что-то такое, чего не было в других мужчинах, побывавших в ее объятьях (а таких было немало). Ни она, ни завсегдатаи «Морской волчицы», ни престарелый констебль города и предположить не могли, что щуплый, вечно угрюмый Жозеф Феррюк был серийным убийцей…»
– И что?! И что?! Все фальшиво и плоско!!! – кричал Даниил Николаевич, разрывая черновики в клочья.
Он было замахнулся на машинку, но вовремя одумался, отрезвляюще шлепнул себя по щеке рукой, уже заряженной на удар.
– Что с того, что он убийца? – спрашивал неизвестно кого Даниил, уже не крича. – Как это показать? В том веке вообще было понятие «серийный убийца»? Какой это вообще век, черт возьми?! Какая страна?! Как же я все это ненавижу! Ненавижу, ненавижу, ненавижу!
И он заплакал. Заплакал не как ребенок, а как взрослый тридцатилетний мужчина, который уже на три месяца задерживает выпуск очередного рассказа из цикла «Истории жителей зловонного городка» – единственного источника дохода. Даниил ненавидел не только имбецилку Бертесс, ее нимфоманию, но и все из своего творчества, что попадало в печать, что прославило его в узких, но хоть каких-то кругах.
В молодости, еще в школьные годы он писал о любви, возвышенных чувствах, величии Гения и его приспешниках – Музе, Уму, Таланту. Но таких умных мальчиков не то что по всему миру, но и в его родном городе было очень, даже очень много. Ему нужно было как-нибудь выделиться, написать то, что не писал никто и никогда. Что-то ужасное, гадкое, натуралистичное и от этого максимально отвратительное. Так и появился цикл «Истории жителей зловонного городка».
Даниил Николаевич был изнежен душой, в жизни он не переносил ругательств, запах алкоголя и насилие. Он в жизни не был на рыбном рынке, не участвовал в пьяной потасовке, не ходил в таверну, презирал продажную любовь и попытки алкоголиков оправдаться несправедливостью судьбы. Даниил был мнительным педантом, чуть-чуть высокомерным, но скрывающим это за приятной улыбкой; у него были ямочки на щеках.
Он вырос в богатой любящей семье, с детства был окружен родительскими заботой и пониманием. Это прекрасно, но так скучно! Читатель жаждет крови, драк, насилия над женщинами и подробных описаний экскрементов, мусора, гнили и всего, что вызывало у Даниила рвотные позывы. Он понял, что на вершине Писательского Олимпа, где восседают классики в окружении нимф, ему не оказаться, и, приняв это с достоинством, затолкнул гордость в маленькую темную коробочку, утрамбовал ее на самое дно, закрыл крышкой с замочком и упрятал в самую глубину своего естества до лучших времен. Даниил писал то, что хотели видеть потребители дешевой литературы, той, что оборачивают в обложки из переработанной бумаги. И не стыдился своего труда, ведь он кормил его и прославлял в тех кругах, которые были ему неприятны, но были кругами. Даниил работал как на конвейере, не вкладывал ни капли души, ни единой мысли в свои рассказы, он просто писал, писал и еще раз писал.
Однажды, правда, к нему снизошла Муза, и Даниил написал нечто большее, чем обычно. «Обнаженная Венера»… В нее он вложил всю свою душу! Весь свой талант! Сказание о чуде! О радости и принятии грусти!
Его идеи не поняли. Новеллу раскритиковали и отказались пустить в печать. Даниил тогда не сдался: потратил все сбережения, но напечатал экземпляров двадцать за свой счет. Фиаско. Даниил хотел сделать татуировку с этим словом на лице, когда прочитал статью критика, заклевавшего его могучим клювом, раздробившим мечты и кости.
Почему-то вспомнился монолог Печорина: «Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть». Конечно, Даниил никого не ненавидел, не винил в собственной неудаче. Нет, он не ненавидел. Он разочаровался. Во всех. Разом.
Даже Нина не смогла понять его. Она обожала все его творчество. Все. Заглатывала, словно удав, черновики, рукописи, свежеизданные книги, но «Обнаженную Венеру» понять не смогла. Ведь в ней был смысл! Нина любила насилие, пошлость, жестокость, пропитавшие Фиш-Шуппен. Помнится, она обняла тогда Даниила, сказала: «Не переживай, у всех бывают взлеты и падения, в следующий раз ты напишешь нечто ошеломительное!» Нина заставила его собрать вещи и ухать; путешествие должно было помочь, спасти.
Горный воздух, Альпы, пейзажи, замки Средневековья целебно подействовали на Даниила. Он написал о крысолове, который отлавливал непоседливых детей и скармливал их заживо крысам; таким образом он мстил непонятно кому за свое несчастное детство, отыгрывался на беззащитных. Все были довольны. «Я же говорила!» – торжествовала Нина, перелистывая напечатанные страницы, вдыхая, словно неведомый неграмотным наркотик, запах новой книги. Да, она говорила. Да, она была права: бывают взлеты и падения. Вот только это был не взлет, а падение в глубокую пропасть.
Даниил вздохнул. Нужно продолжать работать.
«Зои Бертесс… Зои Бертесс, она… такая…»