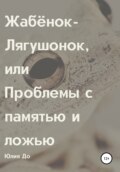Юлия До
Пуская мыльные пузыри
Какая встреча
Безвылазное сидение дома сказалось на психике. Даниил отвык от дневного света, осеннего ветра, запаха песка, пыли, сырой земли. Кажется, за два месяца в его хрупком сознании творческой личности развилось нечто наподобие агорафобии. Его пугала сама мысль – подняв голову, он не увидит потолка, а вытянув руки, не коснется стен. Количество прохожих, увиденных лиц, нечаянно подслушанных, но будто украденных обрывков чьих-то разговоров будоражило воображение.
По совету Петра Николаевича Даниил вышел на прогулку. Впервые за долгое время. Не совсем добровольно: Петр Николаевич выпнул его за дверь, забрав перед этим ключи, и сказал до полуночи не возвращаться. Суровая, но отеческая забота. Даниил был благодарен.
Во многих городках средней полосы столбы вечной памяти природы – деревья, собирающиеся стаями в леса и парки, – сожительствовали со столбами нового времени – фабричными трубами. Первые закрывали зеленой грудью вторых, как несчастная мать – сына-воришку. Трубы, привыкшие к защите леса, не стеснялись дымить, загрязняя воздух и легкие.
Жил Даниил Николаевич, как оказалось, недалеко от леса – хотя в маленьких городах все недалеко друг от друга, до любого места можно дойти пешком.
Лес оказался хвойным. В большей мере хвойным. Даниил, любивший по юности красоты природы, живший с родителями летом в глуши, не видал ни одного русского леса, в котором не встретились бы хоть один дуб или береза.
У прохожей женщины в желтом берете Даниил выспросил, где пряталась от него тропинка «Олеся» – про нее рассказал Петр Николаевич. По его словам, если искать людей не диких, а цивилизованных, но бегущих в дикие края от цивилизации, то искать надо именно на «Олесе».
Тропа оказалась асфальтированной, с прелестными серыми фонариками и грязными, но очень удобными лавочками. Даниил не смог сразу решить, возмущает его это или подкупает удобством. Он решил подумать на досуге. «Олесю» окружали сосны, высокие, с кудрявыми макушками. На западе виднелись трубы фабрики. Вернее, дым от них. Со стороны казалось: сосны курят.
Лавочки пустовали. Прохожих было немного. Даниила одолевало странное предвкушение чего-то важного, близость духовного просветления и единения с Первозданным. Он был уверен, что вот-вот излечатся все его раны, пиявки несчастья, присосавшиеся к нему, ослабят мелкозубые пасти и опадут, насадившись маленькими извивающими тельцами на хвойные иглы.
«Сейчас, сейчас все будет хорошо, – повторял про себя Даниил. – Как же хорошо. Сейчас все будет хорошо».
Он бессильно опустился на скамейку, как тяжело больной, неуверенный, что выдержит посадку и сможет вновь подняться на ноги. Холодный ветерок отрезвлял, развеивал дурные мысли. Шум копошившихся дождевых червей, бухающего где-то (далеко-далеко) грома, глухого шушуканья веток, перешептывания стволов, игл, смолы, травы – все внушало уверенность в покое, безопасности. Даниил, размякнув, откинув голову, закрыв глаза, был готов заснуть прямо здесь, на влажной от дождевых капель скамье, посреди леса, под защитой сосен, втайне любивших табак.
Из состояния благоговейного покоя, граничащего с покоем смерти, его вырвало звонкое, назойливое тявканье. Он, растерявшись, с досадой открыл глаза. Через его вытянутую ногу перепрыгивал маленький шпиц. Зверек то подпрыгивал, преодолевая для своих размеров невероятное препятствие, то пролезал, прижавшись пушистым брюшком к земле, под коленом Даниила, легонько задевая штанину виляющим хвостом.
– Буба, ко мне! – прозвучал женский голос (довольно приятный) где-то за деревьями, в другом конце заворачивающей на восток тропы. – Буба!
Шпиц, громко тявкнув, по направлению голоса, потом на ногу Даниила, на него самого, поспешил к хозяйке, пачкаясь в грязи, перебирая короткими лапами.
Даниил, потерявший возможность, как и желание, заснуть, забыв об усталости, о бессонных ночах, последовал за собакой.
Шпиц принадлежал одинокой женщине в черном. Она сидела на лавочке, совсем одна, в дальнем завитке тропы «Олеся». Женщина показалась Даниилу меланхоличной, задумчивой. Миловидной. Не красавицей, но миловидной. Она пускала мыльные пузыри. Даниил с детства любил эту забаву.
– Доброе утро, – поздоровался он и улыбнулся. У него были ямочки на щеках, очаровывающие любого собеседника, даже самого грустного и самого одинокого.
Женщина от неожиданности вздрогнула, неуверенно, на одну щеку, улыбнулась. С сомнением посмотрела на маленькие наручные часики.
– Сейчас четыре часа пополудни. Поздновато для утра, вам не кажется?
– Не люблю день, не люблю вечер. Вернее, день мне абсолютно безразличен, а вечер внушает жутковато-сладковатое предчувствие ночи, легкую тоску, снотворную усталость, от которой тяжелеет тело, и иррациональный страх перед завтрашним днем, ведь завтра – это будущее. А будущее для неуверенного в нем человека – страшная вещь. Поэтому я всегда говорю «утро». Ведь утро – символ начала, яркого солнца и блеска росы.
Пухлые губы приоткрылись. Она заворожено слушала, забыв о пластмассовом колечке, с которого мыло капало на асфальт, оставляя совсем не радужные и совсем не волшебные темные пятна.
– Доброе утро, – ответила она, улыбаясь. На ее коленях лежала книга в дешевой обложке. Такой знакомой обложке. – Присядете?
– С удовольствием.
Он сел справа от нее, на расстоянии четырех кулаков, одной ступни Даниила или полторы ступни Любочки.
– Меня, кстати, Люба зовут, – сказала она тихо, пуская пузыри. Они разлетались в разные стороны, маленькие, мокрые, быстрые. – А вас?
Любочка посматривала за Бубой, прыгающей в кустах.
– Даниил, – рассеянно ответил он.
Обложка казалась знакомой до боли в глазах. Красный корешок. Мелкий шрифт.
– Что вы читаете? – не выдержал он.
Любочка от неожиданности вздрогнула. Она совсем забыла о книге, лежавшей у нее на коленях.
– «Мастерская таксидермиста» Клавинского.
«Неужели и она?..» – Даниил внимательно, насколько мог внимательно, всмотрелся в мягкое доброе лицо. Никаких признаков безумия и жажды крови.
– Вам нравится? – не своим голосом спросил он.
– Конечно, нет! – с пылом, даже с некоторой обидой ответила Любочка, бессознательно прижимая книгу к животу. – Вы это читали вообще? Сумасшедший старик убивает детей и делает из их тел чучела, называя каждого Пиноккио № Такой-то. Как такое вообще может нравиться?
– Тогда зачем вы читаете ее? – удивился Даниил. – Закладка на середине, я наблюдательный.
Ее мягкий подбородок дрогнул:
– Это прозвучит глупо.
– Не стесняйтесь, я часто сталкиваюсь с глупостями, так что мне не привыкать.
Она с недоверием и интересом посмотрела на него, выпустила очередной косяк мыльных рыб, плывущих по течению ветра. Ухмыльнулась.
– Я ищу в них смысл. Глубокий смысл. Года три назад я прочла книгу Клавинского. «Обнаженная Венера» – так она называлась. – Сердце Даниила сжалось. – Я до того момента вообще ничего не слышала о нем. Клавинский тогда был довольно молодым писателем. И стал причиной настоящего переполоха в литературном мире. Критики жесткого раскритиковали (уж простите за тавтологию) это произведение, его, кажется, сначала даже отказались печатать. И Клавинский сам издал его, в небольшом тираже – книг двенадцать, если не ошибаюсь. Моя знакомая, коллега, купила одну, она большая поклонница Клавинского, и вы не представляете, как я была удивлена, когда услышала ее весьма, весьма негативные отзывы. В тот день я впервые за шесть лет знакомства услышала от нее две вещи: нецензурную лексику и упреки в адрес ее обожаемого Клавинского. Я отнеслась к этому скептически, ведь я видела обложки его книг, да и репутация у него, знаете ли… Ну, вы понимаете.
– Да, – прохрипел Даниил, – понимаю. Я читал.
– Да, – повторила она. Улыбнулась. – Поэтому я с большими сомнениями взялась за этот рассказ, или повесть, или даже роман – я не знаю, каким словом это описать. Ведь на достаточно небольшим количестве страниц раскрывается столько тем, столько героев, ярких, незабываемых образов, схожесть с которыми может обнаружить каждый думающий человек. Я знаю классику, великую русскую классику, но… ничего подобного не испытывала никогда. Столько боли, отчаяния, мысли и… надежды на что-то, сама не знаю на что… На то, что жизнь не бессмысленна, наверное. И нужно радоваться каждому моменту, даже если он кажется скучным и незначительным. Видеть в каждой минуте драгоценную крупицу жизни и сознания самого себя… Это… это нечто невообразимое, это невозможно описать словами! Но Клавинский смог. Я раз десять перечитывала «Обнаженную Венеру», и перечитаю снова, как только покончу с этим, – она метнула взгляд, полный презрения и брезгливости, на «Мастерскую таксидермиста».
Даниил боялся смотреть на нее, отводил взгляд на что угодно: на торчащий из-за дерева хвост спрятавшейся Бубы, на рослость сосен, на дым. Только бы не смотреть не нее. Он был не готов. С Ниной ведь все начиналось так же: она разглядела в нем талант, она, как Даниилу казалось, единственная поняла его. И чем все кончилось?
– Клавинский не писал больше ничего похожего, – с ненавистью сказал Даниил. – «Обнаженная Венера» – единственный проблеск таланта во всей черной-черной смоле его бульварного – даже «кабачного» – творчества, способного прийтись по душе только сумасшедшим или недоразвитым.
– Вы слишком строги, – мягко возразила Любочка. Мягко. Все в ней было «мягко»: и тело, и голос, и характер. – В остальном его творчестве, кончено, тоже что-то есть. Мне нравится, как Клавинский передает характер героев, их внешность. Если не искать чего-то возвышенного и не сравнивать прочитанное с «Обнаженной Венерой», то во всех «Историях жителей зловонного городка» можно найти любопытное, скрашивающее досуг.
– Даже в этом? – он ткнул пальцем в обложку «Мастерской таксидермиста». От одного несильного удара его узловатого пальца мягкость, обтянутая черной тканью и твидовым зимним пальто, взволновалась, словно «блинчики» на речной глади.
– Да, даже в этом.
– И что же, интересно, образованная женщина может счесть привлекательным в… в… этом?
На минуту она задумалась, сжав губки. Собирались тучи. «Хоть бы не моросящий», – подумала Любочка. Редкие гуляющие потихоньку начинали собираться. Мимо процокала высокими каблуками женщина в дорогом пальто, с накрашенными губами, за ней бежала маленькая коротконогая девочка лет трех, ее кудряшки-пружинки прыгали при каждом шаге. Ярко-желтый дождевик развивался на ветру. Красные резиновые сапожки недовольно семенили, мелькая друг перед другом. Левый, правый, левый, правый. Малышка была похожа на утенка, не поспевающего за важной мамой-уткой. Любочка улыбнулась, провожая взглядом девчушку.
– Например, он точно описывает поведение детей, их ужимки, привычки. Я много лет работаю с детьми, поверьте, я, как никто другой, способна оценить точность их описания… И то, что большинство из них убивают.
Даниил удивленно посмотрел на нее и расхохотался. Она присоединилась.
– Учительница? – спросил он, продолжая смеяться.
Она кивнула.
– Литературы?
– Ну не физики же, – фыркнула Любочка, вспомнила Льва Георгиевича, загрустила.
Рядом с Даниилом она впервые за два дня забыла о неудавшемся по ее вине свидании, о том, что она наговорила Льву Георгиевичу, и о том, что дома ее ждут собранные чемоданы.
– Зря вы так, – задумчиво проговорил Даниил. – У меня в школе учительница была, физичка, неприятная женщина. Стерва, скажу вам по секрету. Не любила она ни детей, ни физику. Мы все – и ученики, и учителя, и директор – дивились, что она в школе-то забыла? Однажды – уже в конце года, разумеется, – я спросил у нее. Знаете, что она ответила? Что с детства мечтала понять радугу и научить этому других… И так мне ее жалко стало. Старая женщина. Она верила в волшебство, но, ударившись в науку, осознала, что никакого волшебства нет. Ученые – больше, чем циники. Они, по моему мнению, вообще не люди. Возможно, я не прав. Возможно, вы меня осуждаете. Но я не понимаю, зачем мне знать, что такое радуга? В школьные года я был прилежным мальчиком и сейчас могу сказать вам, как на духу: радуга – атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении ярким источником света множества водяных капель. Но в чем тогда прелесть? Какой смысл смотреть мне в окно после дождя, затаив дыхание, если я знаю, что это – не чудо, что это – физика? Какой тогда в этом смысл? Какой тогда смысл вообще во всей моей жизни, если я не могу радоваться таким мелочам? Я не хочу считать рождение ребенка – продолжением рода, вследствие оплодотворения яйцеклетки, а любовь – совместимостью; я не хочу, чтобы ваши мыльные пузыри были для меня интерференцией света на тонкой пленке; я не хочу знать, как работает телефон, плита, как едет поезд; не хочу я знать, как природа меняет времена года, и откуда берутся облака. Сейчас для меня все это – чудо! А я не могу жить без чудес!
– Вы романтик, – заметила Любочка. – И я не могу с вами спорить.
– Я рад. К сожалению, таких, как мы с вами, с каждым годом все меньше и меньше. Мне порой становится невыносимо страшно от мысли, что когда-нибудь люди перестают мечтать, чувствовать, верить в чудеса. Каким же станет наш мир! Ни искусства, ни любви!
Знаете, в моем классе мальчик один был, за партой вместе сидели – имени не вспомню, да оно вам ничего и не скажет. Умный был. Веселый был, болтливый. Мы в детстве дружили. А потом… Не знаю. Видимо, Елена Игоревна на него так повлияла. (Так звали учительницу.) Не знаю… У него отец был строгий, очень. Мать умерла. Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина – таким он вырос. Причем именно он. Я с братом его год (или два?) назад виделся. Женат, румян, с тремя детьми. Не знаю… Странно все это… я даже писать обо всем этом хотел, но руки не дошли…
– Так вы писатель?
– Не знаю. Наверное, нет. Писатель – человек искусства, а искусство – это донесение глубоких чувств и самого сокровенного через образы. Мне никогда это не удавалось. Так я думал до сегодняшнего дня, – он посмотрел Любочке в глаза. Она засмущалась.
– Думаю, вы слишком строги к себе. Или скромничаете.
– Ну, скромность – сестра таланта!
– Разве не краткость? – усомнилась Любочка, приподняв правую бровь. – По-моему, Чехов говорил: краткость – сестра таланта.
– А что, у таланта не может быть двух сестер? – искренне удивился Даниил. И рассмеялся. Любочка тоже. – Какие у вас планы на сегодняшний вечер?
– Нужно Бубу до дома довести, покормить, а потом – никаких. А у вас есть предложение?
– Можно и так сказать.
Мягкие щечки и щеки с ямочками улыбались друг другу.