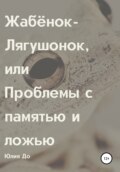Юлия До
Пуская мыльные пузыри
– Какая?.. Ну, какая же?!
«Зои Бертесс относилась к числу тех женщин, которые перед чужим мужчиной, увидевшим их нагишом, прикроют оголенные прелести не лежащей рядом простыней, а руками, встанут в наиболее привлекательную позу».
– И?..
«За это Жозеф Феррюк ее и ценил. Зои Бертесс не была красавицей в его понимании, но ее мягкие бока и ляжки всегда были горячими и влажными, скользкими от пота… Зои Бертесс можно было простить все ее недостатки».
– Меня вырвет, – Даниил поморщился, но делать нечего, нужно продолжать.
Он попытался представить Зои Бертесс, снова поморщился. Если столько лет он работал как на конвейере, то сейчас у него производственная травма. Слова, выписанные из словаря синонимов и заученные за годы работы, вылетели из головы, словно весенние птички. Даниил тихо выругался, хотя ругательств не переносил.
«Будь здесь Нина, она бы придумала бы что-нибудь», – вздохнул он и растянулся на слишком короткой для него кровати; ноги по щиколотки свисали.
С Ниной они расстались почти год назад. Она была вдохновительницей и главной поклонницей его творчества (наверное, это одна из причин, почему Даниил сбежал от нее). Людей, которые восхищались Фиш-Шуппеном, он считал ненормальными и старался обходить за три-пять метров. Нина была из неблагополучной и очень многодетной (собственно, поэтому и неблагополучной) семьи; с суицидальными наклонностями и очень мрачными взглядами на жизнь (собственно, отсюда и суицидальные наклонности). Даниил и Нина вместе прожили почти шесть лет, объездили Европу, обмыли шампанским все сорок три рассказа цикла «Истории жителей зловонного городка».
Нина закатывала истерики, стоило ему лишь обмолвиться о том, чтобы написать что-то, не давящее на самые низменные чувства читателя. Нина ненавидела «Обнаженную Венеру», она как будто боялась ее, ведь философские мотивы могли означать лишь одно – Даниил может вырасти. Нина удерживала его на месте. Она пришвартовывала парусник его Высоких Устремлений к берегу Тривиальности. Она не пускала его плыть по волнам. Тогда Даниил думал лишь об упущенных возможностях, но оставшись совсем один, держа в руках канат, сдерживающий его, смотря на горизонт, мерные волны, облака, чаек, Даниил не отвязал канат, не освободил себя, свой парусник. Он затянул узел еще крепче, ведь в бескрайнем океане его подстерегали коварные бури, водовороты и злорадный смех чаек. Он боялся написать вторую «Обнаженную Венеру». Боялся снова облажаться.
Свидание
Мечта Любочки сбывалась. Конечно, все шло не совсем так, как ей хотелось: на лбу вскочил прыщик, волосы не лежали, во сне она потянула шею, странное серое пятно неизвестного происхождения отказывалось оттираться от любимых Любочкиных башмачков. Она опаздывала, нервничала, раздражалась на каждую мелочь, была готова отказаться от всего, расплакаться и умереть в одиночестве в темной маленькой квартирке, лишь бы не появляться перед любимым человеком в таком виде. Стоя перед зеркалом, она казалась себе толще обычного. Толще и некрасивее. Волнуясь и торопясь, она неудачно накрасилась. Все шло не так, как она хотела.
Но мечта исполнялась. Сегодня вечером она ужинала со Львом Георгиевичем в ресторане «Добрая чета». Сегодня исполнялась ее давняя мечта!
Лев Георгиевич приехал за ней ровно в восемь: ни минутой раньше, ни минутой позже. Он любезно подождал Любочку, хотя любезности ни в его лице, ни в голосе Любочка не заметила.
– Вы опоздали, – констатировал он, не поздоровавшись.
С обритой головой (все лучше проплешин) он походил на Маяковского. Издалека, если прищуриться.
«Добрая чета» – очаровательный семейный ресторанчик – находился всего в пяти километрах от Любочкиного дома. Погода была на удивление хорошая. Гут! Небо серело, но не внушало тоску и беспокойство. Ни ветра, ни дождя. Природа сжалилась над Любочкой, ее платьем, незадавшимися макияжем и прической.
Ресторанчик был маленьким, но уютным, теплым. По всему залу, неровным полукругом, натыканы круглые деревянные столики с бежевыми скатертями. В дальнем углу на невысокой эстрадке расположился музыкальный ансамбль: седеющий контрабас, рослый аккордеон в черном котелке и беременная скрипка.
После первого блюда и третьего бокала вина Лев Георгиевич пригласил Любочку на танец.
Танцевать он не любил, но делал это отменно. Отец всегда говорил, что достойный мужчина должен быть образованным и развитым во всем. Льву Георгиевичу танцы дались быстрее, чем его брату. Он никогда не отвлекался на партнершу, на ее слова, трепетные вздохи и влажные руки. Он знал движения более тридцати танцев и умел, повторяя за другими парами, учиться на ходу. Он двигался уверенно, вымеряя каждый шаг, каждый поворот головы. Со стороны он выглядел профессиональным танцором.
О Любочке такого сказать нельзя было. Неуклюжесть ее не покидала. С каждым движением она чувствовала, как бока и ноги тряслись под черным платьем.
– Вы представляете, как комично мы смотримся? – спросила она, хихикая.
– Почему?
– Вы такой высокий и мускулистый, а я маленькая и… антоним слова «мускулистый».
– Возможно, – согласился он и улыбнулся, оголяя идеально ровные зубы. Улыбнулся широко, неестественно. Он редко улыбался.
Окружающие смотрели на Льва и Любу, но не с насмешкой, а умилением. Их вид вызывал теплое чувство, даже уверенность в том, что все будет хорошо, что любовь существует.
Они танцевали около двадцати минут, пока Любочкины уставшие ножки не попросились назад, к столику.
Все было чудесно. Они говорили – говорила Любочка, Лев Георгиевич слушал и кивал. Горели свечи. За ужином Любочка посадила на скатерть всего два пятнышка и смогла скрыть их. Все было чудесно!
– Я хочу предложить вам вступить в отношения, – сказал в ходе беседы, монотонно, не повышая голос, Лев Георгиевич.
Долгожданные слова наконец-то прозвучали не во сне и не в фантазии. Любочка растерялась, задыхаясь собственным счастьем.
– Неужели! – вырвалось у нее. Сердце бешено колотилось. – Так сразу… Прошли всего сутки с тех пор, как вы были с Ритой…
– Не понимаю, причем здесь Рита. – Его красивый лоб сморщился. – Вы увлечены мной. Я – вами. Почему вы отказываетесь?
– Я не отказываюсь! – вскрикнула Люба. Парочки с соседних столиков недоуменно посмотрели в их сторону. Опомнившись, Любочка раскраснелась, пригладила волосы и продолжила тише, но сохраняя прежний пыл: – Этого предложения я ждала несколько лет, Лев Георгиевич. И я ни в коем случае не отказываюсь. Но!.. Разве вам не жаль Риту? Она любила вас – по-своему, но любила. И она моя подруга. Может, нам стоит немного подождать?..
«Зачем, ЗАЧЕМ ты это говоришь, дура?! – гремел Голос в голове. – Столько лет ждала – что тебе мешает? Рита? Эта самодовольная кокетка уже завтра найдет себе кого-то другого! А для тебя он – последний шанс!! ПОСЛЕДНИЙ!!»
Перед глазами стояла Рита. Вернее, ее додуманный образ. В ушах звучал ее голос. Она позвонила вчера ночью. Вся в слезах. Сказала: «тигреночек» бросил ее. Бросил холодно, жестоко. Так, как мог сделать только он.
Любочка не знала, чего больше боялась: спугнуть свое счастье или поступить плохо, уведя у подруги ее любовника. Она чувствовала вину, хотя и не отрицала жестокого торжества, испытываемого некрасивой женщиной в подобных случаях. Такой, как Рита, он предпочел Любочку. Он выбрал ее!!! Эти слова хотелось прокричать Рите в лицо (или хотя бы в телефонную трубку, как получится). Но совесть и порядочность не позволили Любочке сделать этого. Она от всей души посочувствовала подруге, попрощалась с ней, подготовила лучшее платье к завтрашнему свиданию и легла спать в обнимку со шпицем, мечтая о счастливом.
Что же изменилось? Куда подевалась ее радость? Ее торжество? Почему в тот миг, который Любочка ждала несколько лет, она думала о Рите, которую и подругой-то назвать не могла.
– Зачем нам ждать? Любовь Григорьевна, я не понимаю. Я порвал отношения с Ритой…
– Я знаю, но…
– Я попрошу не перебивать меня, – холодно, не повышая голоса, оборвал он и продолжил: – Я могу предположить, что именно вас смущает, но все это – глупости. Мы разошлись мирно. О вас я не сказал ни слова. Да и в роли женщины, способной увести кавалера, она не додумается вас представить. Следовательно, вашей «дружбе» ничего не угрожает. Через неделю Рита обо мне забудет. Не беспокойтесь. Она нашла замену мне, я – ей. Рита не будет помехой.
Не будь Лев Георгиевич собой, он бы заметил перемену в лице Любочки. Ее губы задрожали, расплылись в невеселой улыбке.
– К-как вы сказали… – прохрипела она чуть слышно. – Замену? Вы видите во мне лишь замену Рите?
– Технически это так.
Грустная усмешка застыла на Любочкином лице. Она чему-то легонько кивала.
«Господи, да ведь он меня не любит. Что меня – он же вообще никого не любит», – думала Люба, не переставая усмехаться собственной глупости. Она попыталась вспомнить хоть какие-то эмоции Льва Георгиевича, но не смогла. Как он смотрел на Риту, говорил с ней; как работал; как он ходил; как смотрел на банальнейшие вещи – все пронеслось в памяти Любочки. Он ничего не чувствовал! И дело не в панцире, скрывающем изнеженную душу. Лев Георгиевич не носил панциря. Он и есть панцирь.
Посмотрев отрезвленным взглядом на человека, которого обожала всем сердцем еще минуту назад, Любочка пробормотала:
– Лев Георгиевич, простите, что отняла у вас время. И за то, что бросили ради меня Риту. Я… Кажется, я перечитала романов…
– С вашей профессией это простительно.
– Ну да! – Любочка нервно рассмеялась. Еще раз убедилась в своей правоте. – Спасибо за чудесный вечер. И за шанс. Прощайте.
Опьяненная слезами и негодованием от собственных поступков, Любочка, обогнула по кривой официанта с пустым подносом, забежала в гардеробную, забрала плащ, выскочила на улицу.
Лев Георгиевич, молча смотрел ей вслед, ничего не понимая. К его ужасу, это чувство становилось привычным. Особенно в отношении Любы.
«О чем ты думала, дура?!» – кричал Голос в голове, но Любочка его не слушала. Старалась не слушать. Верхняя пуговица не хотела застегиваться, доводила до истерики. Из ее уст вырвался страдальческий стон. «Откуда взялась эта гордость? – негодовал Голос. – Откуда, дорогуша? Еще вчера ты была готова на все, чтобы не быть одинокой, готова быть чьей угодно, лишь бы чьей-то. И что ты делаешь сейчас? Убегаешь от него! Ты же любила его! Так что ты творишь?! Недостаточно острых ощущений? Поводов быть несчастной? Завидовала, что не было в жизни упущенных возможностей, так решила наделать их себе?! ДУРА!!»
Никогда в жизни Любочка не ощущала себя настолько тяжелой и неуклюжей. Она топала громче обычного, скользила, оставляя разбросанные по узкой полосе тротуара следы.
– Люба!
Впервые в этом голосе прозвучали хоть какие-то эмоции. Впервые он назвал ее по имени, без отчества. Любочка в надежде и изумлении обернулась.
Он, высокой, широкоплечий, в черном длинном пальто, пересек всего в три шага путь исчерченный маленькими Любочкиными каблучками по первому выпавшему снегу.
– Люба, я вас не понимаю. Я ничего не понимаю. Вы же хотели быть со мной. Я расстался ради вас с Ритой, которая устраивала меня во всех отношениях. Я выбрал вас. Пригласил на ужин. Был галантен. Мы танцевали, а я ненавижу танцы. Вы сами сказали, что вечер был чудесным. Но уходите. Это нелогично. Объяснитесь.
– Нелогично?! – закричала Любочка. Эмоции переполняли ее. Она, к своему удивлению, больше не плакала. От печали не осталось и следа. Был лишь гнев. И разочарование. – Да, это нелогично! Не смею спорить!! – она утратила последние миловидные черты, сделавшись почти безобразной. Даже Лев Георгиевич смутился. Любочка, заметив это, сделалась сдержанней, сказала почти спокойно, почти отчаянно: – Я думала, такой расклад меня устроит, но ошиблась. Ошиблась! Думала, моей любви хватит на нас двоих. Но снова ошиблась. Я надеялась, что смогу исправить вас. Но и это было ошибкой! – она постояла, смотря на снежинку, белеющую на черном башмачке. – Вас и не нужно исправлять, Лев Георгиевич, – проговорила она задумчиво. – Мне стыдно за все. За мое поведение и за то, что сейчас наговорила вам. Простите, если сможете.
Она в последний раз окинула его взглядом. Красив, умен, харизматичен, но, увы, холоден, бесстрастен и равнодушен.
– Прощайте, Лев Георгиевич. Прощайте.
И она ушла. Это был последний раз, когда Любочка видела Льва Георгиевича.
Он звал ее по имени еще дважды. Поняв, что она не вернется, отправился домой. Лев не переставал думать о ней, пытаться понять. Но не понимал.
Нина
«Интересно, о чем она думала? – Даниил глядел в темный потолок. – Куда она постоянно смотрела? Представляла ли она что-то? Наверное, да. Ото сна меня удерживают только эти самые мысли. А она не спала. Она никогда не спала. О чем она думала? Может, в ее голове выстраивался другой мир? Или она воссоздавала Фиш-Шуппен в миниатюре со всеми его жителями?»
Нависающую тишину утренней комнаты, заполненной прохладой и ароматом гниющих листьев, нарушил, заполнил собой, словно поднимающиеся дрожжи в печи, деликатный, но настойчивый стук. Из щели под дверью пробивался желтоватый свет, прерывающийся на двух темных отрезках – ногах в тапках на мягкой подошве.
– Тук-тук, где дядин дудук? – послышалось из-за двери.
Не нужно было спрашивать, кто там. Только один человек так стучал в дверь: проговаривая «тук-тук», добавляя глупую, но почему-то забавную присказку, вызывающую, можно сказать, насильно вытягивающую, умильную улыбку.
– Тук-тук, за окном кричит петух!
Даниил лежал на кровати, сдерживая ладонями смех.
– Тук-тук, обленился барчук!
Даниил расхохотался.
– Заходите, Петр Николаевич, открыто.
Дверь тихонько скрипнула, и в ее открытой пасти появился Петр Николаевич Ровин, человек внушительного возраста и внушительных размеров. Его умное, проницательное, ухоженное лицо, сохранившее черты необычайной красоты Дон Жуана, никак не сочеталось с тучным телом, похожим на вазу, в центре своем имеющую настоящую окружность, но с зауженными горлышком и подставкой. Он носил усы, какие рисуют Павлу Кирсанову, да и вообще, во многом был схож с тургеневским героем. Как будто кто-то, ловко орудуя ножницами, вырезал с одной из иллюстраций голову «светского льва» и приклеил чем-то невероятно прочным к шее провинциального старичка, ничего не умеющего и живущего за счет жены покойного брата.
– Ты все сидишь, Даня? – спросил, недовольно ворча, Петр Николаевич. – Как давно на улице был? – бормотал старик, расшторивая окна. – Не помню, чтобы ты вообще за порогом бывал хоть раз… Гм, зачахнешь же, как девица в башне…
– Девиц спасают принцы, – возразил Даниил, зевая и потягиваясь.
Так всегда: уют теплой постели и приятной для глаз темноты почувствовался лишь тогда, когда что-то громкое и упертое пожелало его разрушить. В веках, нависающих над красными глазами, начала потихоньку рождаться дремота, о которой Даниил молил Бога всю ночь. И прошлую ночь. И ночью в прошлый четверг. И среду.
За пару мгновений, в которые Даниил был готов вот-вот погрузиться в блаженное забытье, он почти отдохнул. Ему почти удалось заснуть.
– Ты-то не девица, – фыркнул Петр Николаевич. – Снова писал? – старик с неприязнью посмотрел на машинку, разбросанные, скомканные черновики, предательские чистовики, которые просили спасения торчащими из мусорной корзины руками-уголками, словно рабы на галерах, запертые в трюме. – Закончил хоть?
– Если б закончил, то не торчал в этой дыре. Не обижайтесь. Ваша дыра очень мила. Но вдохновения в ней нет ни капли!
Сон окончательно развеялся, не оставив после себя ничего: ни отдыха, ни очищения сознания. Ноги затекли, не сгибались. Зацепили за себя одеяло, словно сучья страшного леса –платье красавицы из сказки. Стащили его на пол. Откуда-то из складок пододеяльника – этого необъятного предмета – вынырнула рамочка. Лицо Нины ударилось об пол. Как славно, это была лишь фотография. И Нина не почувствовала боли от тупого удара об пол. Да, славно.
Появление третьего лица не ускользнуло от подслеповатых глаз Николая Петровича. Он посмотрел на упавшую рамку, на Даниила, на рамку, и, ловко встав на колени (невзирая на боль и хруст в них), взял в руки Нину. Немного поморщился. Спросил, вертя в руках портрет, смотря на него с разных углов и не переставая морщиться:
– Ты снова страдал по ней?..
– Что? – сонно (хотя он и не спал) спросил Даниил. – А. Нина. Нет, не страдал, просто… просто захотелось повспоминать немного… и… Да, повспоминать. Заняться-то мне все равно нечем. Работа не идет… – Он с ожесточением тер глаза, лоб. – Не могу и двух слов связать. Думаю, мне пора уже на покой…
– Для литературы потеря ты небольшая. Не обижайся.
– Да что уж… Правда ведь.
Минуты две молчали. Петр Николаевич было открыл рот, чтобы извиниться, утешить парня, сказать, что это он, старик, наверное, чего-то не понимает, и книги хороши, но передумал, закрыл рот и продолжил молчать. Его тошнило от «Историй жителей зловонного городка». Заслышав, что в комнате на третьем этаже живет настоящий и более-менее состоявшийся писатель, Петр Николаевич побежал в библиотеку, но там работ молодого автора не нашел – женщина в роговых очках только неоднозначно крякнула и сказала: «Такого не держим». Тогда Петр Николаевич, подстегнутый любопытством, купил два сборника на последние деньги, которые удалось незаметно стащить у Зинаиды Аполлоновны.
Петр Николаевич, повидавший многое, не смог дочитать и первый попавшийся рассказ с интересным, почти сказочным названием – «Увлекательные приключения мельника Лика». Петр Николаевич любил сказки. И от рассказа с таким дружелюбным названием, написанным очаровательным, вежливым постояльцем с ямочками на щеках, Петр Николаевич никак не ожидал историю о жестокосердном горбуне, который работал на мельнице и отравлял ради забавы зерно. Чем кончилось, Петр Николаевич так и не узнал.
Старик прочистил горло, спросил:
– Когда ты перестал писать?
– Не знаю, наверное, год… С тех пор, как мы с Ниной расстались.
Петр Николаевич выдержал паузу, наклонив свою красивую голову набок. Потом не выдержал:
– Не хочешь рассказать, что случилось? Возможно, станет легче.
– Думаете?
– Да, конечно, – протараторил любопытный старик. – Рассказывай!
Даниил с сомнением посмотрел на него. Хмыкнул. Перевел взгляд на рабочий стол. Вздохнул.
– Не знаю, с чего начать…
Даниил протянул руку через маленькую комнату к гостю, сидевшему в стареньком кресле у противоположной стены. Он неожиданности, что у писателя такие длинные руки, Петр Николаевич сначала одернулся, потом догадался – отдал рамку.
Даниил несколько минут держал в руках рамочку лицом в пол, удивляясь тому, какой непривычно теплой она казалась после чужих рук.
– Нина была художницей.
– О, – понимающе кивнул Петр Николаевич.
– Сюрреалисткой.
– О-о!
– Поклонницей моего творчества.
– О-о-о! Я мог бы сказать: «Не продолжай, мой мальчик, и так все ясно!». Но продолжай, мне любопытно.
Даниил усмехнулся. Встал, не оправляя пижаму, достал откуда-то из недр дорожной сумки портсигар. Закурил.
– Это были нездоровые отношения. И дело не в отсутствии пылающей страсти, романтических признаний в свете луны и карамельных мечтаний. Я не люблю это выражение, но нам… было наплевать друг на друга. Ей наплевать на мои чувства, потребности, творческий кризис. Мне, в свою очередь, – на ее ментальные самопытки.
– Само-что?
– Самопытки. Она изводила себя. Жаловалась на душевную пустоту. Понятия не имею, что это вообще значит, но, по словам Нины, это ужасно. Бывали периоды, когда она лежала, ничего не делая, смотря в потолок. Да, она всегда смотрела в потолок, в какую-то одну точку… Мы путешествовали, часто переезжали, потолки менялись, но я уверен, что в выборе точки была какая-то система. Три пальца к окну от сердцевины люстры? Да, примерно так. Она смотрела туда. Ничего не делая, ничего не говоря. Ничего. Ее будто покидала жизнь. Но не-е-т, мертвые не могут причинять столько дискомфорта живым! Она душила меня, давила на жалость, связывала меня, приковывала к себе. И это было невыносимее всего.