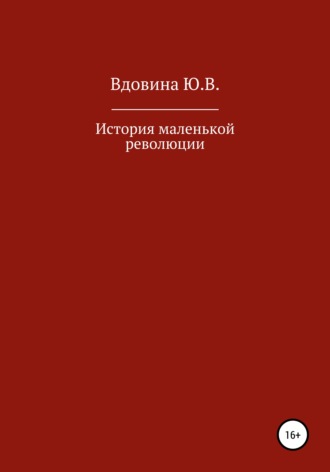
Юлия Вдовина
История маленькой революции
Пролог.
I
До самого утра в суматохе носились крестьянские бабы, напевая праздничную и разбирая следы вечернего застолья. Иногда, второпях, спотыкались они, нарядные, загорелые, тощие и в синяках, о валяющихся пьяных мужиков, вместо барщины отсыпающихся. То не обошлось без барского позволения. «Вы, мужики, – говорил он, – выпейте хорошенько за бывшего своего господина, а вы, бабы, хорошенько помолитесь за покойного и меня, сына его!». И, вдоволь наговорив барину Лоскутову Ивану поздравлений, запили мужики, и замолились бабы. И пили мужики, оголяя свои крепкие изрезанные хлыстами спины, и молились бабы, пуская горькие слёзы по осунувшимся лицам, долго. Бабы как до сна священника пламенными молитвами довели, так за уборку принялись да по детям разбежались. А кто не пил из мужиков, те по фабрикам разбрелись.
Среди не напившихся был Алексеев Степан Евдокимович. Здоровый, как богатырский конь, работящий, как весенняя пчела, и сильный, барин говаривал, как животина заморская. Жил Степан в деревне той с неразумного младенчества, туда и жену свою, Павлу Климовну, из соседнего села перевёз, там и обзавёлся четырьмя детишками да ещё одного ожидал. И потомство его было, как он сам, дюжее, хотя и жена его – хворая беспрестанно. Старший сын Степана, Бориска, сильным и выносливым рос мальчуганом. Седьмой годок шёл, а он и без хлеба живал долго, не жалуясь на голод, и босой бегал по осени, а всё равно барина почитал, как отца родного, и верил ему, как попу. «Как мы без Вашей твёрдой руки проживём, Иван Ильич! Как мы, глупые крестьяне, без Вашей строгости-то?!» – падали крестьяне в ноги Ивану Ильичу, а до этого отцу его, тряслись перед ними и после объявления вольной в страхе членовредительной порки вот уже двадцать лет, а Боря слушал их и верил им, а бранящих барина сам бранил. И не мог он считать иначе, ведь Иван Ильич, всего месяц бывший владельцем поместья после смерти отца, к ним часто с пряниками захаживал и хвалил мать за хозяйство. И не понимал ребёнок, почему отец после посещений проклинал барина.
Было у Степана и три дочери. Любил он больше старшую, Тамару, прозванную в честь его почившей в день родов жены то ли от голода, то ли от язвы бабушки. Бойкой девочкой родилась Тамара! В год уже вовсю носилась по двору, а в четыре и семилетний Борис за ней едва мог угнаться. Днями резвилась, а ночами её не добудишься! Спала крепко, как былинный Добрыня Никитич. С братом они жили дружно, почти всегда играли вместе. Борис рассказывал Тамаре перед сном страшные истории о мёртвых лошадях и их призрачных владельцах, о морских чудищах и о подземных чертях. Сначала Тамара боялась, плакала, звала на помощь маму. Когда Бориса наконец наказали, и он был заперт в бане на сутки, девочке стало стыдно и просидела она все эти сутки с братом и стала потом сама истории выпрашивать.
Отец почти не занимался ими, каждый день, кроме воскресенья (а иногда и по воскресеньям), выезжая на заработки на городской завод. Павле Климовне тоже не хватало времени на старшеньких – не вылезала она из забот о девочках-близняшках, крикливых полугодках.
Павла Климовна в своём селе считалась самой завидной невестой: густая белая коса доходила до голых истоптанных от танцев пяточек, лицо – круглое, румяное! Не морились голодом в их селе крестьяне. Долго горевали о Павле сватья, когда увёз к себе девицу Степан Евдокимович. После свадьбы бивать её начал, но как первого ребёнка потеряла Павла, так перестал. И всё же не цвела женщина на новом месте, хотя горя много не знала у себя в доме, так как выходила оттуда лишь на праздники, если муж позволял, и в свой двор. Ведала по говорам мужа, отчего местные бабы такие худощавые и злые, отчего ругали раньше Илью Витальевича и сейчас не жалуют его сорокалетнего наследника, но не верила, потому что лично не видала. Да и как ей было верить, если с Ильёй Витальевичем общалась она лишь по приезде в деревню, а сын его, Иван Ильич, был так добр к ней?
И на барские именины соткала Павла Климовна Ивану Ильичу пёстрый платок. И, радостно протягивая, удивилась, что зашептались все бабы, будто жалея её. «Как с Миленой будет, помяните моё слово! Бедная девка! Якой же Степан остолбень! Погубит её Ильич, ряхубник этот!», – ругалась вдалеке старая тётка Малуша, родившаяся ещё при Екатерине Великой. (Сторонились Малушу деревенские, клича ведьмой.) Приезжал десяти лет Иван Ильич к Илье Витальевичу и испортил девицу Милену против её воли перед самой свадьбой с поварёнком Агапом. Осрамлённая Милена сбежала из-под венца в канавку и кинулась в торопящуюся речку, а Агап хотел поднять руку на Ивана Ильича, но не успел – толкнули его за суженой. И молились на вчерашнем празднике не забывшие тот случай бабы не за Ивана Ильича, а за рабу Божию Павлу Климовну.
А к первым петухам, проводив горячим поцелуем мужа, отмахнувшегося от жены (торопился в город к дочери фабричной кухарки Агафье), воротилась Павла к детям. Убаюкала проснувшихся близняшек, потрепала по голове спящих старшеньких, погладила своего утробного малыша и принялась за готовку. На печке хихикал Бориска, счастливый, что мама не догадалась о том, что он давно пробудился. Высунул он маленькую чёрную головушку, подложив под неё правую ладошку, слушал маменькино плавное пение, любуясь ей, и посасывал подаренный барином пряник.
– Ты, Пашенька, всё крутишься, вертишься.
В избе появился бодрый, как крестьянин после крещенского окунания, Иван Ильич. Он встал рядом с Павлой Климовной и, прижавшись острой бородкой к замершему плечу, провёл не по-мужски нежными точёными пальцами по её длинной толстой косе. Хозяйка нахмурилась и неровно задышала.
– Чем же мне, Иван Ильич, бабе, кроме как в доме да на поле маяться? Поля вскопаны, вот и остаётся.
– Чтобы такой красивой и другого дела не нашлось?
«Да-а, – думал Бориска, подглядывая из-за побелённой печки, – мамка у меня пригожая! Её бы в артистки столичные!». Замечтавшись, он не заметил, как барские проворные руки легли на округлые пышные бёдра матери.
– Что Вы, что Вы, Иван Ильич?! – Павла, придя в себя от секундного помутнения, рассердилась, строже нахмурившись, и попробовала скинуть щипавшие её ладони. – Идите отсюдова, Иван Ильич!
«Почему мамка гонит его? Барин нас любит!».
– Я зря тебя обхаживал? Пряники таскал, от мужика твоего много не требовал.
Лоскутов не тронулся с места, а лишь теснее прижался к сгорбленной спине крестьянки, покрывая её широкую шею липкими поцелуями. «Прочь!», – шёпотом, чтобы не разбудить детей, упорствовала женщина, цепляясь за детскую люльку в попытках скинуть с себя обхватившую фигуру.
– Ты, Паша, не смотри, что больше не холопка! Отец помер. Теперь барщину на меня отрабатываете, значит, мои! – Иван Ильич стиснул набухшую от молока грудь Павлы, раскрывшей было рот, и грубо вжал её в стену.
«Мамка?..».
– Пошёл вон, стервятник! – уже громче, с писком, потребовала Павла и, с трудом обернувшись, плюнула в барина. Звук от плевка отозвался ударом в голове Бориски, и ему показалось, что оплевали его, и возникло навязчивое желание протереть сухое личико.
Иван Ильич, как запрещённый законом кнут, которым бил крестьян в своём собственном, не отцовском, имении, схватил косу хозяйки и обмотал ею кулак. Искажённое злобой лицо покрылось морщинами. Рыкнув, как в плечо подстреленный охотником медведь, Лоскутов, дёргая за волосы на себя и в другую сторону, колотил низким лбом Павлу Климовну о бревно, пачкая его багровыми пятнами.
«Барин!..».
На распахнутых от страха детских тёмных глазках мальчика рвали одежду на его матери. От мученических возгласов заплакали близняшки, повертелась заснувшая возле брата после вечерних игр сильно утомлённая Тамара. Тело Бориса сковало так же намертво, как сковал в объятиях барин тело беременной Павлы Климовны. В ушах ребёнка стучал хрипящий барский стон. Чувство непонимания, отчаяния и страха скребло его душу, как мать скребла ногтями руки Ивана Ильича, чтобы тот отпустил хотя бы сдавливающую голову косу. Крик младенцев нарастал вместе с плачем хозяйки и дрожью Бориса. Тамара, повернувшись набок, мирно посапывала.
Как ушёл от них барин, так убежала мать, захватив сарафан, в подсобку с соленьями и закрыла за собой дверцу в полу, чтобы не слышали дети её исступлённые молитвы, переходящие в смех сумасшедшего в самом охраняемом петербургском «жёлтом доме». И хотел Бориска броситься вслед, да не мог шелохнуться. К горлышку подступил ком, и мальчик задышал так тяжело, как если бы был болен чахоткой. Он уткнулся в плечо сестры и крепкой хваткой вцепился в руку Тамары, сопротивляясь вырывающимся из груди крикам. Борис кусал подушку, прокусил руку до крови и всё-таки заплакал, поникнув головушкой на Тамарин животик. Она повертелась, покрутилась и проснулась. Протяжно зевнув и потянувшись, девочка улыбчиво стиснула голову брата.
– Доброе утро, братец!
Ребёнок не отвечал, продолжая лить слёзы на сестринскую сорочку. Внезапным порывом Борис сжал края ночного сарафана так же плотно, как свои маленькие зубки и мокрые глазёнки. Тамара, в удивлении поднеся к нижней губе указательный пальчик, быстро опускала и вздымала угольно-чёрные ресницы.
– Что ты, братец? Ты худо спал? Давай мамке расскажем? Она травушки заварит.
Борис поднялся на локти. Он был похож на маленького мученика, пока лицо его не исказилось страшной, совершенно не детской, гримасой.
II
Павла Климовна не покидала подпол до вечера. Не стихающие возгласы близняшек сводили с ума Бориса, просидевшего весь день на ковре под печкой в ожидании матери. Он закрывал уши, чтобы не слышать сестёр, и жмурил глаза, чтобы не видеть засохшую на бревне родную кровь. В темноте вместе с проскакивающими сине-красными огоньками всплывал образ по-волчьи скалящегося, беспощадно дёргающего взлохмаченную косу Ивана Ильича. Дополнял картину мокрый, сжимающий сердце звук плевка в барский лик.
Тамара бегала по двору, жизнерадостно гоняя возмущённо кудахтающих куриц, поминутно вламываясь в дом, чтобы позвать брата побегать с ней и помочь залезть на высокую для неё, но досягаемую для Бориса ветку цветущей яблони. Борис отворачивался. К пяти часам Тамара начала беспокоиться.
– Ну братец, ну пошли играть! – девочка присела на коленки, повиснув на братской шее. Он наконец посмотрел на сестру. Непонятная Тамаре боль завладела его взглядом.
– Томка, мамка не выходит. Мамку барин избил! Ты дрыхла, а она кричала! Громко кричала! И они… – Боря махал рукой в люльки, – они тоже виризжали! Томка, кабы я мог дрыхнуть яко ты!
– Братец, не мог барин мамку бить. Он добрый!
– Бил, бил, бил! Он ещё её… за волосы, к стене лбом… платье порвал, а потом…
Тамара прижалась к заколотившемуся в истерике брату. Она с тоской глядела на него, но не верила. «Плохо спал, приснилось. Барин добрый. Баре злыми не бывают».
Брань на улице. Ребята одновременно обернулись и подбежали к окну. Тамара встала на носочки и подвисла на узком подоконнике, чтобы ничего не упустить из виду. Борис вытер глаза и потупил испуганный взгляд прямо – там барин бил Малушу, грозящую ему кулаком. А началось с того, что, заволновавшись отсутствием на воздухе хозяйки, Малуша последовала за проходящим мимо дома Алексеевых барином и, ничего не зная, но верно чувствуя, стала на него бросаться с проклятиями. Долго бил старуху Иван Ильич, пока та замертво не пала. Тамара в ужасе вскакивала, поражённо ахая. Борис задрожал и, осознав, что старуха больше не встанет, выбежал во двор. Тамара – за ним.
– Ненавижу! Ненавижу! Отомщу! Убью! Сожгу! – выкрикивал в слезах Борис вдогонку заливающемуся смехом барину. Тамара упала у раздробленного черепа Малуши.
– Злой барин!.. – девочка схватилась за голову. – За что, братец?..
– Барам всё можно… сволочи!
Борис и Тамара, издавая всхлипы, обнялись. В доме мелькнул силуэт со свечкой. Запахло гарью. Дети, не разрывая объятий, обернулись на запах. Над деревянным домом с разбросанным вокруг сухим сеном поднялся густой чёрный клуб дыма. Дом пылал ярким пламенем. К забору сбежались все соседи.
– Мамка! – хором крикнули дети.
На них из окна смотрела исхудавшая, больше не беременная, мать. Её опустившаяся грудь тяжело вздымалась. Женщина, закашливаясь и скатываясь по стеклу, три раза перекрестила Бориса с Тамарой. Павла Климовна исчезла, бездыханно упав на люльки навсегда замолчавших близняшек.
Дом горел быстро, перекидываясь на другие сооружения во дворе. Потушить пожар совместными усилиями крестьян удалось уже тогда, когда от всего осталось практически одно пепелище. «Это ведьма беду накликала!», – доносилось отовсюду. Мужики подхватили тело старухи Малуши и понесли к реке. За мужиками с криками и вилами последовала вся община, оставив Тамару и Бориса без какого-либо сочувствия. Отец застал дочь с сыном наедине с пеплом.
***
Степан Евдокимович, вернувшись из города, с нечеловеческим воплем ринулся в груду сожжённых останков. Дети с двух сторон припадали к батюшке. Он неразборчиво твердил что-то невнятное о рублях, о заначке, об украшениях, о каком-то особенном кольце подполом и о неизвестной детям Агафье, но ни слова о Павле и дочках. Степан покрутил головой и, не заметив никого вокруг, схватил детей за руки и потащил их к повозке.
– Тятя, куда мы?! – Борис отнимал руку и стремился назад. Тамара делала то же самое.
– Не дёргайтесь! Пока никого нет! – ругался отец.
***
В эту ночь Тамара много вертелась, но спала так же крепко, как и всегда. Борис отрешённо смотрел на звёзды, отыскивая в небе знак от мамы. На одной из остановок у трактира Степан прилёг отдохнуть рядом с сыном.
– Тятя, почему ты ничего не сделал?! Он мамку обидел! – мальчик сел. – Почему мы так просто уехали?!
– Чу! – Степан Евдокимович дёрнулся и замахнулся на ребёнка. Борис закрыл лицо ладошками. – Не возникай! Уехали с миром – не заметили, не вспомнили, а учинили бы скандал – тут же бы в речку кинули! – отец представил себя на месте Агапа. – Запомни, у кого власти больше – тот и сильнее, а кто сильнее – тот и прав. С правым толковать себе дороже! Никогда не спорь с сильными, сын, береги свою шкуру, а о чужой пусть сами пекутся.
– Тятя, он же мамку…
Степан дал ребёнку подзатыльник.
– Заладил! Другая мамка появится. Главное, что живыми выбрались!
– Тятя, как это – другая мамка?..
– А так! Сколько этих баб маячит? Выбирай, какую хочешь! – отец одёрнул себя. – Чего с мелюзгой глаголить?
Не раз за ночь в пути поминал Борис этот разговор.
III
Через несколько лет скитаний по холодным баракам вместе с детьми и новой женой, Агафьей Мирославовной, Степан Евдокимович переехал в собственную однокомнатную квартирку, которую смог себе позволить после становления среднеквалифицированным рабочим. Статус обязывал пропадать на заводе ещё дольше и, следовательно, уделять ещё меньше времени Борису, невероятным образом забывшему о своей матери всё, кроме того, что она у него была, с Тамарой. Они не ходили в земскую школу, так как семье требовались деньги на обеспечение растущих потребностей мачехи. Десяти и восьмилетние дети зимой бегали по всему городу, раздавая газеты. Иногда им не доставалось газет, так как детей, как они, было много, и Борис с Тамарой просили милостыню. Так они поменяли много церквей, потому что спустя пару дней попрошайничества толстые попы в шубах гнали брата и сестру взашей. По их словам, своим изнурённым видом они портили церковный пейзаж. Борис не ввязывался в споры, но Тамара не отчаивалась – боролась за справедливость. Порывы маленькой девочки смешили священнослужителей и особо богатых прихожан. Под общественные насмешки ребята покидали церковь.
– За что они нас гонят, Боренька?! Как такие люди могут служить Богу?! Неужели Богу это нравится?!
– Не связывайся, Тома, – отмахивался мальчик.
– Бог их не видит? Почему он ничего не видит?! Чем мы хуже этих толстых барынь и их уродливых мужей?..
В тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году из ссылки вернулся сводный брат мачехи Бориса и Тамары Мартын. (Десять лет назад его отправили в Сибирь за революционную агитацию среди крестьян.) Тамара, всё больше интересующаяся вопросом социального неравенства, много общалась с грамотным Мартыном. «Он умеет умножать до семи!», – дивилась девочка. Мужчина приходил в гости через день. Он много рассказывал о своей деятельности, о трудах Маркса и Энгельса, о коммунизме в целом. Тамара с замиранием сердца ожидала новых историй о том, что Мартын называл революцией.
Первая часть.
I
В тёмном помещении, больше похожем на чулан или даже заброшенный хлев, теснились люди в серых картузах; духота и сырость вынудили всё живое в комнате снять головные уборы и использовать их в качестве подручных вееров. От рассматривания потолка присутствующих отвлёк скрип железной двери, приделанной к косяку буквально столетней давности. Вошла гордого вида женщина тридцати трёх лет. Одежда её совсем не годилась для дамы: сильно мешковатые штаны, замыкающиеся на талии широким ремнём с бляшкой, подвергшейся коррозией, и балахонистая рубашка скрывали всё женское. Пожалуй, только аккуратная укладка и мягкие черты лица вкупе с проницательными и выразительными карими глазами выдавали её половую принадлежность. За женщиной менее уверенно следовала совсем молодая, приглушённо вздыхающая, девушка в дорогом шёлковом платье с воротом по самое горло. Внешность её была приятной. Юное лицо не портили ни тонкие поджатые губы, ни мёртвенная бледность, ни некрасивая костлявость, просматривающаяся даже сквозь скрывающее тело платье. Звонкий свист и гадкий хохот рабочих и крестьян заполнил пространство.
– Что за рёв?! – женщина постарше возмутилась. – Не кабачных шлюх встречаете! – она занесла испачканный землёй кулак над столом, и раздался гулкий стук. Гогот стих.
– А ты чего ждала, Тома? – с украденного из какой-то усадьбы стула поднялся некто лысый, но с лохматыми усами. – Небось барская-то фифочка, а? – последовала новая волна общественной реакции после неоднозначного жеста говорящего.
– Заткнул бы ты свой рот, Толик, – Тамара смерила хмыкнувшего Анатолия недовольным взглядом. – Она теперь со мной, – молодая девушка молча пряталась за натянутой спиной Тамары. – Назовись.
– Катерина, – юная дворянка почти шептала, со страхом озираясь по сторонам.
– Дамочке надоело бездельничать и тиранить простой люд? – выкрикнул с края интересной внешности человек: его лицо украшал шрам, проходящий через всю правую щеку, нос, определённо не впервые, был разбит, а волосы – седые, хотя мужчине было от силы сорок лет. Звали его Тихон.
– Бу! – Катерина взвизгнула от неожиданного выкрика и последовавшего за ним щипка за бока. То сделал стоящий у двери рабочий с выбитыми верхними зубами.
– Я с вами разбираться не стану, вы меня знаете! – из широкого кармана Тамара вытащила пистолет и, сняв его с предохранителя, навела на напугавшего дворянку рабочего. Он капитулирующе поднял руки вверх.
– Тома, что за шутки! – всё тот же рабочий в страхе быть умерщвлённым продолжил: – Мы боремся с угнетателями крестьян и пролетариев, а ты этих крыс из ихнего логова к нам тащишь?!
– Мы боремся с тиранами, а не с беззащитными девками, – женщина опустила оружие. – Ещё раз, Антип, и я выстрелю. Если ещё хоть кто-то решит нарушить дисциплину, то получит пулю в лоб. Ясно? – она обвела взглядом остолбеневших людей.
Глухую тишину Тамара приняла как положительный ответ. Убедившись в том, что все её внимательно слушают, она, опёршись о серую стену, заклеенную газетами с последними новостями, с энтузиазмом заговорила:
– Что ж, коли разобрались, начнём. Неделю назад произошла опала группы Коломенского…
– Тома, Гришки нет, – заметил один из мужчин.
– Зарезали твоего Гришку. Как собаку, – раздражённо процедила Тамара. – А будешь перебивать… – она сощурилась и продолжила: – Про Коломенского. Так, товарищи, и до нас недалеко, – она отстранилась от опоры, прошла прямиком к столу и села за него лицом к публике. – Необходима демонстрация… Тихон, что у тебя в Ёрге?
Пока крестьянин, посматривая на скрестившую руки блондинку сзади, читал что-то вроде доклада о своей деревне, готовящей бунт против помещика Игнатьева, дверь вновь отворилась. Вошёл весьма, без преувеличения, приятной наружности уже не слишком молодой мужчина. Он докурил дешёвую сигарету и стряхнул пепел на порог. Распрощавшись с ещё дымящимся маленьким свёртком с табаком, он облокотился о дверной косяк и, задорно улыбаясь, почесал гладкий подбородок, а затем скрестил сильные руки. С усмешкой он спросил:
– Без меня строите заговор?
В нём не было ничего выделяющегося, кроме красивых тёмно-карих глаз: усы и причёска по моде, скулистые щёки, немного смуглая кожа. Не имелось на его лице и шрамов или рубцов от оспы, которой он, судя по всему, никогда не болел. Однако было в его внешности что-то демоническое и невероятно притягательное для прекрасного пола.
– Ты опоздал, Боря, – исподлобья произнесла Тамара, недовольно оглядывая снизу вверх Бориса, примечая его грязную обувь и неаккуратно, наспех, заправленную рубашку.
Воспитанием пасынка и падчерицы Агафья Мирославовна занималась мало. Вместо этого она регулярно приводила любовников в квартиру. Денег она, в то же время, требовала больше и больше. Все свои Степан Евдокимович отдавал ей. Чтобы прокормить себя, Борис и Тамара тоже были вынуждены пойти на завод. Мальчика взяли сразу, но у Тамары возникли неполадки, вскоре разрешившиеся. Чтению Борис выучился только в четырнадцать лет по требованию хозяина фабрики. Для девочек это требование не было обязательным, но Тамара слёзно упрашивала брата обучить грамоте и её, чтобы понимать газеты и записывать стихотворения бывших ссыльных, к которым она скоро пристрастилась по совету Мартына. Тамара хорошо помнила, как она, двенадцатилетняя, после восьмичасовой смены (смена взрослого – на три часа дольше) в обморочном состоянии валилась с ног и всё равно бралась за книгу. Почти то же делал Борис (брат читал меньше), но сейчас он редко вспоминал о прошлом – настоящее заботило его значительно сильнее.
– Допрашивали одну прелестную барышню, сбежавшую от мужа, – вместе с Борисом засмеялись и остальные.
– А хорошо вы устроились! – весело процедил хриплый старик.
– Они устроились-то, может, и хорошо, а мы до сих пор прячемся по подвалам, – работница демонстративно закатила глаза. – Сволочи жандармские куда ни плюнь, Ёрга молчит. Что там происходит, Тихон? Ты не договорил, – женщина сверкнула глазами на Бориса.
Он же на это не обратил никакого внимания, увлёкшись бесстыдным разглядыванием Катерины, безустанно теребящей почти сомкнутыми пальцами длинную юбку. Он задержал бессовестный взгляд на вздрагивающем подбородке и удовлетворённо хмыкнул.
– Томе… да хоть моей Маруське господская, конечно, в подмётки не годится, – стоящий по соседству острым локтем ткнул Бориса и подмигнул ему. – Но на вечерок сойдёт… Отвадить бы от неё твою сестрицу, да ка-ак…
– Закатай губу, Плешивый, – недовольно буркнул Борис. – Даже такая не по твоим гнилым зубам.
– Не хватало ещё «любо-нелюбо» у неё спрашивать…
– Плешивый, ещё слово, и я тебе брюхо вскрою, – раздражённо подытожила Тамара, не отворачиваясь от говорящего Тихона.
– Тома, для чего нам готовить мятеж? – статный светловолосый юноша, самый молодой и опрятный из всех, мечтательно наблюдал за летающими комарами. Ему не было интересно, кто эта загадочная, пошатывающаяся от паники и приведённая Тамарой девушка, но всё же он опускал на неё оценивающий взгляд.
То был Самойлов Дмитрий Дмитриевич, сын царского офицера, которому покровительствовал сам Щербаков – сын зажиточного крестьянина, разбогатевшего на спекуляции водкой после отмены крепостного права. Щербаков младший спонсировал революционную организацию Тамары и Бориса. Никто из входящих в её состав не понимал, отчего их благодетель доверяет дворянскому сыну, явно не заинтересованному в падении режима, однако идти откровенно против своего кошелька никто не решался. Не забылось, что Щербаков многим помог как предводителям (к примеру, выделил им конспиративную двухкомнатную квартиру, которую оплачивает), так и рядовым участникам (обеспечивал едой, оружием и прочим). Щербаков Олег Владимирович немало потратил и на взятки полиции, чтобы та закрывала глаза на существование объединения.
К Дмитрию Дмитриевичу относились настороженно. Тамара была наиболее категорична – она совершенно не доверяла юноше и при любой удобной возможности проверяла его, как она сама это называла, «на вшивость».
К примеру, двумя месяцами ранее она отправила Дмитрия возглавлять отряд, собирающийся совершить покушение на владельца одной из фабрик. Стоит сказать, что справился он почти успешно. В самый последний момент выяснилось, что буквально час назад фабриканта Позднякова застрелила другая «банда» – Коломенского.
– Что значит «зачем»? – сощурившись, недоумевавшая Тамара выгнула и так дугообразную бровь. – Выйдем мы – за нами другие. За Ёргой последует Игнатьево, за ними – Тютнево, Сокольское. Зачем! – женщина возмущённо всплеснула руками.
– Есть другие, более мирные, способы. Почему просто не договориться с фабрикантами? Найти компромисс, – Дмитрий поймал на себе удивлённый взгляд Катерины. Он ласково улыбнулся, отчего щёки дворянки запылали, и покосился на Бориса. Она смущённо кивнула так, чтобы никто не заметил.
Однако заметил брат Тамары, не прекращающий наблюдение за Катериной в отличие от других, делающих немые ставки на реакцию Тамары на слова дворянина. Волнительное воздействие, оказанное на девушку вследствие зрительного контакта с Дмитрием, мужчина воспринял ревностно, недовольно. Отчего-то он решил, что ни в коем случае не уступит эту девушку, ничем, собственно, не отличавшуюся от остальных женщин Бориса, заносчивому мальчишке. Не нежность, а злость охватила его.
Борис никогда не был склонен к глубоким и продолжительным чувствам к женщинам, независимо от наличия или отсутствия в них тех или иных качеств, в которые обычно влюбляются. Впрочем, он моментально возгорался пылкой мимолётной страстью к каждой более-менее привлекательной особе.
Для него не существовало идеала. Будь то хиленькая брюнеточка с розовыми щёчками, пылающими то ли от мороза, то ли от жарких комплиментов, или очаровательная плотная блондинка с искрящимися глазами; благородная ли барышня со знанием трёх языков или крестьянка, не знающая алфавита; статная ли дама за сорок или незрелая курсистка, – он любил всех одинаково горячо и одинаково недолго.
Тамара не одобряла безразборных увлечений, но, каким бы она ни являлась авторитетом для брата, именно с его одержимостью и беспримерной похотью к слабому полу бороться была не в силах.
– Не зли меня, Дима. Не вынуждай портить отношения с Щербаковым, – Тамара поджала губы.
– Тома, вы всё обсудили? – Борис отстранился от стены и размял затёкшие плечи. – Уже поздно, на работу скоро, а я устал.
– А ты поменьше беженок допрашивай. Авось и уставать перестанешь? – Тамара беззлобно улыбнулась нахмурившемуся брату, которого хлопали по спине скалящиеся мужики. Лишь Катерина и Дмитрий сохранили молчание, потупив взгляды в пол. – Но расходиться действительно пора.
Из подвала удалялись не одновременно. Люди выходили с промежутком в пару минут, чтобы не вызвать вопросов у полиции.
– До свидания, Катерина, – Дмитрий оставался последним, не покинувшим зал. Юноша сдержанно поклонился и поцеловал хрупкую ладошку оробелой девушки. – Мечтаю о новой встрече.
Борис злобно наблюдал за картиной.
– Катя, тебя поселю в своей комнате, – заявила женщина, когда все наконец разошлись.
– А почему в твоей? – Борис устало потянулся и сверкнул красивыми зубами. Напуганная Катерина сильнее спряталась за спиной закатывающей глаза Тамары.




