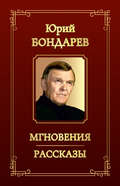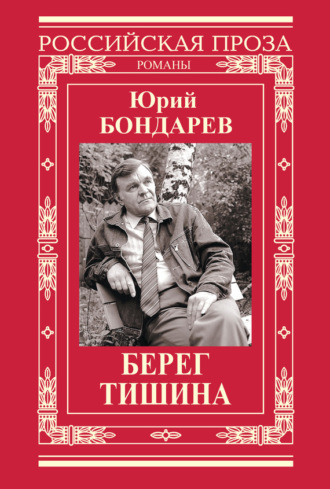
Юрий Бондарев
Берег. Тишина (сборник)
– Э-э… вы меня не поняли, господин Самсонов, нет. Я о современном человеке.
– Я понял. И я о современном человеке. Вот вы, например. – И Самсонов с тяжелым упорством нацелился стеклами очков на господина Дицмана. – Вот вы… служили в гитлеровском вермахте, воевали?
Нога господина Дицмана, закинутая на коленку другой ноги, задвигалась неспокойно, и задвигался узкий полуботинок под заторможенный ритм его голоса:
– Да, конечно, я служил. Не будучи исключением.
– Где, интересно?
– В Берлине. Я воевал в фольксштурме. В конце войны я был мальчик, господин Самсонов, когда ваши подошли к городу. Это был март, апрель. Тогда вы уже наступали в глубь Германии, а мы оборонялись.
– И сколько вы убили русских? – спросил Самсонов и засопел, скулы его стянулись, окаменели. – Одного? Двух? Сколько?
Среди тишины жарким треском постреливали, пылали поленья на решетке камина, и в молчании этом все разом посмотрели на Дицмана одинаковым взглядом опасливого и принужденного участия, и холодноватой струйкой прошел ветерок напряженности по смеженным векам господина Вебера, по взмахивающим ресницам Лоты Титтель, по прозрачно-бледному лицу госпожи Герберт – так показалось Никитину, едва он сопоставил этот добропорядочный уютный покой утепленной камином, коврами и светом торшеров гамбургской гостиной и страшное кровавое прошлое, вставшее между ними четверть века назад.
– Я не знаю, кого я убил, я не видел, – неровным голосом задавленного волнения проговорил господин Дицман. – Фаустпатроном я подбил один танк. Он назывался у вас «тридцатьчетверка». Я стрелял из подвала на набережной Шпрее, когда ваши продвигались к рейхстагу. Танк загорелся, и больше я ничего не видел. Следующий ваш танк… как его… «И-Эс»… Иосиф Сталин, да? Второй танк заметил нас и выстрелил по окнам подвала. Мы быстро ушли.
Господин Дицман потискал пачку сигарет, понюхал ее, отбросил на столик, упреждая вопрос Самсонова усмешкой:
– А сколько немцев убили вы, господин Самсонов?
Самсонов ответил неприязненно:
– Я служил переводчиком в штабе армии, поэтому не стрелял… Вы фаустпатроном сожгли, если вам верить, один танк, значит, убили четырех советских танкистов. Во имя чего? Вы вольно или невольно защищали нацизм? Так?
– Господин Самсонов! – вскричал Дицман и повалился спиной в кресло, вскидывая нервные руки, мотая кистями рук, точно притворно пощады просил. – Я был мальчишка, зеленый глупец, с одураченным сознанием, я был только барабаном, на котором сколько угодно можно было выстукивать патриотические марши! И… если мы начнем упрекать друг друга, мы никогда не найдем общечеловеческую истину! Мы тоже потеряли более десяти процентов населения! Но я не думал спрашивать, сколько немцев убили вы, господин Самсонов, и сколько убил господин Никитин, а он не служил в штабе, как я знаю… а был офицером артиллерии и, значит, не ангелом во плоти и не гандистом! Не так, господин Никитин?
– Откуда вам так много известно про меня, не говоря уж о моем характере? – спросил Никитин с оттенком спокойного шутливого интереса. – По-моему, мы встречаемся впервые.
– Разве не мог я вас встретить в войну? – засмеялся Дицман, и высокий женственный лоб его замаслился испариной. – Ну, например, в Берлине? Возможно? Могло так быть?
– Это почти невозможно, – ответил Никитин полусерьезно. – Я не люблю беллетристику, а тем более фантастику. Я реалист, господин Дицман.
– И в реализме многое возможно, так много, что об этом даже не подозревают сами реалисты! В Берлине сошлись вплотную две многомиллионные армии, и там я мог вас… – Дицман, раздувая тонкие ноздри, взял бокал и как бы задавил неприятно незаконченную фразу глотками вина. – Но я, – продолжал он, салфеткой вытерев губы и пьяно растягивая слова, – но я, если бы знал, что передо мной русский интеллигент, например писатель Никитин, я не стрелял бы в него…
– Стреляли бы, – уверенно сказал Никитин. – И я бы стрелял, если бы вас встретил тогда. И это опять реализм. И ничего тут не поделаешь.
– Нет, вы бы не застрелили меня, именно вы… – очень тихо выговорил заплетающимся языком Дицман. – Вы были тогда мальчишка и не застрелили бы меня, тоже мальчишку… Я чувствую, я знаю. Или какую-нибудь немецкую девушку… Нет, вы не застрелили бы… Господин Самсонов решительнее вас: бац – и нет еще одного немца, ненавистного немца…
– Шумел камыш или тайны мадридского двора в стиле Кафки, – сказал по-русски Самсонов и вновь подтолкнул Никитина под столом: мол, что это за пьяные штучки, понимаешь ты что-нибудь?
И тут Никитин услышал запнувшийся, незнакомо-умоляющий голос госпожи Герберт:
– Фридрих, перестаньте, пожалуйста, пить, я вас очень прошу. Если вы удерживаетесь от курения, то поберегите свое сердце и от вина. Прошу вас…
Госпожа Герберт сидела, не подымая глаз; слабая, как ниточка, морщинка горечи разъединяла на переносице ее брови, ровные, темные по сравнению с ее белеющими сединой волосами, и это вынужденное замечание по поводу вина, это право упрека господину Дицману, названному ею по имени, Никитин почему-то воспринял позволенным на людях кратким раздражением, возникшим между друзьями, близкими или между мужем и женой и тотчас сглаженным внешним приличием воспитанной хозяйки дома, уставшей защищать гостей от нетрезвой навязчивости тесно приближенного к ней человека. «Кто он ей? Любовник? Родственник? – подумал Никитин. – Я не помню, чтобы она представляла его как мужа». И уже чувствуя, что надо как-то смягчить, ослабить вязкую неловкость между собой, Дицманом, госпожой Герберт и Самсоновым, он хотел пошутить по поводу иррациональной игры подсознания, однако его опередил Дицман.
Хлестко ударив ладонями по подлокотникам, он чересчур быстро, с рыву поднялся, застегивая пиджак, смеясь и сгоняя смех с землистого, худого лица, освещенного блестящими главами, проговорил с ожесточенной веселостью:
– Да, несомненно, вы умница. Благодарю. Я бы не хотел, чтобы у меня повторился сердечный приступ. Эта штука нужна. – И постучал пальцем в левую часть груди. – До свидания, господа. Мы еще не раз увидимся! Я действительно слаб после болезни. Еду спать!
Он сделал общий поклон и, высокий, прямой, слегка качаясь на долгих ногах, пошел по толстому ковру к двери.
– Фридрих! – вставая, проговорила госпожа Герберт. – В таком состоянии вам будет трудно вести машину! Извините, господа, один момент…
Она догнала его, и перед дверью Дицман, по-прежнему чересчур решительный, обернулся, вздернул плечо, сделал звонкий щелчок пальцами, словно поворотом включал зажигание, ответил ей смехом:
– Когда я выпью, я вожу машину, как гонщик, уверяю! Лучше, чем обычно.
Они вышли, дверь плотно замкнула безмолвие в гостиной, стало слышно похрустыванье, пощелкиванье поленьев в недрах камина, гости преувеличенно вежливо переглянулись, как бы чуть-чуть разочарованные неожиданным уходом хозяйки, прерванным разговором, – господин Вебер, весь утонув в кресле, дыша кругленьким, обтянутым жилетом брюшком, глубокомысленно почистил о жилет ноготь, своими полускрытыми в одутловатых веках глазками рассмотрел под светом торшера его полировку, затем со свистом, с бульканьем потянул через соломинку остаток коктейля из бокала, добродушно заговорил:
– Господин Дицман – великолепный главный редактор, талантливый эссеист, интеллектуальный человек…
– …которого ты держишь в своем издательстве, как безотказного негра. У него месяц назад был сердечный приступ! – добавила Лота Титтель, наступательно вскинув подбородок. – Не так ли?
– Лота, Лота, Лота… – ласково и миролюбиво возразил господин Вебер. – Ты опять делаешь заявление как социал-демократ, а не как актриса. Нет, нет? Сердечный приступ господин Дицман получил не из-за больших денег, которые я ему плачу, а от невоздержанности, свойственной сейчас интеллектуалам, нет, нет?
– Вы не соскучились без меня, господа?
Вошла госпожа Герберт, приятной улыбкой гостеприимной хозяйки, даже спешащей походкой как бы извиняясь за свое отсутствие, но господин Вебер довольно проворно для своего грузного сложения встал, все так же по-домашнему благодушно сияя хорошими зубами, лысой головой, и за ним гибкой веточкой разогнулась и легко вскочила Лота Титтель, подхватывая сумочку с пола, зашуршав серебристой чешуей платья, и оба вперемежку с благодарностями за прекрасный вечер начали прощаться с госпожой Герберт.
А она кивала, улыбаясь, однако не задерживала их, что часто бывает в русских домах, и они, отпустив ее руку, стали прощаться с Никитиным и Самсоновым, которые тоже встали следом за Лотой Титтель.
– И нам пора, госпожа Герберт, – сказал Никитин. – Спасибо вам…
– О нет, нет, нет! Одну минутку, господин Никитин! – вдруг перебила его она, смущенно глядя ему в глаза. – Я хотела бы вас задержать на несколько минут. Господина Самсонова, если он не возражает, подвезет до отеля господин Вебер, а я отвезу вас через полчаса. Я хотела бы поговорить с вами о предстоящей дискуссии. Это совсем немного отнимет у вас времени.
«Зачем она при всех отделяет меня от Самсонова? Что за этим стоит?» – подумал Никитин, чувствуя мерзкое неудобство колющего подозрения, какой-то внутренней тесноты, намеренный отказаться и вполусерьез, деликатно, настойчиво сказать об усталости, о головной боли, о предельной перенасыщенности впечатлениями, но проговорил тоном отвратительного самому себе согласия:
– Что ж. – И добавил излишне спокойно, обращаясь к Самсонову: – Я приеду и зайду к тебе. Не ложись спать. Подожди.
– Черт знает… Не приглашают ли тебя ночевать здесь? – вкось кинув сердитый взгляд на госпожу Герберт, ответил по-русски Самсонов, будто говорил о надоевшей погоде, и, багровея, заложил руки за спину, покачался взад и вперед на каблуках перед господином Вебером. – Значит, я могу надеяться на вашу любезность? Вы меня подвезете?
– Конечно, конечно! – тряхнула струями рыжих волос Лота Титтель, распространяя запах лавандовой свежести, и вторично по-мужски стиснула руку Никитина, сказала шепотом: – Нас, немцев, все же есть за что не любить, господин Никитин, стоит только вспомнить войну. О, это особая нация!
Они сидели на кожаном диване в библиотеке.
– Я прошу вас говорить медленнее. Иначе не все пойму.
– Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать.
– Я не понимаю, что вы имеете в виду.
– Я имею в виду войну.
Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти махающие листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом пожелтелой, тронутой временем бумаги – неизменный запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти, а он видел из-за ее руки мелькающие на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами, – подбородки жестко подпирали стоячие воротники, – мужчин, по-домашнему расположившихся бок о бок с белолицыми женами в белых платьях, в окружении белокурых кудрявых детей; затем на блеске знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера, на пилотку накинута маскировочная сетка, новенький Железный крест мерцал под кармашком черной танкистской куртки, и Никитин спросил:
– Кто этот офицер, госпожа Герберт?
– Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком. В африканском корпусе.
– Значит, он служил у Роммеля? – сказал Никитин. – Тобрук – это сорок второй год. А ваша мать… надеюсь, жива, госпожа Герберт? – спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или, отчего-то казалось ему, к неприятно нервному, неприятно взбудораженному вином господину Дицману, после мутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанное ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающее подозрение.
И Никитин, нахмуриваясь от сознания непредвиденно глупого положения: все разъехались, уехал в отель и недовольный его необдуманным согласием Самсонов, а он, не имея каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться, остался здесь и теперь принужден был проявлять официальный интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме, – думал о своей опасной мягкотелости, податливой нетвердости, уже раздражавшей его сейчас.
– Моя мать умерла в тридцать шестом году, господин Никитин, – проговорила госпожа Герберт. – Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме… Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?
– Нет, нет, – ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность, и, злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей: – Простите, голова… это пройдет…
– Вам принести таблетку от головной боли?
– Спасибо. Это пройдет.
Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами, обе ее руки лежали на альбоме, и тоже, чудилось, в робком замешательстве она молчала, медальончик на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием, и Никитин, вдруг остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не без колебаний, намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил, слыша неестественную спокойную нотку в голосе:
– Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется. Говорите же…
– Да, я хочу, господин Никитин.
Она взяла сигарету со столика; он предупредительно зажег спичку, она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом, потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко:
– Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кенигсдорфе? Вы его немного помните?
И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание – она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу:
«Кенигсдорф. Вильгельмштрассе, 7, наш дом».
Этот снимок был сделан до войны, время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков, мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца, вблизи – сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед, возле присела на корточки загорелая девочка-подросток, на ней спортивный костюм, под шапочку убраны короткие желтые волосы. Девочка присела над никелированным рулем, а он металлическими рогами торчал из травы, по-летнему густой, счастливой…
– Вам знаком этот дом, господин Никитин?
Два пальца госпожи Герберт, зажимавшие сигарету, лиловели лаком ногтей, как бы случайно прикрывали лицо этой девочки, показывая Никитину дом, – он, охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоения памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого, прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутемь прохлады, звук патефона доносился из глубины дома, я в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами.
Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кенигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки, только орудия батареи были вкопаны метрах в ста пятидесяти за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и «студебеккеры» стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен. Да, в таком же доме размещался взвод Никитина, заняв четыре или пять комнат, и был во взводе английской марки («хиз мастерз войс») патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше, на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы, и чудом сохраненных и довезенных до Германии.
Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром, и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, нечто счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех неистовой злобой, любовью и жалостью.
Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости, и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные, тихие, зеленые дни за окнами добротного дома под соснами…
– Кто эта девочка? – глухо спросил Никитин и от удушья, от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы в грудь больше вобрать воздуха; ему сейчас так нестерпимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему многое объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся, будто во сне.
– Девочка? – Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома, и она вполголоса сказала: – Это я, господин Никитин.
– Вы? Это вы?
– На фотографии мне одиннадцать лет. В том году была одержана победа в Чехословакии, и мне купили велосипед. Отец очень любил и баловал меня после смерти матери…
– Ваш отец был уже в армии?
– Да… Посмотрите, господин Никитин, какой гадкий кенгуренок сидит в траве – руки длинные, плечи острые, весь из углов, фи, можно обрезаться!.. Подросток – неудачная пора девочки с манерами мальчика…
Нет, то было другое, он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То, непостижимо связанное с обогретой солнцем лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное, такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горькая радость от чего-то свершившегося тогда, очень важного, главного, но упрятанного временем в памяти. И Никитин испугался мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом, не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущений, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее.
– Вы не помните этот дом, господин Никитин?
– В Германии мы не раз останавливались в таких домах, – сказал Никитин. – К сожалению, нет. Не помню.
Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения и от ее долгого ошеломленного молчания, а оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица, точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверно, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать: он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота:
– Да, да, господин Никитин, прошло столько лет. А в этом доме прошла моя юность…
Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно приминая ее к донышку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память, сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт, ее маленьким ухом, видным из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, ее золотым медальончиком на груди, ее бледностью висков, на которых нежно проступали жилки… И в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той выдуманной воображением или забытой Эммой и этой фрау Герберт; казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и близкую реальность.
«Сколько же мы стояли тогда в Кенигсдорфе? – думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность того весеннего, далекого, почти недействительного. – Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт та самая Эмма? Неужели? Ей тогда было лет восемнадцать. И все, что произошло между мной, сержантом Межениным и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее? Не может быть! Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы, в зеркало бы на себя посмотреть сейчас – седые виски, морщины под глазами!.. Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала?»
– Господин Никитин… вы меня забыли, прошло столько лет… А я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: «До свиданья, Эмма». До сви-дань-я-а…
Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды, – ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги, внизу возле дома уже не было машин, и лишь на лужайке ждал его «студебеккер» четвертого орудия, ждал, работая мотором, оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им вразнобой: «Эмма, ауф видерзеен! Товарищ лейтенант, ехать пора!»
А потом он целовал ее с какой-то жестокой прощальной нежностью, тормошил ее, стискивал ее в объятиях, еле не плача, зная, что они больше не увидятся, и она, подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо, не отпуская его, все повторяла, заикаясь, выученную ею русскую фразу: «Ва-ди-им, мил-ий, не-е з-забыв-ай мень-я».
Он оторвался от нее, скатился, сбежал по лестнице, и, когда садился в машину, она еще стояла в окне, до он не махнул ей, не повернулся к окну, не взглянул, крикнул сжатым голосом: «Поехали! Марш!»
– Госпожа Герберт… – сказал Никитин и, наклоняясь, не глядя ей в глаза, поцеловал ее ледяную, дрожащую руку. – Мне трудно поверить, Эмма.