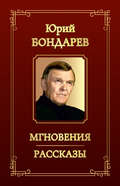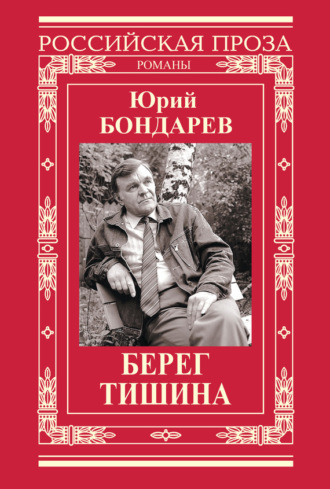
Юрий Бондарев
Берег. Тишина (сборник)
– Посмотрим, какую ценность вы обнаружили, сержант.
Никитин взял новую тугую пачку купюр, увидел под черной печатью изображение орла, «Deutsche Reichsbank 5000» и швырнул пачку в раскрытый мешок, точно камень, не представляющий никакого интереса; потом осмотрел часики, протянутые Межениным, и, за кончик ремешка опуская их в подставленную ладонь сержанта, сказал с брезгливым безразличием:
– Ерунда, Меженин. Рейхсмарки ни к чему, можно в печку. Часы – не швейцарские. Пасхальные подарки немецким солдатам. Поняли?
– Ясныть, – насмешливо смежил женские ресницы Меженин. – А может, товарищ лейтенант, рейхсмарки-то к чему? А? Миллион грошей… А?
– Возьмите мешок и идите к взводу, – сказал Никитин, прерывая разговор, и досадливо пощупал белесую щетинку на подбородке. – Думал, у вас дело, а оказалось – пустое. Скажите Ушатикову, пусть принесет горячей воды. Побреюсь и приду завтракать.
– Ясныть. – Меженин надвинул на бровь пилотку, взвалил мешок на скошенное полноватое плечо, вышел, застучал сапогами по лестнице, внизу скомандовал зверским голосом: – Ушатиков! Горячей воды лейтенанту для туалета! И… – он срезал повелительную интонацию, добавил что-то не вполне расслышанное сверху Никитиным.
На первом этаже фугасным разрывом, сотрясающим стены, грохнул смех, охотно заржали крепкими глотками на ответное чье-то словцо, но в солдатском хохоте, фырканье не было недружелюбия или злобы по отношению к Никитину, он знал это. Весь взвод, выспавшийся, хорошо отдохнувший в тепле и домашней благодати, был расположен к любой шутке, к любой остроте, подхватывая ее общим гоготом здорового веселья, то и дело вспыхивающего игривым огоньком.
«А Меженин недобр ко мне», – подумал Никитин, раскладывая на подоконнике никелированную безопасную бритву, пушистый помазок, складной стаканчик-мыльницу и коробочку острейших золингеновских лезвий – целый набор, предназначенный, по-видимому, в 1943 году быть рождественским подарком для какого-то немецкого офицера вместе с набором датских консервов, изюмом, французским шоколадом и игрушечной картонной елочкой, упакованными в пакетах, которые были взяты в качестве трофеев на одном из товарных эшелонов под Житомиром.
– Что там у вас за смех? – спросил Никитин, когда самый молоденький из взвода, Ушатиков, радостно сияя до ушей, принес и поставил на стул котелок кипятка и тут же неудержимо залился тоненьким смехом.
– Да разве их поймешь, товарищ лейтенант, – заговорил он, прыская в ладонь, – слово какое скажут и ржут. – И Ушатиков по-бабьи хлопнул длинными руками по бедрам, излучая восторг и удивление. – Хохотуны, смешинка всем в рот попала!
– Остроты знакомы. Идите завтракать, – сказал Никитин, слыша взрывы хохота внизу, и внезапно улыбнулся, зараженный смехом солдат.
Солнце стояло над крышами, не по-раннему жарко припекало подоконник, плечо Никитину, а он с замедленным удовольствием не обремененного заботами человека брился перед зеркалом, чувствуя в раскрытое окно дуновение смолистого теплого воздуха от сосен, и этот аромат трофейного душистого мыла, вскипавшего нежной пеной под щекотными движениями помазка на щеках, и неторопливое прикосновение бритвы, после которой и без того чистая кожа становилась свежей, гладкой, молодой. Бреясь, он всматривался в свое лицо, в блеск выспавшихся глаз и праздно и весело думал, не отпустить ли ему тонкие усики, какие щегольски начали носить еще на Одере пехотные разведчики. Он оставил ради эксперимента до конца бритья светлую, очень реденькую полоску над верхней губой, но усики не придавали его внешности ни солидности, ни безмятежного щегольства; минуту он изучающе ощупывал их, затем сказал вслух: «К черту!» – и решительно отказался оставлять лишнее украшение, что, несомненно, вызвало бы кривую ухмылочку Меженина, его подъедающий возглас: «А лейтенант-то наш усики отпустил! К чему бы это?»
Закончив бритье, он смочил полотенце горячей водой и, разглядывая себя, обновленного, в зеркале, протер лицо, шею, грудь, испытывая бодрое настроение прекрасного весеннего утра, и от этого парного компресса, от какой-то звонкости в каждом мускуле, и от того, что никуда не нужно торопиться, ничего не надо решать, даже серьезно думать, чего нельзя было и предположить сутки назад в пылающем пожарами Берлине.
– Лейтенант, а лейтенант, завтракать! – сквозь пчелиное гудение послышался крик снизу. – Пиво стынет!
И Никитин, причесанный, застегнутый, провел влажным полотенцем по орденам, освежая эмаль, куда въелась пятнышками пороховая гарь, ощущая упругость тела и физическую чистоту, еще раз осмотрел свое лицо в зеркале и сказал опять вслух:
– Все отлично. И все прекрасно.
Когда же он спускался по винтовой лестнице в столовую, галдевшую голосами, и заскользил локтем по гладким деревянным перилам, его вдруг душным ветерком остановила мысль о том, что все это новое, легкое, бездумное, без близости войны, должно вот-вот оборваться, кончиться, исчезнуть, что он, его взвод в немецком городке живут в неправдоподобном и обманывающем тумане счастья, которое не может долго продолжаться. И вспомнил себя, грязного, потного, черного, с ввалившимися худыми щеками, каким предстало его лицо в том же зеркале позавчера ночью, после того, как, расположив солдат в свободном немецком доме, этом нежданно посланном войной рае, он впервые перешагнул порог занятой им мансарды.
2
В столовой, большой, накуренной, наискось из окон пронизанной столбами солнца, заполненной солдатами его взвода, в толчее и хаосе оживленного говора, смеха, шуточек, общего возбуждения вокруг стола запоздалое появление Никитина сразу было встречено обрадованными возгласами: «А, лейтенант, давай на свое место, все готово!» – и тот укол тревоги на лестнице прошел мгновенно – прошел ненужным напоминанием об опасности, некстати. И он снова подумал удовлетворенно: «Конечно, не стоит ничего вбивать в голову, пока идет все отлично! Главное – жив мой взвод и жив я! Что же еще нужно?»
Большинство солдат толпились у края стола, шумели позади сержанта Меженина, а он, стоя, коленкой придерживал мешок на стуле, вертел на ремешке вынутые из коробки часики, оглядывал солдат сощуренными глазами и говорил громко:
– Рассудим, братцы – что за это дело можно иметь? Поджаренную свининку, пиво и всякую немецкую жратву. Спрашивается, как такое сделать? Кумекаю – а раз плюнуть! Таткин, слушай сюда! После завтрака тебе сходить к хозяину закрытого магазина, что напротив, и предложить: мол, так и так, не желаете ли часики по обоюдному соглашению насчет обмена, полюбовно, хоть мы вас, сволочей, и придушить должны, а кое-как терпим! Нет возражений, пустить трофеи по этому делу?
– Какое там! Таткин сможет, он – голова в цифрах! Счетоводом в колхозе на счетах чесал небось, как на пианинах! Его б старшиной поставить, у него подсчет снайперский! – захохотали позади Меженина, и там, в толпе, любовно принялись тискать, хлопать по плечам, по шее низенького ростом, рыжего Таткина, всегда обстоятельно-расчетливого, хозяйственного наводчика третьего орудия, который даже пригнулся, закашлялся под напором незлобивого солдатского подзадоривания. – Да если бы Таткин в интендантах ходил, второй раз Берлин брать можно было бы! Таткин у нас ровно генерал без звания, мозгой в разных направлениях ворочает!
– А в мешке никак все часики? – поинтересовался Таткин, польщенный всеобщим признанием своих хозяйственных заслуг, и раздвинул «молнию» мешка проворными руками. – Чего тут? Бумаги вроде шуршат… Это что такое?
– Миллионы, Таткин, в упор гляди, едрена-матрена! – крикнул Меженин. – Законные рейхсмарки, раскумекал, нет? Корову и дом целый можно купить да немочку в придачу, что пальчиком из окна за сигареты манит, понял? Гляди сюда, Таткин!.. – И, заранее угадывая впечатление, которое он сейчас произведет, Меженин выхватил из мешка и хлестнул по краю стола пухлой пачкой купюр. – В каждой такой по пять тысяч! Понял, отчего козел хвост поднял? Держи эту пачку для разведки, Таткин, да разнюхай в любом магазинчике, берут или нет? А с ними, братцы, жить можно будет!
– Неужто всамделе миллионы? – ахнул Ушатиков и по-птичьи вытянул через плечо Меженина длинную шею, стараясь поближе разглядеть деньги на столе. – Это мы навроде капиталистов? Мешок? Неужто настоящие? – вскрикнул он по обыкновению удивленно и восторженно.
– Выходит, миллионщиком ты стал, малец, раскрывай карманы!
– Да куда столько-то? Че делать-то? Ужасти!..
– С кашей съешь заместо закуски и добавку попросишь! Не растеряешься!..
В заразительном и любвеобильном порыве друг к другу, толкаясь, дурачась, солдаты теперь увесисто захлопали ладонями по плечам, по худенькой спине Ушатикова, успокаивая его этим дружным тисканьем, а он прыснул, залился жеребячьим смехом, как от щекотки, и тогда старший сержант Зыкин, командир четвертого орудия, человек в серьезных годах, семейный, рассудительный, не умевший радоваться долго, сплюнул цигарку, дососанную до губ, позвал внушительным голосом:
– Ушатиков!
– Что?
– Это как называется? – спросил Зыкин и показал коричневый обкуренный палец. – Понятие имеешь?
– Известно что, товарищ старший сержант, палец ваш, я не вижу разве? – заморгал Ушатиков с ничем не истребимой обезоруживающей наивностью.
– Врешь, Ушатиков, не палец, а оглобля. Или, скажем, не оглобля, а курица, – сказал Зыкин в сердцах. – Посмотри, малец, лучше. Или без очков не видишь?
– Как так курица? Всамделе смеетесь, товарищ старший сержант?
– Замечание имею. Ты, Ушатиков, из смеха и вопросов состоишь, – проговорил Зыкин. – И какие такие философы, коровьи дети, у вас в Калуге родятся? «Неужто немцы?», «Неужто танки?» Все твои вопросы наперед знаю. И тут тебе опять, как дубиной по голове, удивление оглоушило: «Неужто настоящие?» А ежели настоящие, ну чего ты с миллионами делать будешь? Живем мы, братцы, как на курорте, и ровно оглупели, как мухи! В голове – карусель.
– Но-но, Зыкин! – прикрикнул Меженин, мерцая глазами, и голос прозвучал властно. – Ты моих орлов не трогай! Если польза от чего есть, с какой стати ушами хлопать? Не заслужили, что ль? Верно, ребята? Ты, Зыкин, у нас – святой, молись за нас! Трофеи по всем статьям взяты. И чин чинарем. Как, Таткин, нормальные гроши? Докладывай, бухгалтерская голова, чтоб все слышали, есть в них какая ценность или я оглупел, как вон Зыкин говорит! Себе в карман миллион не положу, мама так делать не велела!
Он терпкой насмешкой подавил возражение Зыкина, и солдаты, посмеиваясь, одобрительно загудели, подмываемые любопытством, сгрудились за спиной рыженького Таткина, который между тем с деловой предосторожностью отодрал ногтем скрепляющую новенькую пачку купюр банковскую полоску, крякнув, священнодейственно послюнив два пальца, вытянул одну бумажку из пачки и, рассматривая против солнца, подозрительно покрутил ее и так и сяк; хитрое усатое личико его выражало важную работу и значительность действия.
– Похоже, не фальшивые, – сказал он. – Рейхсмарка тысячного достоинства. С такими дело не имел. Не знаю таких.
И он, бережно вложив купюру обратно в пачку, ударил пальцами о пальцы, точно пыль счищал.
– Так если ты бухгалтер, счетовод и петришь в финансах, значит – будешь дело иметь! – возвысил голос Меженин. – Соображай, бухгалтерская голова, на полных денежных правах, понял, нет? Мы платим немчишкам, и все – законно!
– Давай, Таткин, давай! – послышались ободряющие голоса. – С паршивой овцы хоть шерсти клок! Они у нас, гады, без денег все брали, а мы как-никак по совести… А часики куда? Значит, мы теперь миллионщики, ха-ха! Ну, сержант, ухватистый ты у нас… А завтрак-то, братцы, про кашу и бир забыли! И лейтенант ждет!
«Глупо и непонятно. Зачем им деньги?» – подумал Никитин, молча наблюдая за Таткиным, за распорядительностью Меженина, за солдатами своего взвода, не в меру возбужденными этими деньгами и часиками, – ведь еще сутки назад там, в Берлине, на аллеях Цоо ничто не имело ценности, кроме одного-единственного – жизни.
– Меженин, уберите со стола всю эту ерунду! Пора завтракать, – сказал Никитин в момент краткой тишины и сел на «лейтенантское» место, добавил: – Мешок с трофеями спрячьте-ка под стол, а то очень много шума. Так что выдал сегодня старшина? Пиво? Раздайте каждому по три бутылки, сержант, вместо ваших трофеев. Так будет лучше.
За завтраком пили пиво, шипевшее пеной из горлышек темных бутылок, наливали его в большие граненые кружки, взятые на кухне, чокались толстым стеклом под шутливые тосты, аппетитно ели кашу, звенели массивными золингеновскими ложками по фарфоровым тарелкам, тоже взятым «напрокат» в кухонном буфете, говорили, кричали, перебивая друг друга, вспоминали шестнадцать дней в Берлине, уличные бои и баррикады, как проламывались через квартиры, через стены домов к Тиргартену, – и, отмытые, покрасневшие, радостно хохотали при каждой пришедшей на память детали, а солнце яростно ломилось в окна, широко рассекало стол горячими белыми квадратами, пекло спины сквозь гимнастерки, становилось жарко. И в этом нескончаемом завтраке, неумолкающих разговорах, в сигаретном и махорочном дыму, вкусе чужого пива, в шумной тесноте столовой, весенней жаре было какое-то ненасытное, жадное и нетерпеливое пиршество людей, только что удачливо пролезших через игольное ушко, все помнивших и все забывших для того, чтобы жить теперь.
Никитин отхлебывал пиво, смотрел на солдат, знакомых и чем-то незнакомых ему по новым жестам, улыбкам, тону голоса, – и за сутки ощутимая перемена этой окончательно счастливой судьбы теплым наплывом блаженства охватывала его. И сержант Меженин, весь прочный, с расстегнутым воротом гимнастерки, потный, без конца выкрикивающий тосты за «капут войне, за баб, за немчишек, которым всем передохнуть», и наивный круглоглазый Ушатиков со своим удивленным всплеском рук, готовый залиться звонким, серебристым бубенчиком, охотно засмеяться любому посоленному слову, и хитренький Таткин, украдкой составляющий выпитые бутылки под стол, подальше от глаз начальства, и степенный, серьезный командир четвертого орудия Зыкин, глубокомысленно покуривающий гигантской величины махорочные самокрутки, – эти разные и близкие ему люди почему-то сейчас успокаивали его, вливали в душу растроганное и доброе согласие со всем их настоящим и прошлым, и невозможно было представить их другими людьми, усталыми, злыми, закопченными, которыми он командовал, ежедневно отвечая за жизнь каждого и на которых недавно раздражался при виде той глупости с часиками и деньгами. И, сожалея уже, Никитин подумал: «Почему я должен мешать им? Пусть делают что хотят…»
Потом он подумал, что право на раздражение давало ему офицерское звание, хотя, может быть, у него не было права советовать им, принимать решения в житейских вопросах, потому что одно знал лучше их – то, что было огневыми позициями, орудиями, вычислением прицела и стрельбой, одно это, главное, связанное с жизнью каждого из взвода, держало и укрепляло уважение к нему, как если бы он был опытнее всех в понимании самого важного на войне, независимо от возраста.
Он командовал людьми, но не умел, как это умели многие солдаты, развести костер на ветреном морозе, не мог сварить по неписаным правилам суп на костре, ловко растопить в хате печку, переночевать с женщиной или, накрывшись плащ-палаткой, «проверить» улей на пасеке пустой деревни, выкачав необъяснимым способом полное ведро меда, не мог перед стрельбой согреть спину, кругообразно потираясь о щит орудия, что часто делал в обороне зимой пожилой Зыкин. Однако он научился необходимой грубоватости, командному голосу, офицерскому самолюбию и тем крепким и спасительным в бою словечкам, которые уравнивали его со всеми. Когда говорили о женщинах, он делал снисходительно-знающий вид, ибо если бы Меженин, в особенности после Житомира, понял, что Никитин единый раз на войне по-настоящему обнимал и целовал женщину, он, вероятно, стал бы открыто презирать его интеллигентскую несуразность.
Разговоры за столом не умолкали, дым сгущался, волнисто покачивался над красными лицами, перемешивались взбудораженные голоса, будто опять с утра начался и продолжался вчерашний праздник, и Никитин не прерывал затянувшийся завтрак, не уходил из столовой, а приятно погружался в этот веселый гул, ощущая раскаленно пылающее за окном солнце и сияние мельчайших пылинок в его неиссякаемом яром потоке.
– А вот что, други мои, было, когда мы через проломы в Тиргартен шли, – степенно заговорил старший сержант Зыкин, посасывая толстенную самокрутку. – В четвертом, как помню, доме пролез я в дыру, на размер проломленной печки, чтобы, значит, разузнать, как сподручнее орудие, дубину-то нашу протаскивать. Дело к вечеру было. Залезаю в немецкую квартиру, мебель поломанная, темнота, пыль везде толщиной в палец, сквозь щель на потолке маленько светом брезжит. А до этого мы в соседнем подвале трофейных жирных консервов нажрались под завязку, живот крутит, спасу и терпежу никакого нет. Ну как в таком положении орудие через пролом поволокешь, когда без удержу наизнанку выворачивает? И смех и грех. Только пролез я в дыру, ремень – на шею, автомат рядом положил и готов: присел, значит, орлом в углу, задумался, как полагается. Сижу и слышу – в темноте шорох какой-то, похоже – шебаршит что-то, потом кряхтенье началось – вздрогнул я даже и рукой за автомат. Глядь – в другом углу фриц сидит, тоже ремень на шее и тоже сильно задумался, как следовает расположился, и вижу – автомат у ног…
– Ах ты боже мой! Неужто фриц? Как так? Живой? – с ужасом изумления воскликнул Ушатиков и хлопнул ладошкой себя по бедру. – И впрямь живой?
– Это ты где, малец, видел, чтоб мертвый фриц с ремнем на шее по своей нужде сидел? – осуждающе глянул на него Зыкин, и вокруг засмеялись. – Дак вот, увидел меня, моментом хвать за автомат, напрягся весь, застонал вроде, а в темноте разобрал я – в немолодых годах он уже. Что делать? Сидим секунды, не дышим и друг дружку из углов страшными глазами убиваем, друг дружку в плен берем. А тут так несет меня, что и никакой войны не надо, свет белый не мил. И в голове мельтешит что-то: думаю, если он первый начнет, тогда и я успею, мол… А он вдруг автомат свой осторожненько так положил и все смотрит, смотрит на меня, ровно овца больная. И я тоже свой на землю и тоже дурной овцой смотрю. Потом сделали мы это самое дело, он первый как бешеный вскочил, ремень в зубы, автомат на шею и в пролом – нырь, так задницей и блеснул! Ну, тогда и я встал… Вот такое было.
– Значит, испугался, Зыкин, а? – жестко хохотнул Меженин и ударил кулаком по столу, заглушая смех солдат. – Эх, евангелисты божьи! В церкву вам ходить! Да я б его не очередью, а одной пулей на дерьме срезал! Фрица пожалел?
Зыкин, размышляя, подул на самокрутку, сказал веско:
– Хоть умный ты, сержант, а дурак. В вечном деле все одинаковы. Тоже люди…
– Философ ты с куриных яиц, Зыкин! – ревниво сказал Меженин и бугорками прогнал желваки на скулах. – В этих случаях пусть лошади думают, у них голова большая… А я вот тоже раз в Берлине дуриком испугался, аж волосы дыбом. Возле того метро… Как эта улица называлась? Унтер… день… линден, помните, ребята? Фрицевский пулеметчик никому дышать не давал – лупил с балкона очередями по перекрестку. Заметил – второй этаж, взбегаю по лестнице, ага – вот она квартира, звоночки, таблички, ударил плечом, а дверь, гадюка, открыта. В первой комнате – ковры, мебель, никого… Какая-то жратва на столе, бутылки, консервы. А квартира – огромная. И пулемет смолк, тишина мертвая в доме. Держу палец на спусковом крючке, на цыпочках иду по комнатам, последняя дверь закрыта, я – торк ее. И враз за спиной кто-то человеческим голосом: «ку-ку, ку-ку!..» Конец тебе, Меженин, думаю, все! Поворачиваюсь, как зверь, и режу очередями. Вижу – а это кукушка из часов выскакивает: «ку-ку, ку-ку», – а я по ней, по часам, по стенам, по зеркалам. Она выскакивает, а я по ней, по ней, сволочуге, пока вдрызг не раскокошил! Во когда испуг был, Зыкин, а ты мне про поносного фрица вкручиваешь с философией от куриного нашеста! Хреновина! В рай ты мечтаешь попасть, Зыкин, вот твой угол зрения, тебе свечки по убитым фрицам ставить нужно! А в аду все равно встретимся – сколько ты немцев из своего орудия ухлопал? А?
– Напрасно часы и зеркала ты порушил, – рассудительно заметил Зыкин и начал слепливать новую цигарку. – В тебе черт сидит, Меженин, и хвостом вертит.
– Насчет хвоста – это верно! – Меженин, жмурясь, как кот, потянулся с хрустом сильным, добротным телом. – Эту работу я уважаю! Эх, братцы, а до войны не то было. Работягой меня считали ударным. Бывало, придешь домой, головой ткнешься в подушку – мертвец! Жена с претензиями, конечно: «Нервы у тебя, значит, Петенька, очень здоровые». – «Здоровые? – говорю. – Да я свои нервы давно на запчасти для тракторов променял». Какая после этого любовь? Домкратом не подымешь! А на войне, что ж, здесь свободный разворот есть. Война кончится, братцы, и еще вспомним вольную жизнь!..
– Я и говорю, черт тебя изнутри ест, – повторил Зыкин.
– Всего не сожрет, что-нибудь да останется!
Меженин, как всегда, подавил Зыкина, всецело завладел общим вниманием взвода и, сладко дотягиваясь, щурясь на майском солнце, поглаживал крутую, завешенную орденами грудь – во всем удачливый красавец парень, которому прощалось много за бездумную удаль, за разговорчивость, за необычную в бою везучесть, точно заговоренный он был, и точно вместе с ним заговорен был его орудийный расчет, не понесший от границ Белоруссии ни одной потери. В бою с ним свободно и надежно было и было спокойно в любых обстоятельствах на передовой, он, чудилось, жил на войне, не задумываясь, прочно, уверенный в неизменчивое везение свое, и, не раз обласканный судьбой, знал собственную цену в батарее.
– Вон поглядите, ребята, бухгалтер Таткин у нас топор мужичок, а? – продолжал Меженин и, веселя солдат, подмигнул в сторону Таткина. – Молчит, как два умных. Тихий, цифры на уме, а ходок, видать, был – не приведи господь! Идет с работы, увидит какую-нибудь с толстыми ножками, счеты в кусты и давай вокруг петушком круги делать. Рыжие, они бесовитые, опасные для девок, как дьяволы! Так, Таткин? Правильно говорю?
– Славяне, гляньте-ка! – крикнул кто-то, захохотав. – А Таткин три тарелки каши упер и полбуханки шорстнул, во-о аппетит!
Маленький, тщедушный Таткин обладал на удивление неповторимым аппетитом, мог есть сколько угодно и когда угодно, порой грыз припасенные сухарики даже ночью на посту, похрустывая в темноте голодной мышью, и сейчас, застигнутый вниманием, не перестал жевать, острое его лисье личико было углубленным, серьезным.
– Соображаю я, товарищ сержант. – Он повел рыжими бровками на Меженина. – Об деньгах этих. Может, после завтрака и на разведку какого магазина идти?
– А ты, сообразительная голова, немецкий язык знаешь? Как говорить будешь – руками или глазами? – спросил Зыкин.
– Такое и без слов завсегда понятно. Деньги, они что… сами говорят.
– Таткин, люблю я тебя за расчетливость ума, а ты лучше скажи откровенно – куролесил небось? – не унимался Меженин. – Гастролер ты, видать, и красивый мужчина был! И ростом вышел, и косая сажень в плечах, и на гармони вальсы наяривал! По всему вижу – ходок ты был неисправимый!
– В ум не приходило, – скромно опустил выгоревшие бровки некрасивый Таткин, и в этой его ангельской кротости было и нежелание и согласие участвовать в собственном розыгрыше, который время от времени падал на него и повторялся во взводе для общего увеселения.
– Врешь, Таткин, большого туману напускаешь! Рассказывай – послушаем, а потом я про Житомир кое-что веселое расскажу, хоть лейтенант чуть под суд меня не отдал! Да, прошлое дело, анекдот получился. Рассказать, товарищ лейтенант, для смеху? Зуб на меня не будете иметь?
То, что Меженин не очень кстати вспомнил о Житомире, о том давнем и неприятном, что случилось там и что Никитин не хотел вспоминать, – было словно бы направлено против него, против его стыдливой неопытности, распознанной тогда Межениным.
– А при чем Житомир, сержант? Все было глупо! – сказал он резко и, сказав, почувствовал, как запылало лицо под взглядом Меженина, густые женские ресницы его подрагивали в безвинном любопытстве.
– Не так, что ли, сказал, лейтенант? Я плохого не помню, а речь о бабах шла, – проговорил он. – А бабы на войне – тоже подарок или трофеи, так я считаю, ежели не вру…
– А я как раз о трофеях, – перебил Никитин, сердясь на звук своего голоса, на то, что придал какое-то значение словам Меженина о Житомире. – Именно насчет трофейных денег, – проговорил он совсем не то, что надо было сказать. – Зыкин прав: зачем они? Пришли в Германию, чтобы превратиться в торговцев? Часы – это другое. Раздайте их всем, Меженин, у кого нет. Хоть на посту будут точное время знать. А деньги… Никаких магазинов и никакой торговли. Ну-ка, Таткин, пересчитайте рейхсмарки. («Зачем я сказал, чтобы пересчитали рейхсмарки?») И лучше так: или сожгите их, Меженин, или сдайте в штаб полка, чтобы никаких глупых соблазнов не было. Не хочу, чтобы взвод оказался в дурацком положении купцов!
Он знал, что этим приказом мог разжечь в Меженине злость, задеть его самолюбие и одновременно мог возбудить недовольство солдат к тому, что он, командир взвода, решил сделать, как бы отнимая у них легкомысленную надежду на сладкую жизнь. Но невольно он отдал распоряжение, и все затихли, осторожно поглядывая на него, на Меженина, и тот, стиснув челюсти, всверлился в лицо Никитина жестко-светлыми глазами, выговорил, снисходительно ухмыляясь:
– Ясныть, лейтенант. Сделаю. Как приказано. Наше дело телячье.
И тотчас, загремев стулом, поднялся, весь расправился, красивый зрелой телесной ладностью, подошел к тому месту, где лежал мешок под столом, вытянул его, рванул «молнию», демонстративно-небрежно высыпал на стол перед Таткиным кучу плоских коробочек, разъехавшиеся пачки новеньких купюр и скомандовал:
– Кто не обжился часами, разбирай без паники! Таткин, считай гроши! Лейтенанту – право выбрать любые первые!
– Не надо. У меня еще ходят, – ответил Никитин и тут же подумал, что суеверно не заменял свои ручные часы, старенькие, с почерневшим циферблатом от гари и окопной пыли, найденные им в офицерском блиндаже после почти бескровного боя под Гомелем.
В тот момент, когда солдаты, взбодренные командой Меженина, затолкались вблизи стола, охотливо разбирая наугад эти игрушечные на вид коробочки, в столовую вошел лейтенант Княжко, командир первого взвода, крикнул с порога:
– Здравия желаю, второй взвод! Привет, Никитин! Позавтракали? А почему кошку не кормите?
Он был очень молод, этот лейтенант Княжко, и так женственно тонок в талии и так подогнан, подтянут, сжат аккуратной гимнастеркой, крест-накрест перетянутой портупеей, и так нежно, по-девичьи зеленоглаз, что каждый раз при появлении его во взводе рождалось ощущение чего-то хрупкого, сверкающего, как узкий лучик на зеленой воде. И хотя это ощущение было обманчивым – нередко мальчишеское лицо Княжко становилось неприступным, гневно-упрямым, – Никитина будто омывало в его присутствии веяние летнего свежего сквознячка, исходящего от голоса, взгляда, от всей его подобранной фигурки. Княжко был из московской профессорской семьи, учился на филологическом факультете, жил на Озерковской набережной, хорошо знал переулки Пятницкой, где жил Никитин; они никогда не встречали друг друга на замоскворецких тротуарах и сблизились только на фронте в конце сорок третьего года. Лейтенант Княжко прибыл, еще хромая, из тылового госпиталя, был назначен в батарею на место убитого командира первого взвода. До этого он служил в пехоте, командовал на Днепре ротой, но в связи с ранением и хромотой был не взят в стрелковую часть, а направлен по личному желанию в дивизионную артиллерию.
– Если нас посетил первый взвод, то, конечно, братский привет! – ответил Никитин, обрадованный приходу Княжко, испытывая странное подспудное чувство какого-то далекого июльского утра в замоскворецких тупичках, с солнцем над заборами и тополиным пухом на мостовой. – Здравствуй, Андрей! А что такое – откуда у тебя кошка?
– Откуда, спрашиваешь? Это уж, второй взвод, недопустимое безобразие, на глазах у вас животное с голоду может умереть, а вы что?
Лейтенант Княжко выглядел по обыкновению педантично опрятным, ни единой складки на гимнастерке, светлые волосы причесаны на косой пробор, гладко-влажны, грудь чуть выпукла, ослепляет полосой орденов, сапожки до безупречной чистоты зеркальны. Необычным было то, что на сгибе руки он, словно фуражку на торжественном построении, держал лохматую дымчатую кошку и гладил ее зажмуренную, грязную морду, тыкавшуюся ему в плечо.
– Сидит, понимаешь, бедная, возле дома сирота сиротой и какую-то траву ест, – заявил Княжко. – Куда смотришь, Никитин? Ушатиков, дайте ей немедленно каши, накормите по-солдатски, а то к себе во взвод возьму!
Он спустил с рук кошку, а она сейчас же легла на спину, показывала свалянную шерстку худого живота, потом разнеженно потерлась спиной о затоптанный сапогами ковер, ленивым движением лап будто приглашая продолжить начатую Княжко игру.
– Боже ж мой, смотри ты, настоящая кошка! – ахнул, засмеялся Ушатиков, только что не без удовольствия наладив на запястье новые часики и мгновенно забыв про них. – Неужто немецкая? Кысанька, кысанька… Гляди, гляди, лапами что выделывает! По-русски она понимает? Как к ней обращаться-то?
– Только на чисто французском, – не улыбнувшись, Княжко щелчками сбил шерстинки на рукаве. – Немецкие кошки, как правило, воспитываются в лучших французских аристократических домах, но при этом не брезгают русской кашей. Вы поняли?
– Да я сурьезно, товарищ лейтенант… Ух, какая животная важная!
Ушатиков, вытаращив ласковые голубиные свои глаза, пощекотал кошке живот, кошка, продолжая играть, тронула, мягко ударила его папой, и он заморгал, сидя на корточках, позвал разомлевшим, умиленным голосом:
– Кысанька, шпрехен, шпрехен, ком, ком, каши тебе дам… хенде хох, гут, гут, гутен морген… Ух, какая зверь солидная!
– Вы ей голову заморочили, – не удерживая смех, сказал Никитин. – Наверное, немецкие кошки понимают один международный язык: кыс, кыс, кыс. Попробуйте. Если не поймет, немецкий разговорник возьмите.
– А верно, товарищ лейтенант, должна соображать, – кыс, кыс, кыс! – умилялся Ушатиков и, пятясь на корточках, поманил кошку. – Сюда, сюда, я тебе и посудину найду. Сюда, сюда, в угол иди, а то невзначай раздавят тебя сапожищами-то…
– Есть что-нибудь новое, Андрей? – спросил Никитин. – Из штаба никаких слухов? Молчат до сих пор?