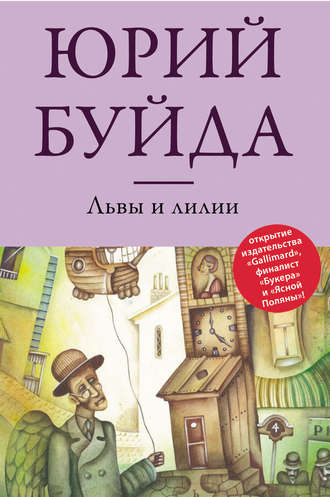
Юрий Буйда
Львы и лилии
Он повернулся к Ванили и рухнул от удара битой в лицо. Ей пришлось ударить его еще семь раз, чтобы он перестал дергаться.
– Теперь уходи, – сказал Нико глухо. – Теперь ты должна уйти, Ваниль… ты сама понимаешь… должна понимать…
Она повернулась к нему – тоненькая, обнаженная, малогрудая, всклокоченная, потная, забрызганная кровью, с потемневшими от ярости глазами – и спросила:
– Ты правда хотел?.. – Запнулась. – Чего ты хотел, Нико?
– Ты должна уйти, – повторил Нико. – Уходи, пожалуйста… если тебе нужны деньги…
Ему наконец удалось выпрямиться.
Она шагнула к нему.
– Чего ты хотел, Нико? Чего ты хотел на самом деле?
– Ваниль…
– Чего?
Он закрыл глаза.
Через два дня сеньора Каталина Д., которая занималась уборкой на вилле близ Вальдемоссы, сообщила в полицию о преступлении. Камеры видеонаблюдения в доме были выведены из строя за несколько дней до убийства, поэтому личность преступника установить сразу не удалось. Хозяин одного из ресторанов в Пальме рассказал, что за несколько часов до смерти Нико ужинал в его заведении с молодой женщиной, но описать ее внешность не смог: ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда через месяц из Нью-Йорка вернулась Сандра Ф., которая хорошо знала Нико и запомнила необычное имя его русской подруги.
Ваниль задержали в Чудове, в больнице, в кабинете гинеколога. На вопрос об отце будущего ребенка она ответила со смехом: «Да кто ж его знает!»
Она не запиралась, рассказывая следователю о своем пребывании на Майорке. Ей удалось снять номер в отеле на берегу моря, несколько дней она колесила по острову на арендованной машине, останавливаясь в живописных местах, чтобы искупаться, перекусить и заняться сексом. Все эти дни она «трахалась, как землеройка», три-четыре раза в день, а то и чаще. Ее рекорд – восемь мужчин за день, причем дважды это был групповой секс. Своих партнеров она называла «милыми», но имена их вспомнить не могла. «Андзолетто, Альберт, Консуэло… шучу, извините… их было слишком много, всех не упомнишь…» Испанцы, немцы, англичане, французы – в отеле, на пляже, в темном проулке, где придется.
Сообразив, что бриллиантовое колье на таможне вызовет вопросы, она подарила его любовнице-англичанке. Но платье от Сандры берегла – в нем вернулась домой, в нем явилась в больницу к матери – загорелая, веселая, сияющая, прекрасная. Мать сказала: «Тебя не узнать» – и заплакала.
Однако когда речь зашла об убийстве Пабло и Нико, Ваниль замкнулась, перестала отвечать на вопросы. Она не отрицала, что именно она совершила это преступление, забив обоих мужчин бейсбольной битой до смерти, но о мотивах и обстоятельствах убийства не сказала ни слова.
На суде Ваниль была спокойна, даже весела, отвечала на все вопросы, кроме вопросов о мотивах и обстоятельствах убийства. Выслушав приговор, сказала матери: «Платье береги, не надевай, наденешь – убью, клянусь рукой».
Львы и Лилии
Лилия – это имя, а Лилечка – это судьба.
Лилия и Лилечка – разные женщины.
Лилечка каждый день ходит на службу, пьет растворимый кофе, слывет среди коллег мямлей и чуть ли не синим чулком, вечером покупает в супермаркете пачку пельменей и йогурт, запирает дверь на три замка и читает «Гипериона» или комментарии к «Дуинским элегиям». Она работает редактором в издательстве и втихую презирает авторов, которые пишут «запало за душу» и «пальто, отороченное меховым воротником». У нее жидкие волосы рыжеватого оттенка, слишком большая грудь, слишком широкие бедра, а одевается она на Кандауровском рынке.
А Лилия… Лилия – вакханка, гетера, сука, подружка Сафо и Кэтрин Трамелл… по вечерам, заперев дверь на три замка, она надевает белье «Victoria’s Secret», пьет душистое вино и ласкает себя до одури… она обожает Тинто Брасса и Джона Хьюстона, опасные тайны и приключения, запах скипидара, мясо с кровью, потных безмозглых мужчин с волосатыми плечами, грязь под ногтями… и у нее роскошные рыжие волосы… огонь в джунглях…
Лилией была моя мать, а я – только Лилечкой.
Я получила свое имя – такое же, как у матери, – как пальто с чужого плеча.
Уменьшительно-ласкательный суффикс превращал меня в тень, в пародию…
Про отца я почти ничего не знаю. Однажды мать сказала, что он был выдающимся человеком, переводил Кьеркегора и комментировал Шестова, но этим список его достоинств и исчерпывался. Они не прожили вместе и двух месяцев – я появилась на свет, когда переводчик Кьеркегора исчез из нашей жизни навсегда. Мать не любила о нем вспоминать.
Зато про Льва Страхова она могла рассказывать чуть не каждый день. Он был первой, главной и единственной ее любовью. Настоящей любовью. Ураганом любви, тайфуном любви и погибелью. Он врывался в женскую судьбу, как захватчик в поверженную крепость, крушил все вокруг, грабил и насиловал, а потом уходил не оборачиваясь…
Когда мать вспоминала про Льва Страхова, она оживлялась. Лев Страхов, Лев Страхов! Он был гениальным актером, который опередил свое время, безудержным пьяницей и бабником. А какой у него был голос… какой дивный голос… бездонные – без-дон-ные – глаза и дивный голос… голос самого соблазна… пленительный голос зла…
Мать то и дело сходилась и расходилась с мужчинами. Они появлялись и исчезали. Когда она расставалась с очередным любовником, то принималась вспоминать Льва Страхова. Другие мужчины приходили и уходили, а вот он – он всегда был с нами, этот человек-ураган, насильник и грабитель, землетрясение и пожар.
«Настоящий лев, – говорила мать. – Бешеный, бешеный, бешеный зверь, царь зверей».
Наверное, поэтому мне и снились львы – могучие оранжевые чудовища, которые бродили среди белоснежных лилий. Лилии были огромными, как деревья, а львы – страшными. Они кружили по лесу из лилий… лев за львом, лев за львом… круги сужались… львы были все ближе, ближе… они чуяли меня… их клыки, их мощные лапы с грязными когтями, их смрадные пасти… я с криком просыпалась…
Моя мать была актрисой. Неплохой актрисой в неплохом театре. Какое-то время даже звездой… главные роли – Элиза Дулитл, Ганна Главари… аплодисменты, успех, цветы… Но гораздо лучше у нее получались другие роли: красавица, всеобщая любимица, богиня, ядовитая змея, шикарная любовница… шикарная! Просто шикарная! Отчим ее тоже обожал… он ей все прощал, все-все-все… они ссорились иногда, но так, не серьезно… он был очень хорошим человеком… инженер-строитель… высокий, с прекрасными волосами, широкоплечий, с детскими глазами… мы с ним гуляли иногда… в парк ходили, в театр… но театр он не очень любил… наверное, из-за матери… однако о ней – ни одного худого слова. Ни одного. Никогда, ни разу. Он никогда не говорил о ней плохо… он ее любил… а для нее он был только одним из воздыхателей… есть такое дурацкое слово – «воздыхатель»… их у нее всегда было много… она любила влюбляться… она так и говорила: люблю влюбляться… и при этом делала рукой вот так… плавно, по-балетному, словно крылом… Вот сука!.. Она ему изменяла чуть не каждый день, а он терпел. Терпел и терпел, а потом умер. В день его похорон она самым пошлым образом отдалась в соседней комнате очередному любовнику. Отчим лежал в гостиной, в гробу, среди этих жутких цветов… а она в соседней комнате ахала и охала… сука… она всегда была сукой… самовлюбленной сукой…
Она не привыкла проигрывать… ведь она всегда была абсолютной чемпионкой мира по красоте, по обаянию, по стервозности… абсолютной, непобедимой, вечной… как памятник… когда она поняла, что выдохлась, что звездой сцены ей уже не быть, просто ушла из театра… отчим был состоятельным человеком, и она могла это себе позволить… могла покупать что угодно… тратила деньги не глядя… и побеждала, побеждала и побеждала… шла по жизни под аплодисменты и звуки оркестров… в лучах славы…
В детстве она мне казалась настоящей богиней… Афродитой, Герой, Артемидой, Венерой… неземная женщина… дивный, божественный мрамор… белый, холодный, прекрасный…
Мне говорили, что я на нее похожа… глаза, руки, шея и так далее… но такая шея была одна во всем мире… дивная шея… белая, полная, пульсирующая… было в ней даже что-то непристойное… непристойное и манящее… прекрасный и ядовитый цветок… точнее, стебель… Она всегда носила открытые платья, чтобы все могли любоваться ее шеей, ее плечами, ее грудью… а я – я так любила наблюдать за нею, когда она раздевалась… или когда она выходила из ванной… она сбрасывала халат одним движением… как мантию… с презрением! высокомерно! великолепно!.. И у меня перехватывало дыхание… ее тело было как взрыв… как залп из тысячи орудий… высокая шея, высокая грудь, высокие бедра… высокие небеса… Господь и ангелы его… она вся словно горела, пылала белым лилейным пламенем… ее тело жило своей жизнью, оно плыло, переливалось, текло, заполняло все вокруг, не было ничего, кроме ее тела, высокого и прекрасного тела… а ее кожа… ее кожа была чудом природы… ароматная, шелковистая, лилее лилий… а родинка под левой грудью – обморок, а не родинка… я так любила целовать эту родинку, когда была ребенком… она позволяла себя целовать… позволяла приобщаться к этому великолепию, к этой роскоши… царственно дозволяла поцеловать ее в плечо… в грудь… коснуться губами родинки… кончиком языка… лизнуть и умереть… О боже… Коснуться губами ее шеи… эта ее шея, господи! Хотелось схватить бритву и перерезать ей горло… пе-ре-ре-зать! Или вгрызться зубами, рвануть, хлебнуть крови и – ах!.. Но я – нет, я, конечно же, не могла… она лежала откинувшись, запустив пальцы в свои роскошные волосы, а я ее целовала, целовала… голова кружилась, сердце замирало… какое это было счастье! Какое счастье… Однажды я от счастья даже описалась… просто обмочилась… от избытка чувств надула в трусы… она дала мне холодную пощечину – так, без всякой страсти – и прогнала к черту…
Конечно, я ее любила. Я никого не любила так, как ее, и только ее я ненавидела так, как только можно ненавидеть другого человека. Наверное, она догадывалась… да точно – догадывалась… но что ей другие люди! Другие люди – это будни, а она была женщиной-пожаром, женщиной-праздником. Она обожала праздники, обожала компанию… она без этого жить не могла… как наркоманка… музыка, вино, снова музыка, опять вино – с утра до вечера, по ночам, до утра… как у нее расширялись ноздри, ее жадные ноздри… они становились как у лошади… как трубы… она вдыхала, втягивала эти запахи – запахи табака, вина, мужского пота, духов, горячего воска… она любила зажигать свечи… щеки розовели, глаза вспыхивали, губы становились толстыми, блядскими, она вся дрожала, вся вибрировала, по ее коже бегали огоньки… она жила, жила – она горела…
А как она умела расшевелить гостей… всех этих поэтов, гениев и красавцев, которые дневали и ночевали в нашем доме… помню, однажды вечером они здорово напились, наговорились, устали и скисли… вечер, полупьяные мужчины и женщины сидят за столом, разговор не клеится… кто-то курит, кто-то потягивает вино, а кто-то просто дремлет… никто и не заметил, как мать вышла из гостиной… ее не было около получаса… а потом она вернулась… ворвалась… разбушевавшаяся Кармен! Выстрел! Буря и натиск! Ураган! Ударом ноги распахнула дверь, ворвалась, закричала что-то сумасшедшее, лихое, дикое, пустилась в пляс… на ней была пышная цыганская юбка… она вбежала в комнату, остановилась, глаза горят, волосы летят, рванула юбку спереди… разорвала до пояса… о, черт! На ней были какие-то безумные чулки… и подвязки… нет, одна подвязка… подвязка с черной розой… белый мрамор, черная роза… и она стала плясать… это был не танец, а безумие… припадок!.. И все вдруг встрепенулись, очнулись, стали хлопать… потом кто-то схватил ложку и принялся отбивать такт… стучать ложкой по столу… другие тоже… все стали отбивать такт ложками… мать в этой своей разорванной юбке… белые ноги, черная роза… стук ложек по столу, по вазам, по тарелкам… трам-там-там… тара-рам!.. Кто-то вдруг упал к ее ногам, пополз, она выставила бедро, и он зубами сорвал с ее бедра розу… Дурдом! Боже, какой дурдом!.. Какой замечательный дурдом…
Поэты и красавцы… среди них был один… он вдруг решил приударить за мной… мне было пятнадцать, а ему, наверное, сорок… или около того… грустный, тощий, очкастый… все время курил… немножко странный… мать его принимала за компанию и называла человеком без имени… он был поэтом… она над ним подтрунивала, но беззлобно… мы вдвоем, он и я, уходили в дальнюю комнату, он читал стихи, мне нравилось, когда он шепотом декламировал:
И на путь меж звезд морозный
Полечу я не с молитвой,
Полечу я, мертвый грозный,
С окровавленною бритвой…
Ох, от этого Хлебникова меня дрожь пробирала… а он меня потихоньку лапал… то за руку возьмет, то за коленку… как бы случайно… а однажды вдруг обнял и поцеловал… Вот это и был мой первый поцелуй… я думала, он сожрет мои губы… засунул язык мне в рот… язык толстый, желтый, прокуренный, горький… рычит, сопит, рукой залез под юбку… в трусики… пальцами там шурудит… я бедра сжала, вспотела, молчу… господи, и страшно, и весело, и отчаянно… и любопытно: а что еще? А дальше что? Он стал сосать мое ухо… боже мой, мочку уха… меня колотит, а он – чмокает… щекотно…
И вдруг вошла мать и сказала: «Милочка, у него двое детей, и жена беременна третьим».
Милочка…
Она говорила: милочка, зеленое тебе не идет… милочка, тебе не идет хмуриться… милочка, это так пошло… милочка, не горбись… милочка, смотри мне в глаза… милочка, тебе рано это читать… милочка, этот мальчик родился неудачником… милочка, он тебе не пара… милочка, ты должна нести себя по жизни, как знамя победы, как милость и наказание Господне… милочка, женщина никогда не выбирает между добром и злом, она выбирает только между злом и большим злом… милочка, не забудь закрыть тюбик с пастой… я пью чай – милочка, смерть таится в третьем куске сахара… она всюду… не горбись, не хлюпай, не надевай это, не стой как дура, закрывай дверь, отстань…
Милочка! Милочка! Милочка…
Иногда хотелось бежать от нее куда глаза глядят… спрятаться… я и пряталась… пряталась в стенном шкафу, в коробке из-под телевизора, под кроватью… под кроватью было лучше всего… самые счастливые ночи я провела под кроватью… самые счастливые и самые несчастные… Я так хотела, чтобы меня хватились… чтобы испугались, бросились искать… где Лилечка? Ау, Лилечка! О боже мой, Лилечка!
Но никто меня не искал… никогда не спохватывались…
В школе меня дразнили, называли Милочкой… Лилечка, милочка, девочка, дурочка… ну ладно, что ж… но ведь и на работе, в издательстве… на работе я сразу стала Лилечкой… Откуда они узнали, а? Откуда эти суки узнали, что я – Лилечка? Я пришла на работу, и уже через день все называли меня только Лилечкой! Лилечка и Лилечка… ну и милочка, конечно… Как сговорились! Я думала, что хуже этого ничего нет… как-то я случайно подслушала, как они меня называют за глаза… Мисс Извините. Мадемуазель Простите. Госпожа Виновата. Ну да, я всегда извиняюсь… иногда, наверное, без повода… не знаю… может быть… ну и что? Ну и что тут такого?
Мне хотелось взять что-нибудь… нож, пулемет, гранату… Когда же нибудь должно это кончиться! Когда же нибудь должна умереть, сдохнуть, провалиться эта Лилечка, эта Мисс Извините! Не хочу… ну не хочу! А хочу быть Мисс Пошли Вы Все К Черту! Мадемуазель Налейте Еще! Госпожой Весь Мир У Моих Ног! Мне надоело спать под кроватью!..
Конечно, я пыталась бунтовать… я постоянно бунтовала… в детстве, в юности… красила волосы в немыслимые цвета… вообще красилась – ужас! Глаза, губы… Бр-р! И сочиняла романы… о да, порнографические романы! Жозефина прижалась к нему, и его мускулистая волосатая рука скользнула… Жозефина! Боже мой, Жозефина!.. Жозефина… эта чертова Жозефина прославила меня на всю школу… у нас был один мальчик… ну, в общем, он мне нравился, и я дала ему почитать… а он дал еще кому-то… и пошло, и пошло… я написала продолжение… каждая часть занимала ровно одну тетрадку в клеточку… эта Жозефина почти на каждой странице кому-нибудь отдавалась… мужчинам, женщинам, ослам… и даже троим горбатым карликам одновременно… и все персонажи бешено матерились… сквернословили без удержу… успех был – боже ты мой! Я упивалась славой… на меня показывали пальцем, за моей спиной шептались: это она, она! Мальчики провожали меня до дома… а тот мальчик, который мне нравился, однажды поцеловал меня… он постоянно сосал леденцы, и его сладкие липкие губы на секунду, на миг приклеились к моей щеке… какое счастье… небывалое счастье… эти его сладкие глупые губы, приклеившиеся к моей щеке… это незабываемо… чмок! Смешно и незабываемо…
А потом мою мать вызвали к директору… она познакомилась с моей Жозефиной и сказала: милочка, это написано так плохо, что ты даже не заслуживаешь наказания…
Но она все-таки меня наказала…
Моя порнографическая эпопея завершилась позором… библейским позором и ужасом… испепеляющим ужасом…
Мать устроила громкую читку… было много гостей, они крепко выпили… а потом позвали меня… меня никогда не приглашали к столу, а тут вдруг – нате… их там было человек десять… меня усадили за стол, слева и справа сидели двое каких-то мальчиков… крепкие мальчики… красавцы и поэты… они сдвинули стулья и зажали меня с обеих сторон… но я сперва не поняла, в чем дело… а мать вдруг достала тетрадку, открыла и начала читать… про Жозефину… эта сука стала читать про Жозефину… это была как раз сцена с ослом… Жозефина и осел… Жозефина думает о том, какую позу ей принять, чтобы ослу было удобнее, и тут осел сгибает задние колени… у меня так и было написано: осел согнул задние колени. Задние колени! Задние колени… Что тут, господи, началось… Как же они смеялись! Как они хохотали! Просто выли! Ржали! Ревели! Визжали! Один толстяк так смеялся, что не удержался и пукнул… я думала, их там всех разорвет от смеха… какие у них были лица… какие рожи… какие рыла… красные, потные… а эти их рты… никогда не думала, что человеческий рот может выглядеть так непристойно… срам, а не рот… у матери потекли ресницы… глаза превратились в грязные пятна… бесформенные, черные… вся пятнами, вся красная, вся глупая… я не могла встать и уйти, потому что эти двое держали меня… я сидела между ними в своем свитере… у меня был свитер с медвежатами… я его надевала только дома… голова кружилась, я уже ничего не понимала, а они хохотали и хохотали… казалось, они сейчас начнут блевать… вот-вот начнут… заблюют весь стол, все вокруг… наблюют мне на свитер, на медвежат… я схватила что-то со стола, сунула в рот, и тут меня вырвало… прямо на соседа… на его шелковый пиджак… синий шелковый пиджак… он вскочил, я оттолкнула его, пнула стул, споткнулась, упала… на мне была короткая юбчонка… я упала, юбка задралась… трусы наружу, боже… поползла, вскочила, побежала, с разбегу на что-то наткнулась – и все, потеряла сознание…
Когда я очнулась, рядом был Андре…
У матери тогда был роман с этим Андре… она говорила, что это ее осенний роман… последний… врала, конечно, как всегда, но так она тогда говорила: осенний роман… она называла его Андре… его звали Андреем, а она называла его Андре… пошлость какая… он был моложе ее лет на двадцать или на пятнадцать… она вообще обожала молодых… даже иногда называла себя Федрой, а всех этих мальчиков, которых тащила в свою постель, – Ипполитами… Федра и Ипполиты… закатывала глаза и декламировала: «Давно уже больна ужасным я недугом» – и вдруг начинала хохотать… пошлая Федра… Ипполиты были не лучше… но Андре был очень красив… смуглый, кудрявый, с яркими черными глазами… такой итальянистый парень… тупой, но красивый… он всем нравился, этот Андре… он был таким беззлобным, покладистым, веселым… а как он улыбался! Мать говорила, что он напоминает ей Льва… Льва Страхова…
А я была толстоватой, неуклюжей… девочка-подросток… грудь мешает, ноги мешают, руки мешают, задница кажется слишком большой, а глаза – слишком маленькими… слишком густые брови, слишком толстые губы… доктора это называют дисморфоманией или синдромом Алисы в Стране чудес… ну да, обычное дело… в общем, я была в него влюблена… он об этом не знал, конечно…
Когда я упала в обморок, этот Андре взял меня на руки и отнес в спальню… мать прибежала – Андре ее прогнал… мы остались одни… я не хотела, не могла говорить – говорил он… нес какие-то глупости, но у него был такой голос… завораживающий голос… пленительный… обволакивающий… я могла слушать его час, другой… хоть всю жизнь… он говорил, говорил… держал мою руку в своей, склоняясь к моему лицу… от него так пахло… мне так хотелось плакать… обнять его, прижаться, задушить… так хотелось его поцеловать… он наклонился надо мной… от него веяло медом и мятой… одеколоном, коньяком и похотью… обольстительно пахло… конечно, если бы вместо меня там вдруг оказалась такса или даже резиновая грелка, было бы то же самое – красота и похоть… бессмысленное, безмозглое, будничное обольщение… он обольщал по привычке, машинально, не задумываясь… такса, грелка, девочка – ему было все равно… но тогда – тогда я думала иначе… он гладил мою коленку… мне так хотелось схватить его, завладеть, не отпускать… ну да, по сравнению с матерью я была как прачка перед царицей… но и у прачки бывает минуточка… может, это и была моя минуточка… он говорил что-то ласковое, гладил мою коленку… и вдруг я испугалась… а вдруг его рука поднимется выше… а у меня, боже мой, очки, веснушки, этот дурацкий свитер с дурацкими медвежатами… эта Жозефина… а главное, конечно, – трусики… они были мокрыми, эти чертовы трусики… я обмочилась, когда потеряла сознание… мороз по коже… вот сейчас его рука скользнет и коснется… но второго позора я бы не пережила… я вдруг поняла, что мне никогда не завладеть этим богом… что ночью, как всегда, он будет трахать мою маман, а она будет орать на весь дом… нарочно орать – чтоб я слышала… а я останусь с Жозефиной и мокрыми трусиками… я ничего не могла поделать… отчаяние было таким сильным… отчаяние и злость… помрачение ума… на меня вдруг что-то нашло… я оттолкнула Андре, схватила со столика ножницы и ударила его в лицо… куда-то еще… кажется, в плечо… зажмурилась и стала размахивать ножницами… я стояла на коленях… на кровати… вопила что-то несуразное, бессмысленное и била, била вслепую, наугад… меня корежило… в комнату ворвались люди… кто-то попытался меня схватить – я ударила, попала… еще… крики, крики… они все кричали разом, наперебой… орали, визжали… стоял такой крик… меня наконец повалили, вырвали ножницы, чем-то накрыли, кто-то навалился на меня… я билась в каком-то припадке…
А потом… потом – потом все стихло… я лежала под одеялом… ничего не помню… сколько я так пролежала, казалось, сто лет… ни страха, ни стыда, ни раскаяния… ничего…
Ничего…
Андре, слава богу, отделался небольшим порезом… я порезала ему щеку… а мать… она ворвалась в комнату, когда я ударила Андре… стояла под дверью, подслушивала… ворвалась и набросилась… я ее ударила… я ничего не видела, я не знала, что это она… я била вслепую, с закрытыми глазами, она просто попала под удар… и я – я попала… ее отвезли в больницу, но было поздно… я себя не контролировала… я не понимала, почему я это делаю… я сошла с ума… это было помрачение ума… я не ожидала… никто не ожидал…
Мне было пятнадцать. А матери тогда только-только исполнилось сорок. Она любила прибедняться… ах, я старею… ах, я старуха… на самом деле выглядела она прекрасно… просто ужас как хорошо… и вот все кончилось… все кончилось…
Мы обе попали к врачам… мать – в больницу, в офтальмологию, а меня повели к психиатру… потом к психологу… не помогло… ей помочь не смогли… да и не могли…
Не помогло…
Вокруг матери всегда крутились поэты и красавцы… много цветов, много вина, много слов… это не могло продолжаться вечно… когда-нибудь это должно было закончиться, и оно закончилось… после того вечера, после Жозефины, после ножниц – все закончилось… какое-то время они еще приходили к нам, все эти завсегдатаи… сидели за столом, пили вино, восхищались матерью… казалось, все было как всегда… деликатненько подшучивали над ее повязкой… и она смеялась… сидела во главе стола, как всегда, снисходительно принимала комплименты… царица Савская… Семирамида… Клеопатра… а когда они уходили, она ложилась на диван и рыдала… и впервые в ее жизни это были настоящие слезы… настоящие…
Гости приходили все реже… иногда звонили… а потом и звонить перестали… избегали ее, не отвечали на ее звонки… больше всего она переживала из-за Андре… Федра скучала по своему Ипполиту… она звонила ему, писала, но он не отвечал… она ничего мне не говорила, но я чувствовала, что этот Ипполит был для нее самой болезненной утратой… странно: я ведь всегда считала ее бесчувственной сукой, и вот вдруг… странно…
Она осталась одна…
Однажды я застукала ее с водопроводчиком…
Она не разговаривала со мной восемь лет. Восемь лет мы не разговаривали друг с другом. Я жила сама по себе: школа, университет, потом работа… в университете я изучала скандинавскую литературу… саги и все такое… я нарочно выбрала Скандинавию… конунги, эрлы, этот костлявый норвежский язык… это было наказание… Снорри Стурлусон, Гримнир, Эдда, битвы и песни… перед сном я рассказывала своему плюшевому льву о том, как прошел день… рассказывала о своей жизни… об этом мире, в котором мне приходилось столько страдать… об этой тьме… о заброшенной шахте, о руднике, о месторождении горя и боли… россыпи зла… золотые жилы унижения… и на самом дне этого ада – пятно света… пятнышко… белая бедная Лилечка… невинное дитя зла… бедная белая лилия во тьме… бедная Лилечка, окруженная демонами, бесами, чудовищами… чешуя и шерсть, шипы и клыки… багровое пламя и смрад…
А эти мечты! Эти мечты… Я сшила себе что-то вроде трико… что-то вроде купальника на пуговицах… чтобы снять купальник, нужно было расстегнуть сто пуговиц… сто! Бред какой-то… чего только не придет в голову… по вечерам я расстегивала купальник… первая пуговица, вторая, третья, четвертая… я закрывала глаза, воображая, как он расстегивает эти пуговицы… первую, вторую, третью, четвертую… чтобы добраться до меня, ему нужно было расстегнуть сто пуговиц, боже мой, сто пуговиц! Утром и вечером – сто пуговиц… безумие, настоящее безумие… каждый день – сто пуговиц…
Одиночество превращает человека в чудовище…
Деньги, оставленные отчимом, таяли – и скоро растаяли… он был очень состоятельным человеком, но мать швыряла деньги не глядя, не задумываясь о будущем… Сначала пришлось продать квартиру на Малой Бронной, мы переехали в Ясенево, в двушку… потом в Кандаурово, в новый район за Кольцевой автодорогой… эти двадцатиэтажные новенькие гробы среди пустырей… В театре ей платили – платили из милости… платили крохи… вирджинский табак сменился китайским, французский коньяк – дагестанским, камамбер – костромским сыром… но таблетки – таблетки остались… коньяк и таблетки… коньяк и нембутал, коньяк и сибазон, коньяк и тианептин… у нас всегда было много таблеток… флуразепам, ксанакс, амантадин, карбазепин, валиум… коньяк, таблетки, сигареты, телевизор… все реже книги, все чаще телевизор…
К тому времени она снова стала разговаривать со мной. Она ведь ничего не умела и не хотела уметь. Обед, ужин – все готовила я. У нее не было выбора. Ей приходилось считаться со мной, иначе я могла оставить ее без обеда. Мне это и в голову не приходило, конечно. То есть – вру, приходило, да, иногда хотелось, ой как хотелось, чтобы она повыпрашивала, повымаливала у меня кусок хлеба… но стоило только вообразить, как она ползает на коленях… это ее белое горло, эта ее родинка… нет, невозможно, то есть, наверное, да, я могла бы ее убить, но – не унизить… убить, но не унизить…
И еще эта ее селедочка… селедочка! Она ведь никогда раньше так не говорила, считала это верхом пошлости – все эти «картошечки», «селедочки», «хлебушки»… и вдруг – селедочка… Лилечка, можно мне селедочки? Я чуть не убила ее… я чуть не умерла от стыда и горя…
Но еще ужаснее были ее воспоминания… все эти ее мужчины, все эти поэты и красавцы… она перебирала их, как старуха – пуговицы в шкатулке… этот, тот и этот, а еще тот… как же его звали? Она забывала их имена… забыла… помнила только, что они любили ее… обожали ее… ползали на коленях… носили на руках… воспевали… целовали ее ноги…
Ну и, конечно, вернулся Лев Страхов… ураган, катастрофа, погибель… землетрясение и пожар… настоящая любовь… она вспоминала его каждый день… она ждала письма, звонка, зова… вот он приедет, примчится, толкнет дверь, подхватит ее на руки, швырнет на кровать, зарычит, набросится… захватчик, победитель, герой… и этот его голос – пленительный голос зла… она плакала, глотала таблетки, пила коньяк…
Я много раз просила ее рассказать о себе… не о любовниках, нет, и не о Льве Страхове, черт бы его взял, – о себе, о настоящей… я же ничего не знала о ее детстве, о ее родителях… что она читала, что любила, ненавидела, как, чем жила до меня… я пыталась расспрашивать ее о театре, о ее ролях… о чувствах, мыслях… черт, мне хотелось объема, жизни, живого человека, а не безупречного мрамора… дело даже не в том, чтобы полюбить ее какой-то новой, живой любовью… дело в том, что я хотела понять… понять ее… она была не просто моей матерью – она была частью меня… но я – я не была ее частью, вот в чем дело… она не считала нужным… ей и в голову не приходило – открыться перед дочерью, перед единственной дочерью… а ведь я – все, что у нее осталось… все, больше ничего у нее не было… ничего и никого – только я… наверное, я поздно спохватилась… а может быть, мне не хватало настойчивости… и еще эта моя постыдная деликатность… не суй нос в чужую жизнь… ее жизнь была чужой, закрытой… да, ото всех закрытой… она привыкла фальшивить, притворяться, играть… она не хотела рассказывать о себе ничего такого, что изменило бы мое отношение к ней… она не хотела и, наверное, уже не могла сойти на мою землю – это я должна была подняться до ее небес… тень должна вырасти… ну а если у тени это не получается, что ж, это проблема тени… моя проблема… она считала, что все в порядке, хотя никакого порядка давно не было и в помине… ей было достаточно воспоминаний о том, как ее любили, обожали, носили на руках… все эти поэты и красавцы, имена которых она даже не потрудилась запомнить… ей было достаточно Льва Страхова, коньяка и нембутала… коньяка и валиума… коньяка и феназепама…
И лишь однажды… это случилось незадолго до ее смерти… я хорошо помню тот вечер… мы смотрели по телевизору новости и вдруг услыхали: погиб Андре… тот самый Андре… оказывается, этот итальянистый красавец женился на какой-то страшно богатой женщине… она была старше его… лет на тридцать, наверное, старше и очень богата… миллионерша какая-то… они прожили вместе года полтора… и вдруг он соблазнил то ли ее дочь, то ли внучку, какую-то молоденькую девочку, и эта старуха его убила… забила до смерти железной палкой… ужас… я хорошо помнила Андре: он соблазнял всех машинально, привычно, мимоходом… у него качество такое было – всех соблазнять, всем нравиться… ну, это как цвет глаз или привычка дышать, от природы… у кого-то голубые глаза, а у Андре – привычка соблазнять… а эта женщина приревновала его к девчонке – и убила… железной палкой, боже мой, железной палкой по голове…







