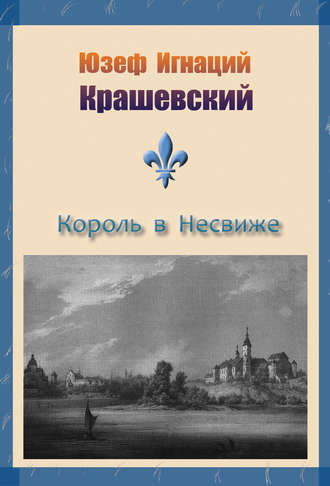
Юзеф Игнаций Крашевский
Король в Несвиже (сборник)
Найдутся даже сверх того люди, которые когда-нибудь, позже, обрисуют тёмные части этой картины, нам она кажется такой ясной и золотистой, пурпурной кровью и синевой надежды окрашенной, как те чудесные изображения, которые вдохновлённая рука благословенного Ангела из Фьезоле рисовала в моменты вдохновления. Как в одних, так в других почти нет теней, те же светлости. С трудом мы могли бы описать ту сцену под сводами старой трапезной, закиданной промышленным железом, где с одной стороны смотрело на собравшихся прошлое этих стен, с другой – настоящее, олицетворённое в рабочих принадлежностях, сцене братского согласия людей, которых единая цель собрала в этом месте. Разные были совещания, но легко остановились на нуждах организации, главные зарисовки которой они приняли. Эти разговоры не входят в рамки нашего романа, мы скажем только, что полковник, который в первый раз осмотривал это здание, а давно уже искал какую-нибудь залу, в которой бы мог безопасно муштровать нетерпеливую молодёжь, воспользовался этим вечером и выпросил себе разрешение и ключ от трапезной. Поскольку не было оружия и ждать его не хотел, палки и деревянные ружья временно заменяли винтовки и штыки. Место было уединённое, со всех мер безопасное, никто не мог догадываться о ночных сходках в пустой фабрике. Загреба ушёл вне себя от радости.
* * *
Если бы можно было просмотреть всю борьбу, какую в душе человека ведёт его склонность к плохому с остатками добродетели, а часто какой-то непонятный фатализм, гонящий к злу, который средние века называли дьяволом – эта драма души была бы в действительности горячо занимательней, чем все греческие трагедии.
Нет, наверное, человека, которому бы в жизни не приходили плохие мысли, но это – зёрна, которые рассеивает ветер, лишь плохое дело укоренит сорняк навеки. Как те тернии и чертополохи наших полей, которые, скашиваемые каждый год, с каждой весной возвращаются, так поступки какой-то тайной силой связывают человека со злом… Кто раз напился – будет пить, говорит французская поговорка.
Преслер вернулся домой, борясь с собой, то охваченный искушением воспользоваться этим открытием, то чувствуя к нему отвращение, то откладывая на потом и т. п. Он чувствовал, что этот решительный шаг может его либо высоко поднять, либо ему дорого стоить; игра была небезопасная и крупная.
Минутами ему было немного жаль этого честного полковника, который ему доверял и, несмотря на воспоминания, достаточно невыгодные, не совсем его осуждал, о других речь шла гораздо меньше.
Этим вечером против своего обыкновения, он вернулся трезвым, что сильно удивило жену, и, взяв ключ, пошёл к себе на верх. Его слышали долго ходящего, тяжко вздыхающего, а около полуночи спустился к Кахне, требуя, чтобы принесла ему водки. Горничная, которая никогда подобных посольств без ведения пани не предпринимала, пошла спросить её разрешение.
Отсюда возникла натуральная бурная сцена, супружеская склока, взаимные угрозы и пререкания, и поручик, хлопнувши дверью, сам пошёл в шинку. Жена ему только объявила, что по возращению его в дом не пустит…
– Возьми тебя дьявол с твоим домом, – крикнул взбешённый поручик, и потащился к пани Шимоновой на Беднарскую.
Здесь ещё светилась одна маленькая лампочка, несколько каких-то людей общалось в другой комнате, а в первой с удивлением он застал, якобы дремлющего знакомого коллегу, некоего Мушинца, который, все положения и ремёсла в жизни испробовав, наконец обосновался аж в полиции. Мушинец, щуплый малый с одним глазом, потому что другой где-то в дороге жизни потерял, больше видел одним, чем многие люди двумя. Был это чертёнок – не человек, на вид тщедушный, а стойкий, как железо. Он на самом деле имел тот же изъян, что Преслер, так как был зависимым пьяницей, но он владел зависимостью, не зависимость им. Временами по четыре недели водки в рот не брал, никакого алкоголя не пробовал, потом вдруг закрывался на несколько дней, пил даже до болезни, и выходил бледный, уставший – но уже трезвый. Мушинец был самым опасным из шпионов, потому что имел чрезвычайно много ловкости, ему не нужно было всего слышать, много догадывался, а с каждым человеком его языком умел говорить. Бывалый старик, он не терпел поручика, поручик его тоже не переносил, но оба делали вид сердечных приятелей. Преслер нахмурился, увидев противника на своём месте, поздоровался с ним, однако, достаточно вежливо и primo imp etu[3] пошёл выпить водки, чувствуя себя каким-то ослабевшим.
– А ты, сударь, не пьёшь? – спросил он Мушинца.
– Я не пью, теперь такое время, – ответил он, – что в водку вдоваться нельзя, она сладкая, но бестия предательская.
– Маленькая рюмка, – сказал Преслер, – охлаждает и подкрепляет.
– Подкрепляйся и охлаждайся, я сегодня не пью.
Поручику как-то грустно было соло со своей зависимостью выступать.
– Эх! – изрёк он. – Для компании!
– Видишь, сердце, – воскликнул Мушинец, – я как пью, то уже не рюмком, а бутылкой.
– Тогда мы будем пить бутылкой.
– Видишь, я как начну бутылку, то дотяну до полдюжины, а как полдюжину выпью, начинаю полгарковку[4] и потом из меня труп.
– Что болтать, – молвил Преслер, – это заблуждение; мы дадим себе слово чести, что сверх бутылки ни капли.
– Что с того, когда я такой человек, – отпарировал Мушинец, – что если я себе самое милое слово дал, то ему тотчас изменю, а как пью, то меня ни одна людская сила не остановит…
– Ну, тогда так, – прибавил Преслер, – под контролем, по одной рюмке…
– Мне кажется, мой дорогой, что оба на это прозвище заслужим, лишь бы только приложились к стакану…
После долгих любезностей Мушинец, однако же, согласился на рюмку патриотичной контушофки. Они были одни, а оттого, что род этого напитка раскрывает уста, насначалось с жалоб на несчастную долю, на полицейских. Преслер не колебался назвать это собачьим хлебом.
– Что это, мой дорогой, собачий хлеб, собаки лучше едят! Человек между людьми ходит, как паршивый, каждый его обходит, жена, если её в строгости не держать, глаза заплюёт, дети стыдятся, ад на земле, но с другой стороны, когда ничего не умеешь и ничего честного делать не хочется, приходиться жить и тем отравленным питанием. Ты скажи мне, на что бы я или на что бы ты пригадился? Мы оба даже свиней пасти не умеем…
Преслер бормотал, но пил, Мушинец, усмехнувшись, сказал ему тихо:
– Выпадет мне удача, ежели то, что думаю, получится, возьму толстый грош и уберусь к дьяволу куда-нибудь за границу, потому что меня это ремесло доело. Там буду себе либо отдыхать, либо по-дилетантски только иногда чем-нибудь более важным заниматься…
– Вы уже что-то высмотрели? – спросил Преслер.
– Несколько дней я тихо слежу, – шепнул второй, – крупные рыбы тут собираются в одном месте на стороне, так что их всех в одну сеть поймать будет можно.
Что-то кольнуло Преслера: не были ли, часом, это те же самые, на которых охотился он.
– А где это? Где? – спросил он.
– Думаешь, что я так глуп и дам тебе жареного голубка в рот? Достаточно тебе знать, что они себе выбрали фабрику, которая скрывается во мраке, пустое здание, тёмное, нужен был случай, чтобы я их там настиг…
С этих слов легко догадался Преслер, что оба на одно напали. Замолчал, допили контушовку, мало что говоря друг другу, и разошлись каждый в свою сторону.
Ночь была весенняя, ясная, воздух мягкий, торжественная тишина, сказал бы, что своим плащём покрывала счастье, обнимала спящих благими снами, но в этой зловещей тишине, в этом временном перемирии, душа чувствовала приготовление к великой борьбе. Ни русские, стоящие на страже этого искусственного мира, ни поляки не имели уверенности в завтрашнем дне. Всё знаменовало кровавую борьбу, страшную бурю, которой этот вынужденный мир был приготовлением. Преслер, не имея возможности или не желая вернуться домой, потащился улицей глубоко задумчивый, борясь с самим собой, немедленно ли воспользоваться своим открытием, или ждать ещё, чтобы ему это разъяснилось. Приходили к нему угрызения совести, сомнения, отвращения, страхи, но скоро после них наступало какое-то чувство тревоги, ревности, желание опередить Мушинца и отобрать у него добычу. В натурах звероподобных мы часто встречаем на месте других причин для действия такую страстную зависть, которая толкает на захват раньше другого того, о чём иначе, может, не подумал бы. Преслер особено чувствовал себя страдающим тем, что Мушинец мог его опередить. Он долго колебался, боролся с собой из страха, чтобы сын не узнал, но в итоге сатанинское искушение победило. Он прошлялся почти всю ночь по пустынным улицам над Вислой; уже рассветало, когда, разгорячённый, он решил поспешить с доносом, чтобы, откладывая его, не смягчиться.
– Юлек не может знать, не узнает; что Мушинец собирается схватить у меня из-под носа, я предпочитаю взять, а потом бывайте здоровы!…
Эта мысль так застряла в его голове, что он тотчас решил пойти в это секретное бюро на Долгой улице и там ждать пана начальника, чтобы с ним о цене крови, о плате преступления условиться. Ему казалось, неопытному ещё в делах большего значения (потому что до этих пор был использован только в малых), что сможет поторговаться о том несчастном товаре, который приносил.
Достучавшись в бюро, он нашёл там только заспанного сторожа и пьяного клерка над остатком водки, принесённой из шинки; бутылка стояла беззащитная и Преслер вычерпнул из неё немного силы для ожидания. Пан начальник, который любил вечерние застолья, долго после них привык спать. Таким образом, не дождался его Преслер даже до девяти и часть утра проспал на скамье в канцелярии. Когда он пробудился, клерк с распухшими глазами осматривал бутылку, считаясь с совестью, мог ли так много из неё выпить. Уже для избежания чувствительных вопросов с его стороны, уже от нетерпения, прибывший немедленно доложился к начальнику. Он попал в наихудшую минуту. Человек, пробудившийся от сна после вчерашнего приёма, чем он был более весёлым и обильным, тем его более черным искупает настроением. Пан начальник с руками в карманах, кислый, как бы уксуса напился, ходил по комнате большими шагами, зевал и был приготоволен к беспощадному лаянию на подчинённых.
Едва Преслер показался в дверях, он насел на него сверху:
– Хорошо, что я тоже тебя вижу! Что вы делаете? За что деньги берёте? В городе заговоры и бунты, правительство ни о чём не знает, на вас полагается, а вы задаром хлеб едите! Что это? Что это? Что вы себе думаете? Вы, пожалуй, в сговоре с этой чернью!
Когда пан советник немного отдышался, Преслер прошептал, что пришёл с рапортом.
– Наверное, снова какая-нибудь глупость, фунта клоков не стоит, – сказал презрительно начальник.
– Извините, пан начальник, – ответил Преслер, – но это крупное дело и я жду, что пан будет соответствующе великодушен меня обеспечить вознаграждением.
На эти слова, которые были, как бы вступлением к торгу, советник вспылил таким гневом, так начал угрожать и пыхтеть, что Преслер на самом деле испугался. Прижатый, тотчас пропел он всё, а по мере того как говорил, пан советник, значительно умиротворившись, смягчился, растрогался и остановил Преслера, желая сразу посоветоваться над средствами использования полученных новостей.
О той большой ожидаемой награде речи не было. В этом разделе тёмных и запутанных дел всегда высший берёт плату, отделываясь от второстепенных обещаниями. Пан начальник сам надеялся на денежную премию, может, на крест, может, на более высокую должность, а Преслера мог отлично сбыть какими-нибудь двумя сотнями злотых, из которых ещё половина оставалась в его кармане.
Экс-поручик имел только то утешение, что у Мушинцы вырвал ожидаемую удачу. Целый день утекал в тайных приготовлениях к вечерней осаде указанной фабрики и захвату всех, которые бы в ней находились. У Преслера и начальника была надежда поймать там главарей заговора.
Между тем готовилось, что-то совсем другое. Полковник в этот день собирался собрать молодёжь и урегулировать науку работы оружием, к которой она рвалась. Он хотел сначала использовать Преслера за инструктора, но не был ещё в нём уверен и даже не мог найти. Другой старый солдат пошёл на его место. Когда прилично смеркалось, часть той молодёжи, которая выглядела такой нетерпеливой в день начала тайной муштры, начала медленно сходиться к фабрике, в которой их уже ожидал полковник. Дверки постоянно открывались, но за ними и за стеной расставленные стражи и полиция тайно ждали уже только, когда собаерются все, дабы захватить их вместе.
Молодые люди спешно сходились, а полковник, поглядывая на те красиво сияющие запалом лица, улыбался и в то же время плакал от радости. Обнимал и целовал каждого, знакомился с ними и, словно скоро хотел отвести их на бой, учил, как нужно было вести себя в присутствии неприятеля.
Картина, какую представляла эта слабо освещённая зала, в которой седой уже вояка разгорячённую эту молодёжь, то сдерживал, то распалял воспоминаниями прошлого, была велика своей простотой и тем спокойствием среди опасности, которое составляло характер всех действий нашей эпохи. Каждый из них знал, чему подвергался этой ночью сходки, в которой палки взаправду заменяли оружие, но в цели и мысли которой ошибаться было невозможно.
Смех и шутки сопровождали эту импровизированную муштру, шумную, весёлую, оживлённую. Вместо карабинов по форме их и подобию понаделанное из дерева оружие служило большей части, тогда как остальные имели только простые палки, а один старый солдат, который их учил, ржавый карабин, извлечённый, видно, из долгого хранения. В миг, когда выстроенные в два ряда ребята маршировали, как бы уже шли на московские шеренги, какой-то стук послышался у двери, привыкшее ухо старого солдата узнало звон оружия, ударяющегося о плитку коридора. Со всех лиц пропало выражение радости и изобразилась ужасная неуверенность.
Один из молодёжи побежал за машины к тёмному окну и увидел среди достаточно светлой ночи всё здание окружённое правительством солдат. На его крик все разбежались по зале, ища способ прорваться или укрыться, один полковник остался на своём месте как вкопанный, испуганный, изумлённый, почувствовав, что был никак ответственным за гибель этой молодёжи. Он искал в голове способ спасения, но уже начали стучать в дверь и выбивать её прикладами. Сознательный, ибо привыкший к опасности, полковник сдел знак солдату, к которому присоединилось несколько смелых, чтобы забаррикадаровал двери, стоящие близко машины послужили для этого материалом. Притащили пару мельниц и соломорезок, подпирая ими ломающиеся уже двери.
После первой минуты ужаса наступили советы и размышления, как можно ещё спастись. Зала имела с обеих сторон окна достаточно высокие, но ими вскоре так же русские могли проникнуть внутрь; под одними были видны передвигающиеся штыки. Полковник, изучая позицию, взобрался с другой стороны на низкую стену, дабы увидеть, нельзя ли будет выбраться таким образом. К несчастью, и тут стояло войско и полиция. На двери напирали всё сильней и каждую минуту из окон можно было ожидать этих гостей. Пока, однако, надумали как захватить залу, с той стороны кто-то из молодёжи заметил в глубине трапезной замурованные в один кирпич дверочки, но никто не мог сказать, куда они выходили. Очень могло быть, что и за ними стояли солдаты, но равно также приходилось ждать, что с той стороны мог быть неосаждённый проход.
Когда русские штурмуют двери, полковник скомандовал, чтобы железным колом, который нашёлся под рукой, пробовать пробить отверстие в двери. На эту последнюю надежду спасения сосредоточились силы всех; начали бить, пара кирпичей выпала и с поля повеял холодный ветер. В отверстие не видно было московских солдат. Эти двери в давние времена вели в коридоры, позже заваленные; русские, видя голую стену без дверей и окон, не видели необходимости обеспечить её стражей. В сердца всех вступила надежда. Кирпичи сыпались с обеих сторон отверстия, которое всё больше увеличивалось, но тут же и солдаты, не в состоянии выломать двери, начали трясти окна. Кому-то пришло на ум погасить свет и всеми силами стараться расширить отверстие в стене. С трудом можно уже было в него протиснуться. Но в минуту, когда узнали возможность побега, все остановились, желая сначала спасти полковника.
Скрытый в темноте, он не хотел о том слышать и только громко крикнул:
– На сто тысяч фур батальонов чертей! Плаксы этакие, пользуйтесь же Божьей милостью, слово солдата, что иначе не выйду, как последним. Вы молодые, ещё более потребны родине, чем старый трутень, вроде меня, я вас сюда привёл и, как капитан с тонущего корабля, выйду последним либо погибну…
Один или два с великим трудом протолкнулись через отверстие, когда русские ворвались в залу и вместе с ними полицейские с фонарями; заметив это отверстие, они сразу овладели им, как дверями и окнами.
Не было там ни жалоб, ни стонов, ни унизительных просьб, которые этих палачей смягчить бы не могли. Только глухое молчание, прерываемое их шутками, проклятиями и глухими ударами. Иногда вырывался крик из груди, как бы вырванный проникающей силой боли, но тут же замолкал, укрощённый мужской выдержкой.
Русские, колотя и издеваясь, извлекали молодёжь из всех закутков залы. Полковник стоял, взятый между четырьмя штыками, с опущенной головой и, словно безразличный. Трудно описать радость мучителей, когда они увидели столько жертв в своих руках, но руководящий этой экспедицией офицер полиции, который ожидал иного улова, ругался по-московски, видя, что это не были вовсе начальники заговора, но молодые парни, которых полиция имела тысячи способов взять их в свои когти. Полковника отделили как наиболее важного из заключённых, отвели в дроги и повезли вперёд, когда остальных боковыми улочками отвели в цитадель.
* * *
Жена Преслера была одной из тех несчастливых женщин, которых только материнская любовь держит ещё при жизни; некогда очень красивая, следы чего ещё оставались на её лице, некогда счастливейшая, медленно дошла до той степени недоли, в которой человек наполовину цепенеет, пробуждалась из того сна только, чтобы страдать будущим сына, судьбой дочери, страхом от этого мужа, к которому имела только презрение и отвращение. Целые дни проводила она при работе задумчивая, крутя этот клубок серых мыслей, который прядёт несчастье; её руки машинально занимались работой, а в голове грезились постоянно, постоянно одни картины будущих несчастий, которые ей казались неизбежными. Она видела мужа то с петлёй на шее, то с пробитой грудью, свою дочку, подметающую уличную грязь, сына с окровавленной головой, где-то на бездорожье присыпанного жёлтым песком. Не умела она молиться, но когда боль очень сжимала её сердце, плакала. Это был тихий плач, почти спокойный, спадающий большими каплями, после которого было легче на сердце, и снова возвращалось это оцепенение, которое было её обычным состоянием. В нём выполняла она машинально все повседневные обязанности жизни, будучи мыслью в другом месте, похожая на ходящую статую без речи и чувства. Только шаги возвращающегося домой Юлиана и его свежий весёлый голос встряхивали её и будили – на уста возвращалось слово, иногда даже улыбка. На время становилась она для него чувствительным и мягким существом, так как вид мужа пробуждал в ней почти бешенство и ярость. Немного более равнодушной она была для дочери, хотя её также любила, но в душе считала этого ребёнка потерянным, когда Юлиана надеялась сохранить и поэтому привязывалась к нему сильней. Была эта одна из тех необъяснимых причуд сердца, которые часто встречаются на свете; иногда к более слабому, иногда к более сильному существу мы чувствуем влечение, не умея объяснить, что нас с ним таинственно связывает. Этим вечером, как всегда, Преслерова сидела при свече за работой, а Розия рядом с ней, также с иглой в руке, когда вбежал Юлиан, относя ключ от своей комнаты и вошёл в квартиру попрощаться с матерью.
– Почему ключ относишь? – спросила она его. – Или не думаешь сегодня вернуться?
– Очень может быть, – ответил он, улыбаясь, – что если задержусь, то у кого-нибудь из друзей переночую.
– Я бы предпочла, чтобы ты вернулся домой, – отозвалась мать. – Сейчас такое неспокойное время, можешь где в подозрительном месте ночевать, заберут тебя с другими…
– Мамочка, – сказал молодой человек тихо, – когда другие терпят, лучше ли я их, чтобы так себя уважал и укрывал… Что тем – то и мне…
– О! Не говори же мне этого.
Парень замолк, опустил голову, поцеловал матери руку, сестре – лоб и пошёл с весёлой песенкой. Его было долго слышно на лестнице, напевающего мелодию: «Боже что-то Польшу…», песня, которую в это время все неустанно повторяли, поневоле приходящую на уста каждому.
За ним потихоньку начала петь её Розия, а мать, слушая, через минуту залилась обильными слезами. Дочка, заметив их, замолчала.
В этом молчании, прерываемом невыносимо долгими вздохами, протекал вечер, наконец Рози мать велела ложиться, а сама спать не могла и, не желая терять времени, села за другую работу, поджидая мужа. Сама мысль его возвращения и образ этого человека, который всегда притаскивался пьяным, чтобы своим дыханием отравлять воздух этого тихого угла, наполняла её страхом, отвращением и дрожью.
Городские часы уже пробили полночь, когда медлительная, тяжёлая походка послышалась на лестнице. Преслерова, которая столько раз, бодрствуя, ожидала мужа и сына и умела распозновать их шаги, знала, что это был не Юлиан, который обычно бежал живо, тихо, с той молодёжной грациозностью, которая, кажется, не касаясь земли, была скорее полётом, нежели бегом. Старый Преслер спьяну ударялся на этой тёмной лестнице, хорошо ему знакомой, рассыпая проклятия по дороге. В этот раз эта походка была вялая, вольная, тяжёлая, сознательного человека, который, идя неохотно, словно боялся дойти до цели.
Удивилась жещина, когда эти шаги, такие непохожие на обычную походку её мужа, приблизились к двери, и вошёл медленно Преслер, в шапке, надвинутой на глаза, бледный и молчащий.
Он имел физиономию человека, который с хладнокровием совершил большое преступление и ломался под его тяжестью, деля вид спокойствия. Жена, посмотрев на него, испугалась хуже, чем если бы был пьяным, как обычно, его глаза, уставленные в одну точку, искривлённые уста, странная плаксивая улыбка, которая на них играла, притом глубокие морщинки на челе и конвульсивная дрожь щёк не могли скрыться от глаз бедной Преслеровой. Поручик, сделав несколько шагов, упал на стул, светилась голову и, доставши свиток бумажных денег, дрожащей рукой бросил его на стол, восклицая охрипшим голосом:
– Женщина, возьми это для Юлиана!
Но жена, которая в каждом другом случае с нетерпением схватила бы это желанное пособие, приглядевшись к лицу мужа, не находила мужества к нему прикоснуться. Облик этого человека ясно говорил о совершённом поступке, деньги, заработанные так очевидно, о нём свидетельствовали, что обмануться было невозможно. Несчастная медленно подошла к нему, уставила на него свои чёрные выплаканные глаза и тихонько спросила:
– Что же ты сделал?
– Ничего, – ответил Преслер.
– Как это ничего! Весь трясёшься.
– Я голоден, – сказал Преслер с дикой усмешкой. – Дайте мне что-нибудь, дайте мне что-нибудь.
Эти слова, выговоренные глухо, почти с безумием, морозом пробежали по женщине, она бросилась на деньги, чтобы из их суммы сдалать какой-то вывод о случившемся. Было там несчастных двести злотых в пошарпанных бумажках, сумма достаточно значительная для Преслера, всё же не объявившая о никаком необычайном преступлении.
Преслер, который минутой ранее просил, чтобы ему что-то дали выпить, уже было о том забыл. Он сидел с глазами, уставленными в пол, а на губах его играла зловещая усмешка, предшествующая обычно безумию. Был он такой непохожий на себя, такой удручённый, что над ним даже жена сжалилась.
– Ну, что же с тобой? Что с тобой такое, или же болен?
– Но ничего! Ничего! Ничего! – крикнул Преслер резко, стуча кулаком по столу. – Когда говорю, что ничего, значит, ничего!
Потом встал и, бормоча, начал прохаживаться. Женщина испуганно отошла, села на своё место и, погружённая в молчание, принялась за дальнейшую работу. Преслер ходил и ходил, тёр рукой лоб, дёргал на себе одежду, а иногда с принуждением будто что-то напевать пробовал. Время ко сну давно миновало, но ни Преслерова, ни он не думали об отдыхе; она ещё немного поджидала сына, он сам не ведал, что с ним произошло, но заснуть бы не мог.
Около часа кто-то начал стучать в ворота. Каменица содержала в себе много жильцов; часто выпадало, что кто-то из них поздно возвращался, шум у ворот не имел в себе ничего необычного, всё же, услыша его, встрепенулись каким-то предчувствием оба. Через минуту послышались осторожные и несмелые шаги на лестнице, а когда приблизились к двери, Преслерова, торопясь, выбежала навстречу. Почти в то же время дверь медленно отворилась и на пороге показался молодой человек, которого мать часто видела с Юлианом, бледный, в немного порванной одежде, уставший. При виде матери он смутился ещё больше и начал будто спрашивать о Юлиане, но взором искал вдалека прохаживающегося отца. По его испуганному лицу можно было узнать, что он пришёл не напрасно. Узнав, однако, от матери, что Юлиана не было, хотел повернуть назад, когда поручик машинально подошёл к нему. Ловя мгновение, когда мать, казалось, отошла в другое место, молодой человек дал знак Преслеру, что хотел бы ему что-то поведать лично. Но в минуту, когда он сделал это движение, глаза женщины поймали его, её сердце вздрогнуло, она уже догадалась о каком-то несчастье, которое от неё хотели скрыть, и схватила молодого человека за руку, таща его за собой на середину комнаты.
– Ради Бога! Человече, – крикнула она, – говори, заклинаю тебя, ты что-то знаешь! Ты что-то хочешь о Юлиане от меня утаить, ты делал ему знаки! Я – мать, я первая обо всём должна знать, я тебя не отпущу пока мне не расскажешь.
Молодой человек колебался при виде той боли, из его глаз потекли слёзы. Преслер стоял ошеломлённый, только губы и лицо дрожали судорожными движениями.
Это была минута страшного молчания.
– Несчастье! Несчастье! – наконец проговорил молодой человек слабым, дрожащим голосом.
– Что же случилось, что же случилось? Не убит? – крикнула мать.
– Нет. Но схвачен, – ответил прибывший, – вместе с многими другими. Я сам не знаю, каким чудом оттуда спасся. Мы были собраны в одной фабрике для муштры, было нас там несколько десятков, место казалось надёжное, какой-то подлый шпион должен был донести. Двое или трое убежали через сделанное отверстие в стене, остальные достались в руки русским… Юлиан с ними…
Он ещё не докончил рассказа, когда Преслер заревел каким-то странным голосом, заметался, потом сорвался, бегал как сумасшедший и, тотчас схватив шляпу, даже не взглянув ни на кого, мигом вылетел из дома.
Несчастной матери больше, чем предчувствие, почти уверенность указала убийцу сына – был им его собственный отец.
* * *
Пан начальник отдыхал на лоне семьи и в парадном турецком халате, с гаванской сигарой во рту пил ароматный чай, которым русский купец, его друг, одарил, когда слуга дал ему знать, что с рассвета какой-то очень незаметный человек вспыльчиво просился на аудиенцию.
От того, что это было время, посвящённое удовольствиям семейной жизни, в которое пан советник любил быть свободным и никого обычно не принимал, его сильно возмутила эта смелость какого-то оборванца, и он приказал его вытолкнуть за дверь.
Пан начальник, который на протяжении какого-то времени вдыхал петербургскую грязь, привёз из него все обычаи и пороки московских чиновников. Вечером в гостиной это был очень милый, сладкий и немного сентиментальный человек. Его можно было принять за идиллическое цивилизованное существо, немного эпикурейских привычек, но совсем доброе и не страшное, за сибарита, любящего развлекаться, хорошо поесть, вкусно выпить и старающегося избегать хлопот. Но под той личиной человека слабого, женоподобного и мягкого от себялюбия, скрывался холодно-хищный зверь, которому самые большие подлости и жестокости ничего не стоили. Вся его жизнь рассчитана была на доходы и материальные выгоды; где нельзя было взять деньги, там ловко выманивался подарок. Этот удобно и изысканно обставленный кабинет, в котором пан начальник изволил отдыхать, весь состоял из даров друзей и клиентов, собранных по причине разных интересов. Мебель, по правде говоря, была куплена, но частично оплачена, и столяр об остальном упоминать не смел; сигара, которую курил, была подарком какого-то контрабандиста, чай, который пил – пожертвованием купца, халат – платой за маленькое плутовство, письменный стол – презентом несчастного ремесленника, а мелкие побрякушки, покрывающие его, – сувенирами разных услуг, оказанных якобы бесплатно. Его жена ходила в подаренной салопе и выцыганенной шали. В этом доме чрезвычайно удивлялись, когда какой нахал приходил напомнить о деньгах, всё общество должно было собирать на удобство достойного служащего, который так заботливо следил за его спокойствием.
После выданного приказа изгнания нарушителя, у двери послышался шум, потом какие-то рывки и в выпертых силой двустворчатых дверях показался впереди бледный Преслер, потом слуга, который его немилосердно тянул назад за воротник. Поручик так сильно держался, что, оставив порванный кусок в руках лакея, ворвался в комнату и прямо бросился к ногам начальника, который сильно испугался. Но, узнав Преслера и видя его таким взволнованным, дал знак слуге, чтобы ушёл.
– Трутни этакие! Чего ты ко мне сюда лезешь? Ты знаешь, что наистрожайше запрещено приходить ко мне домой, как ты смеешь здесь показываться. Что тебя сюда, к чёрту, принесло?
Поручик имел совсем безумную мину, трясся, хватал его за ноги, плакал, говорить не мог.
– Помешался негодяй, что ли! – крикнул начальник.
– Сын! Сын! Мой! Пане, спаси мне сына! Взяли у меня единственного сына, делайте со мной, что хотите, сошлите меня в Сибирь, в шахты, отсеките мне голову, но сына освободите.
– Что ты плетёшь! Где? Какой сын?
– Сын! сын… вчера… там… там, куда я направил, между теми, кого вчера взяли, мой собственный сын! Он должен быть со мной, вы должны мне его освободить. Пане! Сдерите с меня шкуру, я достоин ада и самых страшных мук. Я погубил собственного сына!!
Он говорил дрожащим голосом, наболевшим, который сдвинул бы скалу, но пан начальник, видать, был привыкшим к людским стонам. Не раз, может, в цитадели он хладнокровен был к допросам, совершаемым с помощью розг и палок. Стоны отчаяния отбивались об его грудь, не доходя до её глубины. Вечером в гостиной сожалел, когда ему выпадало пёсью лапку придавить, но в отправлении должности ассистировал не раз, когда по сто розг давали слабым старикам или маленьким детям; не делало ему это ни малейшей разницы, ел потом с наслаждением бифштекс у Бегерела и восхищался пением госпожи Риволи в театре. Мы забыли добавить, что он был очень музыкальным, славился за любителя театра, а особенно был увлечён балетом и… балеринами.







