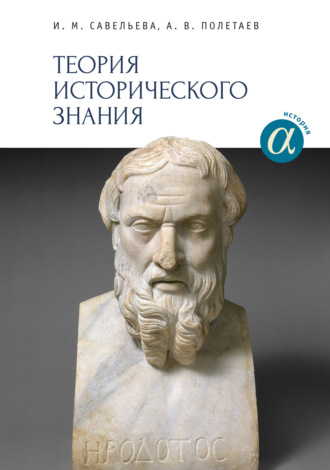
А. В. Полетаев
Теория исторического знания
4. Новейшее время (XX в.)
В XX в. «история» в разных ее значениях была объектом внимания не только со стороны самих историков, но также представителей общественных наук (экономистов, социологов, политологов), филологов, теологов и, наконец, философов, представляющих самые разные направления (от Анкерсмита до Ясперса). С целью некоторого упорядочения и систематизации остановимся кратко на распространенных в прошлом веке смыслах, придававшихся основным значениям «истории».
История-знание
Только с конца XIX в., когда формируется весь комплекс общественных наук как самостоятельного типа знания, окончательно укореняется смысл истории как отдельной дисциплины. История в значении знания начинает определяться как наука о прошлом человечества.
Конечно, новый поворот в трактовке смысла исторического знания возникает не вдруг со сменой веков. По сути он наметился уже в последней трети XIX в., когда наряду с субстанциальной философией истории в Германии возникает так называемая «критическая философия истории»[12], т. е. философия исторического знания (это направление было представлено в работах Иоганна Дройзена, Вильгельма Дильтея, Генриха Риккерта, Георга Зиммеля). Но окончательно концептуализировано новое понимание истории было лишь в первой половине XX в. Существенный вклад в формирование современных представлений об исторической науке внесли известные историки разных стран: в Германии – Эрнст Бернгейм и Макс Вебер, во Франции – Люсьен Февр и Марк Блок, в США – Чарльз Бирд и Карл Беккер, в Англии – Робин Коллингвуд, в России – Александр Лаппо-Данилевский и Николай Кареев, и многие другие.
Существенно подчеркнуть, что все перечисленные авторы были, прежде всего, профессиональными историками, а не чистыми философами, логиками, культурологами, филологами или представителями каких-то иных дисциплин или типов знания. Ранее определение смысла, вкладываемого в понятие исторического знания, было в основном прерогативой философов, и переход к дисциплинарному самоопределению по сути явился еще одним свидетельством становления истории как самостоятельной области общественно-научного знания.
При всех различиях в подходах уже в первой половине прошлого века было выработано некое общее понимание исторического знания. Напомним лишь некоторые известные высказывания из разряда «канонических» (см. Вставку 2).
Вставка 2. Определения исторического знания
Люсьен Февр: «История – наука о человеке, о прошлом человечества»[13].
Раймон Арон: «История в узком смысле слова есть наука о человеческом прошлом»[14].
Робин Коллингвуд: «История – это разновидность исследования или поиска… разновидность того, что мы называем науками, т. е. тех форм мышления, посредством которых мы задаем вопросы и пытаемся ответить на них… Науки отличаются друг от друга тем, что они ищут вещи разного рода. Какие вещи ищет история? Я отвечаю: res gestae – действия людей, совершенные в прошлом»[15].
Итак, в XX в. история в значении знания в основном определяется как: а) научное знание; б) знание о социальном мире; в) знание о прошлом. Первый смысл связан с определением по методу, второй – по предмету, третий – по времени. Однако несмотря на некое общее единство представлений об историческом знании, методологические дискуссии в этой области продолжаются, и весьма активно. Выделим лишь некоторые основные пункты современных дебатов, точнее дискуссионных проблем.
Прежде всего не вполне ясно, является ли история «просто наукой» или научной дисциплиной, как, скажем, социология или филология, или это все же «комплекс наук». Отсюда возникает ощущение, что история – это что-то отличное от других общественных и гуманитарных наук (оставляя в стороне различие между теми и другими), но остается неясным, в чем именно состоит это отличие. Эту неопределенность попытался передать французский философ Мишель Фуко, который, говоря об Истории (он часто пишет это слово с прописной буквы), утверждает:
«… Место ее не среди гуманитарных наук и даже не рядом с ними; можно думать, что она вступает с ними в необычные, неопределенные, неизбежные отношения, более глубокие, нежели отношения соседства в некоем общем пространстве… История образует “среду” гуманитарных наук… Каждой науке о человеке она дает опору, где та устанавливается, закрепляется и держится; она определяет временные и пространственные рамки того места в культуре, где можно оценить значение этих наук; однако вместе с тем она очерчивает их точные пределы»[16].
В современных определениях истории присутствуют следы и еще одного специфического смысла «истории-знания», а именно, что история – это «конкретное» знание, в противоположность «теоретическому». Эта трактовка, которая была актуализирована в начале XVII в., продолжала пользоваться популярностью и в XX в., особенно в первой его половине. Например, еще в середине прошлого века философ Карл Поппер в работе «Нищета историцизма» (1957) прямо писал, что историк интересуется действительными единичными или специфическими событиями, а не законами и обобщениями.
С конца 1950-х годов эта проблема активно обсуждается в аналитической философии истории, в рамках которой, строго говоря, «история» выступала не только (и, может быть, не столько) как «знание», но и как «текст». Дело в том, что основная часть этих исследований была посвящена проблеме построения высказываний в исторических сочинениях, что в равной степени можно рассматривать и как обсуждение метода «истории-знания», и как семантику «истории-текста». Существенный вклад в разработку данной проблемы внесли Карл Гемпель, Эрнест Нагель, Морис Мандельбаум, Уильям Дрей, Артур Данто, Георг фон Вригт, Мортон Уайт и др. Эта тематика представлена также в работах эстонских (Андрус Порк, Эро Лооне) и российских (Марина Кукарцева) исследователей. Благодаря работам в области аналитической философии истории был существенно уточнен смысл «истории-знания», прежде всего с точки зрения особенностей метода.
В то же время нельзя говорить о том, что сформулированные в рамках аналитической философии представления о высокой степени генерализации и объясняющих возможностей исторического знания (хотя и отличных от естественных наук), стали абсолютно доминирующими. И в последние десятилетия XX в. многие специалисты продолжали придавать историческому знанию традиционный смысл конкретного знания, ориентированного на особенное, индивидуальное, уникальное, случайное ит.д.
С точки зрения предмета произошло существенное расширение представлений о том, какие именно компоненты социального мира относятся к ведению истории, в первую очередь, в рамках подсистемы культуры.
Наконец, в XX в. постепенно уточнялся смысл, связанный с ориентацией исторического знания на изучение прошлого. Здесь также существовал широкий спектр мнений, вплоть до представлений о том, что история занимается не только прошлым, но также настоящим и даже будущим (такой подход связан с историософским смыслом истории-реальности). Тем не менее в прошлом веке история стала специфицироваться преимущественно как знание о прошлом, в отличие от предшествующих эпох, когда такой смысл в большинстве случаев вообще отсутствовал. Это, впрочем, повлекло за собой дискуссию о разграничении прошлого и настоящего и о соответствующем определении «сферы компетенции» истории.
История-текст
В принципе в XX в. отчасти сохранялись представления об истории как о разновидности литературы. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что в прошлом веке две Нобелевские премии по литературе были присуждены за исторические работы (хотя, как мы знаем, присуждение этих премий определяется не только литературными соображениями). Первый раз премия была присуждена Теодору Моммзену в 1902 г. с формулировкой: «Одному из величайших исторических писателей, перу которого принадлежит такой монументальный труд, как “Римская история”». Второй раз премию присудили Уинстону Черчиллю в 1953 г. с формулировкой: «За высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности». В этом случае особенно примечательна, в контексте античных дискуссий, увязка истории с риторикой.
Впрочем, в отличие от античности, исторические тексты в XX в. не выделяются более в самостоятельный литературный жанр. Речь идет не столько о литературе, сколько о тексте; соответственно, и смысл «истории-текста» изменился с общего (тип текстов) на конкретный (текст, написанный каким-либо историком). Особенно ярко эти тенденции проявились в последней трети XX в. благодаря развитию семиотики, а также целого ряда новых философских школ – упомянутой выше аналитической философии, философии текста и т. д.
Исторические тексты (т. е. тексты, написанные историками) стали объектом изучения по всем направлениям семиотического анализа – синтактике, семантике и прагматике.
Первое направление представлено традиционным филологическим анализом, в рамках которого главный интерес вызывают стилевые особенности того или иного произведения или ряда произведений одного автора. К этому направлению можно отнести, в частности, известные работы Бориса Реизова «Французская романтическая историография» (1956) и Питера Гая «Стиль в истории» (1974).
Второе направление – семантическое – в основном развивалось представителями аналитической философии истории. Как отмечалось выше, основное внимание в этих работах было уделено анализу высказываний – их внутренней структуре, логическим связям между высказываниями и т. д., – и именно в рамках этого подхода были получены самые интересные результаты.
Наконец, третье направление – прагматическое – было затронуто в основном в работах представителей французской семиотической школы, хотя и весьма специфическим образом. Поскольку значительная часть этих исследователей придерживалась левых, антибуржуазных взглядов, по крайней мере на определенном этапе своей карьеры (Ролан Барт, Юлия Кристева, Жак Деррида и др.), они акцентировали связь истории-текста с буржуазной идеологией, видя основную прагматическую функцию исторических текстов в навязывании обществу «буржуазной картины мира» путем создания соответствующей текстовой реальности.
Попытка комплексного анализа исторических текстов была предпринята Хейденом Уайтом («Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века», 1973), который попытался рассмотреть все три семиотических измерения «истории-текста» – синтаксическое, семантическое и прагматическое. К сожалению, помимо усложненной и путанной терминологии и удивительного для филолога, пишущего в конце XX в., пристрастия к механистическим классификациям в стиле позитивистов XIX в., работа Уайта имеет и много содержательных недостатков, которые неоднократно обсуждались в исторической периодике.
История-реальность
В XX в. сохранялся традиционный смысл «истории-реальности» как бытия человечества во времени. Как и в предыдущие полтора столетия, такой смысл «истории» присутствовал в первую очередь в работах по субстанциальной философии истории. Но несмотря на то, что в XX в. работы по субстанциальной философии истории продолжали производиться в изрядном количестве (достаточно вспомнить бесконечное число печатавшихся в социалистических странах работ по «историческому материализму», представлявшему собой марксистско-ленинско-сталинский вариант субстанциальной философии истории), в общественной и философской мысли в целом роль этого направления заметно уменьшилась по сравнению с XIX в. Подавляющая часть подобных сочинений имела вторичный характер и представляла собой те или иные повторы «классиков» XIX–XX вв., что привело к более ограниченному использованию соответствующего смыслообразования.
Правда, в дополнение к субстанциальной философии истории «история-реальность» стала более активно, по сравнению с предшествующим столетием, обсуждаться в работах по теологии истории, представленных трудами как протестантских (Карл Барт, Рудольф Бультман, Пауль Тиллих и др.), так и католических мыслителей (Этьен Жильсон, Жак Маритен и др.). Впрочем, смысл понятия «история» в этих работах практически не отличался от субстанциально-историософского.
В последние десятилетия XX в. «история-реальность» стала наполняться еще одним смыслом, возрождающим античные традиции, а именно реальность, изображенная в «истории-тексте». Но если в античности подразумевалось, что исторические тексты отображают реальность, то в соответствии с новейшими представлениями исторические тексты создают «образ реальности» или «эффект реальности». Особую популярность такая трактовка смысла «истории-реальности» получила в рамках постмодернистского подхода и некоторых других течений («новая философия истории», отчасти «новая интеллектуальная история» и др.). Это в свою очередь стимулировало дискуссии о реальности и вымысле, или о реальности, создаваемой в художественной литературе и в исторических текстах. Крайняя точка зрения здесь сводилась к тому, что в этом плане между историей и художественной литературой различия вообще отсутствуют. Например, еще в 60-е годы прошлого века Ролан Барт задавал риторический вопрос:
«Действительно ли описание событий прошлого, отданное… в распоряжение исторической “науке”, обеспеченное высокомерными гарантиями “реальности”, обосновываемое принципом “рационального” объяснения… отличается, в силу своей неоспоримой значимости или каких-то специфических характерных черт, от воображаемого описания, каковое можно найти в эпосе, романе или драме?»
И сам же давал ответ на него:
«Исторический дискурс не следует за реальностью, скорее он только обозначает ее путем бесконечного повторения того, что она имела место, но это утверждение не представляет собой ничего кроме очевидной подкладки всех исторических описаний»[17].
Надо сказать, что брошенный вызов не остался без ответа со стороны историков. В частности, в работах Франсуа Шатле, Майкла Оукшота, Жака Ле Гоффа и ряда других авторов была предпринята попытка снова объяснить отличие реальности, изображенной в исторических сочинениях, от художественной литературы. Однако эти объяснения оказались плохо услышаны из-за необычайной голосистости постмодернистов, сторонников «лингвистического поворота» и противников «буржуазной идеологии». В свою очередь значительная часть историков вообще игнорировала все эти дискуссии, продолжая считать, как и два тысячелетия назад, что историческая реальность просто отражается в их текстах.
Здесь следует обратить внимание на одну особенность подхода, развиваемого постмодернистами. Дело в том, что они ограничились рассмотрением взаимосвязи «истории-реальности» с «историей-текстом». При этом за рамками обсуждения осталась связь «истории-реальности» с «историей-знанием». Некоторые профессиональные историки, писавшие о проблеме исторической реальности, попытались нащупать такую связь, но в целом это смысловое наполнение «истории-реальности» в XX в. не получило широкого распространения.
В самом деле, статус реальности, создаваемой в рамках одного изолированно рассматриваемого текста, по сути, ничем не отличается от статуса реальности, создаваемой в рамках другого текста. В этом смысле все тексты равноправны и отличаются только стилистическими (синтаксическими) характеристиками. Однако если «художественные» тексты можно, хотя бы с большой натяжкой, рассматривать как «вещь в себе», то любой исторический текст является частью исторического знания (в противном случае он просто не является историческим текстом в современном определении), что коренным образом меняет ситуацию.
* * *
Как и любая область знания, история продолжает успешно развиваться, обновляться, наконец, «взрослеть», как говорил Марк Блок. В XX в. представления о смысле всех значений слова «история» в очередной раз претерпели существенные изменения. Важную роль здесь сыграло развитие теоретической социологии знания в последней трети минувшего столетия, в данном случае – знания о прошлом.
В рамках этого подхода историю-знание можно определить как общественно-научное знание о прошлой социальной реальности. Отсюда следует, во-первых, что история – это не научная «дисциплина», поскольку дисциплины формируются на основе более узкого определения предмета, а часть общественно-научного знания, специфицированная не по предмету или методу, а «по времени» (общественно-научное знание о прошлом). Это позволяет четче определить место истории в рамках общественно-научного знания, но одновременно требует концептуализации различия между настоящим и прошлым. При этом историю как научное знание о прошлом следует отличать от знания о прошлом социального мира в целом. Последнее имеет многокомпонентный характер и складывается не только из научного, но и из других форм знания – религиозного, философского, идеологического и эстетического (художественного). На уровне личности существенную роль играет также неспециализированное обыденное, житейское знание о прошлом, формируемое индивидами на основе собственного жизненного опыта. Все эти типы знания о прошлом имеют самостоятельное значение, характеристики, функции, механизмы формирования, иными словами – способы и результаты конструирования прошлой социальной реальности.
Важную роль в современной концептуализации истории играет понятие социальной реальности. В отличие от распространенного в последние десятилетия «текстологического» подхода, рассматривающего проблему реальности в рамках анализа текстов, мы используем иную концепцию, связывающую реальность не с текстом, а с знанием. Эта взаимосвязь определяется принципиальной особенностью социальной реальности (социального мира), отличающей ее от двух других «реальностей» – божественной и природной. Последние традиционно предполагаются предсущими, внеположенными по отношению к субъекту, существующими «сами по себе», независимо от человека. Не обсуждая справедливость этой посылки в целом, заметим лишь, что она в любом случае не применима к социальной реальности, поскольку последняя возникает только в процессе социальных действий и взаимодействий.
Именно на этом и основана идея о теснейшей взаимосвязи социальной реальности и знания о ней. Дальнейшее развитие этой идеи приводит к радикальному пересмотру представлений о соотношении реальности и знания, в течение тысячелетий применявшихся к миру природы. Со времен античности считалось, что знание – это лишь отражение реальности. В настоящее время эта точка зрения подвергается сомнению даже применительно к природной реальности, и уж в любом случае она неправомерна по отношению к реальности социальной. Знание о социальной реальности одновременно является формой ее конструирования – новые элементы социальной реальности не могут возникать без появления соответствующих понятий или «знаков», обозначающих эти элементы. Социальная реальность дана нам отнюдь не в ощущениях, а в понятиях или знаках. В свою очередь понятия и знаки возникают только в процессе социального взаимодействия и одновременно являются его основой. И в этом смысле существование социально признанного (и тем самым объективированного) знания о прошлом, в первую очередь научного, является непременным условием социального взаимодействия в настоящем.
Глава 2. Понятие прошлого
В данной главе мы рассмотрим эволюцию представлений о «прошлом» и его роли в темпоральной картине социального мира. Но для этого необходимо начать с анализа категории времени. Время фигурирует во всех типах знания о социальной реальности в основном на уровне неких образов. Но по своей сути эти образы, или представления, являются инструментальными: с их помощью, а точнее, на их основе формулируются теоретические гипотезы и выводы.
1. Образы времени
Формирование представлений о времени осуществляется в разных типах знания – в философии, религии, искусстве, естественных науках, общественных науках (в том числе в истории). Особенно почетное место проблема времени занимает в философии. Количество трудов, специально посвященных этой теме, исчисляется сотнями, если не тысячами, не говоря уже о том, что почти каждый крупный философ так или иначе ее затрагивал. В философии времени важнейшим является сакраментальный вопрос: «Что есть время?», его несомненно можно отнести к числу «основных вопросов философии». Для нашего анализа, однако, существен несколько иной вопрос, а именно, как «выглядит» время. Речь идет об образе времени, складывающемся в сознании, и о тех качествах, которыми наделяется этот образ.
Анализируя разнообразные концепции времени, прежде всего, обращаешь внимание на то, что почти все они подразумевают наличие двух типов, точнее, образов времени. Представления о двух типах времени, несмотря на некоторые различия в способах описания, в основе своей оставались практически неизменными на протяжении нескольких тысячелетий. Эти два образа времени иногда обозначаются как вечность и время, но для простоты мы будем обозначать их как «Время-1» и «Время-2».
Исходными являются, естественно, архаичные образы времени, появляющиеся уже в примитивных обществах. Во времена архаики формируются два базовых представления о времени, связанные с движением или изменением и так или иначе соотносящиеся с пространством. В простейшем виде «Время-1» представляется как некая среда, в которой происходит движение (изменение), а «Время-2» – как нечто движущееся (меняющееся).
Первая группа образов основывалась на уподоблении времени пространству; в этом случае «изменения во времени» схожи с «движением в пространстве». Непосредственными образами такого типа являются «океан времени» или «море времени», но такие образы могли появляться только у приморских народов. Поэтому обычно создавался не столько образ самого времени, сколько образ движения (изменения) во времени. Для этого использовались эталонные образы предметов, которые постоянно движутся или постоянно изменяются, – солнца, дерева и т. д.
Образы «движущегося» времени, относящиеся ко второй группе, часто имели антропоморфный или зооморфный характер – соответственно, время могло идти, лететь, нестись вскачь и т. д. Но также движение времени могло ассоциироваться и с некоторыми «текучими» субстанциями – водой, песком (особенно после изобретения водяных и песочных часов) – или с быстро движущимися предметами – стрелой, колесницей и т. д. Образ движения времени дополнялся некоей пространственной системой координат, определявшей, откуда и куда движется время.
В античной философии четкое различение двух образов времени было впервые введено, насколько можно судить, Платоном, хотя он сам при этом ссылался на «древних и священных философов» как на своих предшественников. Для обозначения этих образов он использовал два термина – «эон» (αίών) и «хронос» (χρόνος), которые в русских переводах традиционно звучат как «вечность» и «время»[18]. Аристотель определял «время» (χρόνος) как «число движения» или «меру движения», так как движение измеряется временем (а время, в свою очередь, движением). Наряду со временем, по его мнению, существуют некоторые «вечные сущности… <которые> не находятся во времени, так как они не объемлются временем и бытие их не измеряется временем; доказательством этому <служит> то, что они, не находясь во времени, не подвергаются воздействию со стороны времени»[19].
Сходные идеи относительно вечности и времени можно найти, например, и у Плотина (ок. 205 —ок. 270).
Оппозиция «вечность – время» продолжала оставаться исходным пунктом теологических дебатов о времени в рамках христианской доктрины. Возникнув в эпоху античности как проблема разграничения сфер приложения понятий вечности и времени, она превратилась в проблему отношения Бога к сотворенному им миру. На смену эону и хроносу, отождествлявшимся с языческими божествами, пришла идея «вечности» (aeternitas – божественного времени) и собственно «времени» (tempus – земного времени)[20]. Начало этой традиции положил Аврелий Августин (354–430), давший яркую характеристику «времени Бога»:
«Все годы Твои одновременны и недвижны: они стоят; приходящие не вытесняют идущих, ибо они не проходят… Твой сегодняшний день не уступает места завтрашнему и не сменяет вчерашнего. Сегодняшний день Твой – это вечность…»[21].
Не менее блистателен пассаж, содержащий размышления Августина о «земном времени» и развивающий, вслед за Аристотелем и Плотином, идею о том, что понятие времени связано с душой (сознанием).
«Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен – прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего – это память; настоящее настоящего – его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание»[22].
Позднее идеи Августина были развиты Боэцием (ок. 480–524/526), Фомой Аквинским (1225/1226–1274) и другими средневековыми мыслителями.
Заметим, что хотя внешне в центре христианских теологических дебатов постоянно находилась проблема соотношения божественного времени (вечности) и земного времени, на протяжении Средневековья трактовка этой оппозиции постепенно изменялась. Если Августин в основном интересовался проблемой времени, то затем в центр теологических изысканий выдвинулась проблема вечности, а начиная с XIII в. опять начинает усиливаться интерес к времени, который достигает апогея в эпоху Возрождения.
В принципе в христианской теологии существовало не два, а три образа времени. Еще Августин в «Граде Божием» ввел промежуточное понятие «век» (aevum), поместив его между «вечностью» (aeternitas) и «временем» (tempus), между божественным постоянством и все разрушающими земными изменениями. Спустя несколько столетий это деление времени на три типа было возрождено Фомой Аквинским. Вечность оставалась исключительной характеристикой Бога, ниже располагались ангелы, души, небесные тела и Церковь, существование которых предполагалось неизменным и определялось идеей «века». Самый нижний уровень иерархии занимали бренные тела, подверженные процессам развития и разрушения. Однако, по мнению большинства исследователей, эта конструкция не отменила оппозицию «вечность – время» в христианской доктрине, а лишь инкорпорировала в нее проблему постоянства и изменчивости.
Переход от Средневековья к Новому времени знаменовался среди прочего замещением религиозных представлений о времени естественно-научными теориями. Уже в XVII в. концепция двух времен приобретает новый вид: идея божественной вечности сменяется идеей абсолютной длительности, а на смену представлениям о сущностном различии «божественного» и «земного» времени приходит тезис о наличии объективного (абсолютного) времени и его субъективного восприятия (относительного времени). Одним из первых этот новый подход сформулировал, по-видимому, Рене Декарт, позднее эта идея была развита Бенедиктом Спинозой, Готфридом Лейбницем, Исааком Ньютоном и др.
Свое окончательное оформление идея двух образов времени получила в конце XIX – начале XX в. По мере вытеснения натурфилософии философией человека на смену представлениям о наличии двух сущностно разных времен пришло понимание того факта, что речь должна идти лишь о двух разных мыслительных образах времени. Существенный вклад в разработку такого подхода к проблеме времени внес, по общему признанию, Анри Бергсон. По мнению Бергсона, следует отличать длительность – качество, которую наше сознание постигает непосредственно, и «материализованное» время, становящееся количеством благодаря своему развертыванию в пространстве.
Мысль о том, что разные типы времени есть не что иное, как разные его образы, сосуществующие в сознании, была особенно четко выражена в работах основоположника феноменологии Эдмунда Гуссерля. Вообще говоря, концепция времени Гуссерля имеет два уровня классификации. На первом уровне он выделяет три типа времени: «объективное время» – время мира; «являющееся время» («являющаяся длительность») – восприятие времени; «существующее время» – имманентное время протекания сознания. Для нас, однако, особый интерес представляет второй уровень классификации, а именно: два типа «являющегося времени», т. е. два образа времени, формирующиеся в сознании (точнее, два типа восприятия времени).
В XX в. два образа времени начинают широко использоваться в общественных науках. В социологической литературе факт наличия двух образов или концепций времени впервые был отмечен, по-видимому, в статье Питирима Сорокина и Роберта Мёртона, опубликованной в 1937 г. Эти два образа времени они определили как «астрономическое время» («время часов») и «социальное время». В течение почти трех десятилетий статья Сорокина и Мёртона оставалась едва ли не единственной социологической работой, в которой проблема «двух времен» обсуждалась в явном виде. По существу лишь в книге Уилберта Мура, вышедшей в 1963 г., была предпринята попытка развить и дополнить эти первые, довольно простые, характеристики различий между «астрономическим» и «социальным» временем. Ситуация кардинально изменилась в 1980-е годы, которые знаменовали собой резкое усиление интереса социологов к проблеме «двух времен».
Эллиот Жак (1982) выделил два типа времени – «хронос» и «кайрос», т. е. «время эпизодов», имеющее начало, середину и конец, и «проживаемое время интенций» (living time of intentions), которым, по его мнению, соответствуют две разных временных оси – «последования» (succession) и «намерений» (intent; ср. с «интенциональным временем» у Эдмунда Гуссерля). Анализ двух концепций времени содержится и в работе Норберта Элиаса (1984), который обозначил их как «структурное» и «экспериментальное» время. Еще один пример – работа Торстена Хэгерстранда (1985), который различает «символическое» и «воплощенное» (embedded) время, т. е. концептуализированное время часов и календарей и время, воплощенное в событиях, вещах, условиях. «Воплощенное» время, по его мнению, является составной частью знания социального исследователя.
Обсуждение двух концепций времени в экономической литературе, как и в социологии, началось лишь в 1930-е годы, в работах шведских экономистов Гуннара Мюрдаля и Эрика Линдаля. В частности, они первыми поставили вопрос о непригодности «Времени-1» для анализа динамических процессов установления равновесия и попытались решить эту проблему с использованием концепции «Время-2». Однако, как и в социологии, всерьез проблема двух времен стала осознаваться экономистами лишь в 1960-е годы, прежде всего благодаря работам Джорджа Шэкла. Как отмечал Шэкл, существуют две концепции времени: бесконечное время, о котором можно мыслить, и моментное время (momentary time), в котором возникает мысль. Время как схема мышления отличается от времени как двигателя опыта. Первое – время, наблюдаемое извне вневременным наблюдателем. Второе – реальное время, в котором существует наблюдатель и в котором действуют экономические субъекты. Второе время является одномоментным, но именно оно обладает реальной динамической структурой, задаваемой памятью и ожиданиями.



