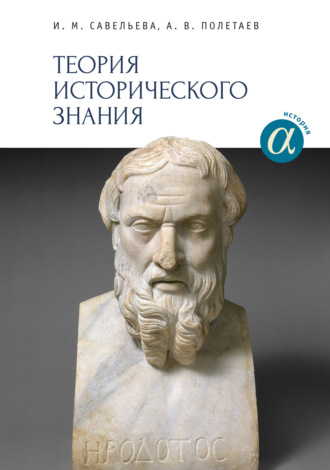
А. В. Полетаев
Теория исторического знания
Раздел II. Предмет истории
Глава 3. История как знание о социальном мире
Согласно современным представлениям, под историей понимается научное знание о прошлой социальной реальности. Задача данной главы – показать, как системы и элементы социальной реальности освоены историографией в качестве объектов. Здесь имеется в виду тот ракурс исторического анализа, когда внутреннее единство историографии обеспечивается предметом (историография чего), а не идеологическим направлением (либеральная), философской школой (позитивистская) или страновой принадлежностью (французская). Предметное поле современной исторической науки маркируется большим количеством исследовательских «меток», за которыми скрываются различные теоретико-методологические ориентации. Конечно, расставить метки без таких ориентаций невозможно, но в данном случае мы попытаемся взглянуть на предмет истории по возможности без отсылок к способам его освоения.
1. Формирование предмета
Путь к пониманию истории как науки о прошлой социальной реальности занял более двух тысячелетий. Началом этого процесса можно считать осознание существования общества, социального мира. Процесс выделения социального мира в качестве объекта исторического знания шел достаточно неравномерно. В античной Греции, в силу общего представления о единстве мира, практически не существовало разделения божественной, природной и социальной реальности, в том числе и в исторических сочинениях (точнее, в сочинениях, которые относились к разряду исторических).
Специфика мифологического сознания, характерной особенностью которого является неразделенность божественной, социальной и природной реальности, в полной мере проявлялась в трактовке понятия «история», где генеалогии божественных и аристократических родов были неразрывно связаны и переплетены между собой, и при этом могли излагаться одновременно со сведениями о мире природы, космогоническими представлениями и т. д. В этот период «история» включала самые разнообразные, если не любые, сведения или факты, относящиеся ко всем видам реальности.
Такова была композиция многих произведений, написанных в эллинистический период, в названиях которых фигурировало слово «история», начиная с «Историй» Ферекида Сирского (VI в. до н. э.) до «Исторических воспоминаний» Зенодота из Эфеса, первого главного библиотекаря Александрийской библиотеки (IV в. до н. э.). Наиболее известный образец такого понимания можно найти у Диодора Сицилийского (I в. до н. э.) в его «Исторической библиотеке». «История» у Диодора имеет универсальное значение, начиная от космологии и мифологии, переходя через человеческую историю и кончая происхождением всех живых существ.
Точно так же и в Древнем Риме словом «история» могли обозначаться самые разные сведения, относящиеся к любому типу реальности и вообще к чему угодно. Самый яркий пример такого понимания «истории» – сочинение Элиана (конец II – начало III в.) «Пестрая история», написанное на греческом, – сборник небольших рассказов на самые разнообразные темы, среди которых мы находим, например, рассказы из области физической и общей географии, биологии или зоологии, психологии, повествования об истории, обычаях и законах, о мифологии, философии и философах, искусстве, художниках и поэтах, о морали и моралистах, медицине и гимнастике, изобретениях.
Но в позднюю эллинистическую эпоху понятие «история» начинает постепенно (хотя и далеко не всегда) прилагаться к собственно социальной реальности. Огромную роль в этом сыграл Полибий (II в. до н. э.) и его «Всеобщая история». Эта работа, в частности, оказала прямое воздействие на последующую римскую историографию и тем самым способствовала некоторому сужению понятия «история» и приближению его к специализированному знанию о социальной реальности.
В римской историографии тенденция к выделению социального мира как основного объекта исторического знания еще больше усилилась. Большинство наиболее крупных сочинений, обозначавшихся словом «история», концентрировалось на описании именно социальной реальности. Так же, как и у Полибия (а еще раньше – у Фукидида), «история» здесь означала изложение (а в некоторых случаях и анализ) последовательности событий, происходивших в обществе, и тем самым предметом этих сочинений оказывались деяния (res gestae), т. е. социальные действия.
Конечно, и в Риме термин «история» прилагался не только к социальным событиям. Наиболее известным примером служит «Естественная история» Плиния Старшего (I в. н. э.), в которой речь шла в основном (хотя и не только) о «естествознании» или «природоведении». Точно так же, несмотря на преимущественную ориентацию на социальную реальность, сочинения римских историков могли включать (хотя и в гораздо меньшей степени, чем в Греции) элементы божественной реальности. В первую очередь это относилось к описанию «древней» истории, в частности, периода возникновения и становления Рима. Даже автор единственного дошедшего до нас античного трактата по методологии истории «Как следует писать историю» Лукиан из Самосаты (II в. н. э.), трактовавший историю прежде всего как описание военно-политических событий, в других своих работах под историей имел в виду и мифы.
В эпоху средневекового христианства ситуация снова меняется. Христианство характеризовалось радикальным разрывом с древнегреческой традицией отождествления истории и природы, исторического времени и физического. Частично это было продолжением и развитием тенденции, возникшей уже в Риме, частично отражало обусловленный христианским мировоззрением общий упадок интереса к знаниям о природе. Благодаря этому средневековая историография довольно четко отделяла историческое знание как знание о социальной реальности от естествознания. Так или иначе, ни о какой «естественной истории» или «истории природы» на протяжении Средних веков речи уже не шло.
Но если в отношении природы средневековая историография развила тенденцию отделения истории как специфического знания о социальном мире, то в отношении божественной реальности христианская историография унаследовала не римскую, а иудейскую традицию, в которой история божественной и социальной реальности нераздельны. Социальная реальность оказывается теснейшим образом связанной с божественной, которая становится первичным объектом средневекового знания в целом. Хотя формально имелось две истории – священная и профанная, но профанная история, т. е. история социального мира, была полностью подчинена священной.
Христианская концепция социального мира как «человечества» послужила основой для формирования специфического понятия «истории». Именно в рамках христианского религиозного знания (по крайней мере, со времен Августина) слово «история» в значении «вид реальности» приобрело смысл, не существовавший в античности, а именно «бытие человечества во времени».
Основы христианской историографии были заложены Евсевием Памфилом, епископом Кесарийским (263–339), которого можно считать родоначальником двух основных жанров христианской историографии – истории церкви и «мирской» хроники (речь идет, соответственно, о его сочинениях «Церковная история» и «Хроника»). Но по существу и в «мирских» средневековых хрониках события земной истории рассматривались лишь как проявление или отражение «истории» священной. В результате священная история была «всем», а мирская – «ничем». Знание о божественной реальности пронизывало любое знание о социальной реальности, в том числе и историческое.
Только в XVI в. мирская история начинает постепенно отмежевываться от священной истории, становясь более автономной. Так, Жан Боден в «Методе легкого познания историй» выделял три самостоятельные области познания: Бога, природу и общество, которым соответствуют три вида истории: божественная (сверхъестественная), природная (естественная) и человеческая. Выбрав человека в качестве предмета своих исследований, Боден выделил два аспекта человеческого существования (самореализации, в современных терминах) – созерцание (мышление) и делание (действия). Разделение истории на три части – божественную (священную), природную (естественную) и социальную (человеческую или гражданскую) стало активно использоваться в XVII–XVIII вв. благодаря работам Фрэнсиса Бэкона, Томаса Гоббса и ряда других авторитетных мыслителей.
Некоторые отклонения от схемы, делящей историю на три части в соответствии с тремя реальностями, впервые возникают во второй половине XVIII в. в работах французских энциклопедистов. Так, Вольтер предложил исключить из общего понятия «истории» естественную историю, которую «неточно называют историей, так как она составляет существенную часть физики». Еще дальше пошел Дени Дидро, который исключил из понятия «истории» не только естественную, но и священную историю. Формально сохранив бэконовскую схему классификации наук, Дидро предложил обозначать термином «история» именно действия людей (причем относящиеся не только к прошлому).
Но как минимум до середины XIX в., а фактически и позже, божественная реальность оставалась составной частью предмета исторического знания, по крайней мере, применительно к «допотопным» (или дописьменным) временам. Только после того как Жак Буше де Перт в 1830-е годы впервые нашел кости вымерших животных и каменные орудия первобытных людей, история дописьменного периода развития человечества стала постепенно десакрализироваться.
Точно так же очень медленно и непросто шел в XIX в. процесс отделения понятия «история» от знания о природной реальности. Быстро развивавшееся естественно-научное знание оказывало непосредственное влияние на выработку представлений о социальной реальности, в том числе и прошлой. Материалистическая трактовка человека, рассматриваемого лишь как часть природы, в существенной мере определила и содержание исторического знания. Несмотря на попытки отдельных «диссидентов» отделить социальный мир, социальную и культурную системы и человека как социальную и культурную личность от мира природы, представления о единстве социального и природного мира достигли своего апогея в XIX в. в концепциях «социальной физики», «социального дарвинизма», поисках «законов» исторического развития и т. д.
Радикальный перелом в подходе к спецификации предметного поля исторического знания начался лишь в последней трети XIX в. Первый шаг в этом направлении сделал Иоганн Густав Дройзен, но его «Энциклопедия и методология истории», написанная в 1857 г., в полном виде была издана только в 1936 г. Поэтому, с точки зрения влияния на общественное сознание, родоначальником нового подхода к историческому знанию считают Вильгельма Дильтея и прежде всего его работу «Введение в науки о духе: Опыт полагания основ для изучения истории и общества» (1883). Разделив все знание соответственно двум предметным областям – природе и социальному миру человека, Дильтей не только четко зафиксировал отличие природного и социального миров и соответствующих типов знания, но и предложил принципиально новый подход к определению истории. По Дильтею, все «знание о духе», т. е. любое знание о человеке и обществе, является историческим. Иными словами, «история» – это знание о социальном мире вообще.
Впоследствии в связи с развитием специализированных общественных наук акцент в определении предметной области истории снова меняется. Вместо введенного Дильтеем обозначения любого знания о социальной реальности как исторического, наоборот, историческое знание начинает определяться как знание о социальном мире. В итоге, в соответствии с представлениями, окончательно сложившимися уже в XX в., историю или исторические науки стали трактовать как знание о прошлой социальной реальности, не ограниченное отдельными ее компонентами.
Термин «социальная реальность» (в русском переводе «общественная действительность») впервые использовал Вильгельм Дильтей в упомянутой работе «Введение в науки о духе» (1883). В XX в. этот термин получил широкое распространение благодаря работам Альфреда Шюца, Питера Бергера, Томаса Лукмана и других представителей феноменологического направления в социологии.
Социальная реальность может быть представлена как состоящая из трех подсистем: а) системы личности (охватывающей мыслительные и поведенческие аспекты существования человека), б) собственно социальной системы и в) системы культуры (включающей продукты материальной и духовной культуры). Такое «трехчленное» деление социального мира одним из первых также ввел Дильтей в указанной выше работе. Он обозначал эти три подсистемы как систему человеческого индивида, систему внешней организации общества и систему культуры. В XX в. эта модель получила дальнейшее развитие, и в настоящее время ее можно считать относительно общепринятой в современном теоретическом обществоведении.
На ранних этапах развития исторического знания его предметом становились, как правило, лишь отдельные элементы трех подсистем социальной реальности. Например, по Плутарху (I в. н. э.), «история» вообще не должна была заниматься отдельными личностями и их моральной жизнью (поэтому Плутарх подчеркивал, что сам он пишет не историю, а жизнеописания), а должна описывать деяния больших человеческих масс, воспитывая людей на примерах прошлого. А, скажем, средневековый хронист Ранульф Хигден в своей «Полихронике» выделял семь родов деяний, которые чаще всего упоминались в книгах по истории: строительство городов, победа над врагами, применение юридических прав, наказание за преступления и исправление преступников, организация политической жизни, управление домашними делами, спасение души.
Однако историческое знание постоянно расширяло сферу охвата, включая все новые и новые компоненты социального мира. Этот процесс особенно ускорился в XVIII в., когда в рамках анализа современных для того периода обществ началось выделение отдельных подсистем – социальной, культурной, личностной – и стала формироваться специализация в обществознании. Соответственно и история учреждений, история хозяйства и права, история культуры, в целом гражданская история – стали фактом только в середине XVIII в.
В XIX в., наряду с расширением ареала «исторического» возникла реальная угроза редукционизма, подразумевавшего репрессирование неких потенциальных интересов историка. В результате очень многие элементы социальной реальности выводились за скобки, как малозначительные для построения той или иной исторической концепции, и «прозябали» ad marginem исторического знания в сочинениях любителей исторических казусов.
Возможность выделить отдельные элементы социальной реальности определяется не только сознательным интересом к детализации предмета. С одной стороны, она связана с дифференциацией современного общества и специализацией современного знания о нем, с другой – со степенью дифференциации прошлых обществ. В частности, в рамках культурной антропологии, изучающей слабо дифференцированные общества, очень трудно отделить анализ подсистемы культуры от социальной подсистемы и от системы личности. Аналогичные проблемы возникают при изучении определенных слоев общества, представляющих «низкую культуру» или «народную культуру». Здесь, например, верования и символы едва ли отделимы от ритуалов и традиций социального взаимодействия, а личность практически лишена возможности самовыражения и самореализации и потому фактически исчезает как объект самостоятельного анализа.
Вообще не стоит преувеличивать четкость границ между основными подсистемами социальной реальности (последнее в некотором смысле относится и к водоразделу между социальной и природной реальностями). Все три основные подсистемы социальной реальности тесно связаны между собой, и речь идет скорее об аналитическом представлении отдельных компонентов социальной реальности, чем о фактическом их разграничении. Например, история динамики промышленного производства на самом деле включает анализ экономической системы, социальной системы (социальная мобильность, трудовые отношения) и анализ культуры (продуктов деятельности людей), а также природной реальности (от экологии до профессиональных заболеваний). Точно так же и культуру нельзя рассматривать как один из уровней социальной целостности, сконструированной по образу трехэтажного дома, потому что все межличностные отношения имеют культурную природу, в том числе и те, которые мы определяем как экономические или социальные.
Условно и противопоставление публичной и частной жизни в едином по сути социальном пространстве. Столь же относительна антитеза индивид – общество, ошибочность которой хорошо показали Норберт Элиас, Пьер Бурдьё и многие другие социологи. Действующий индивид, интересующий в конечном счете историка, не может существовать иначе, как в переплетении разнообразных социальных связей, и как раз это разнообразие позволяет ему реализоваться. А в таких новейших направлениях историографии, как история семьи, детства, сексуальности, или даже в столь экзотических направлениях, как история еды, запахов, чистоплотности и т. д., по сути исследуется взаимодействие социальной реальности с природной. Даже самый «мелкий» элемент исторической реальности, что хорошо продемонстрировали представители микроистории, можно представить как своеобразный «узел» множества социальных связей.
Предпринимая попытку структурирования «предмета» путем выделения компонентов социальной реальности – социальной системы, системы культуры и системы личности, – надо отдавать себе отчет в том, что возможность отдельного изучения ее подсистем, элементов и связей весьма условна, они неизбежно предстают во всевозможных сочетаниях.
2. Изучение социальной системы
В социальной системе можно выделить три подсистемы: экономическую, политическую и социетальную, к которой мы относим все не-экономические и неполитические взаимодействия и институты типа семьи, соседской общины, системы образования и т. д. Внутренней средой для этих подсистем является система обыденной жизни, т. е. повседневного взаимодействия. Соответственно «по предмету» определяются политическая, экономическая, социальная история и история повседневности, и в основном они действительно оперируют элементами социальной системы, хотя, как мы покажем, далеко не всегда ограничиваются только ими.
Долгое время основным объектом исторических исследований была социальная система в целом, концептуализированная последовательно в ряде понятий, в ряду которых «государство» и «общество» были завершающими. Античность, строго говоря, не разграничивала понятия «общество» и «государство». Для описания социальной системы в античности использовались понятия «полис» (πόλις) и «политика» (πολιτικά) у древних греков, res publica, imperium, civitas, societas civilis – у римлян[28]. Эти понятия у античных мыслителей выступали в качестве взаимозаменяемых терминов, охватывая все сферы жизни людей. Средневековый мир также не пользовался понятием «государства», а оперировал понятиями «империя», «королевство» (Regna), «царство», «земля», «республика» (применительно к городам).
Лишь в начале XVI в. Никколо Макьявелли впервые вводит понятие «государство» (итал. stato от лат. status – стояние, состояние) как обобщенную категорию политической власти. Чуть позже начинается разработка понятия «общество». Осмысление социальных феноменов резко активизируется в конце XVI – начале XVII в., и с этого момента занимает важное место в философских рефлексиях. Развитие политической философии подготовило почву для первой большой фрагментации предмета истории. Внутри социальной системы были дифференцированы отдельные типы социального взаимодействия и соответствующие институты. В рамках политической системы историки начали изучение государственных институтов (армия, суды и др.), общественных политических организаций (партии, профсоюзы), истории политической борьбы, внешней и внутренней политики, войн, в том числе религиозных и гражданских, и многих других занимательных (перевороты, интриги и т. д.) или тоскливых сюжетов из области «политического». В результате возникли истории государства, межгосударственных отношений, хозяйства, общества, политических и общественных организаций.
В то же время с XIX в. историю зачастую трактуют как науку об обществе в некоем аморфном, предельно широком смысле, невзирая на то, что такое «общество», удобное для макросоциологии, – очень сложный предмет для исторического исследования. Различные значения понятия «общество» и бесконечное число характеристик, которые могут исчерпывающе его описать, делают исследование этого объекта весьма затруднительным. Ведь для отнесения той или иной совокупности людей к обществу необходимо введение самых разных критериев: территориальных, этнических, политических и т. д. В результате неизбежны значительные упрощения, и изучение «общества» превращается в анализ структуры (модели, типа). Но этим сложности не исчерпываются. Общество существует в динамике, и соответственно таким его приходится изучать. Размеры, сложность и объем объединений, к которым применимо понятие «общество», изменяются в разные исторические периоды. Поэтому историки всегда будут подвергаться совершенно оправданному искушению выбрать один из комплексов отношений как центральный и характерный для данного общества, а весь остальной материал группировать вокруг него.
Политическая подсистема
История в период Нового времени генетически оказалась связанной прежде всего с политическими процессами, характерными для трансформации традиционного общества в современное. Создание властных структур, характерных для абсолютизма, политическое оформление новой социальной конфигурации общества, отражавшее становление буржуазии, формирование новой государственности, равно как и сопровождающие все эти, не всегда явные для современников трансформации, войны, бунты и революции, стали благодатной почвой для развития исторического знания.
Хотя сейчас кажется, что история всегда и прежде всего была историей политического, на самом деле примат политической тематики в ней утверждался медленно. Раньше всего политическая история завоевывает позиции в Италии. Франции, весьма богатой политическими событиями, пришлось дожидаться XVII столетия, чтобы слово «политика» стало широкоупотребительным. Лишь с этого времени во французском языке укореняется целый комплекс терминов, производных от polis, равно как и производных от urbs. Но уже в XVIII в. известный немецкий историк Август Шлёцер не сомневался, что история без политики ничем не превосходит монашеские хроники.
В XVIII в. наряду с широким распространением «всемирной» истории формируется принципиально новый тип политической историографии – национальная, а с XIX в. история государства-нации становится доминирующей. Подъем политической истории во второй половине XIX в. объяснялся не только обстоятельствами развития исторической науки, но и политическими факторами национальной самоидентификации. В это время национальные движения в Европе использовали историческое мифотворчество как свое главное орудие.
Как и многие другие политически актуальные темы, «нация» проблематизировалась совокупными усилиями представителей искусства, философии, идеологии и общественных наук. По мнению французского историка Пьера Нора, в Германии носителями национальной идеи являлись в основном философы. В Центральной и Восточной Европе велик был вклад филологов, специалистов по национальному фольклору. Во Франции роль организатора и руководителя национального сознания принадлежала историкам, прежде всего Огюстену Тьерри, Жюлю Мишле и Франсуа Гизо. Но роль историков XIX и начала XX в. в оформлении национальной идеи и в других странах Европы в любом случае очень велика. Как остроумно заметил известный английский историк Эрик Хобсбоум,
«историки для национализма – это то же самое, что сеятели мака в Пакистане для потребителей героина: мы обеспечиваем рынок важнейшим сырьем… Прошлое и есть то, что создает нацию; именно прошлое нации оправдывает ее в глазах других, а историки – это люди, которые “производят” это прошлое»[29].
Вследствие этого политическая история, в которой обосновывалась положительная роль государства и власти, стала бесспорным лидером историографии, и надолго. Базовые концепты политической истории: государство, парламент, административные учреждения, партии, народ, раса, нация, этничность, международные отношения, дипломатия, война. Особенно сильные позиции политическая история со времен Леопольда фон Ранке занимала в Германии, и со времен Николая Карамзина вплоть до наших дней – в России.
После Второй мировой войны идея непрерывной национальной истории, чем дальше, тем больше размывается. Это связано прежде всего с радикальной политической переоценкой «исторической роли» национализма. Подавляющее большинство историков перешло на позиции критиков национальной идеи. В плане профессиональном и интеллектуальном также произошли изменения. Историки признают, что «национализированная», служащая интересам национального государства история отдаляла от познания нации, а не способствовала ему. Угасание интереса к традиционной национальной истории было связано и с подрывом идеи приоритета публичной жизни, и с появлением сначала новой социальной истории, а затем и множества других исторических субдисциплин, ориентированных на внедрение методов социальных наук.
Реакция представителей политической истории на новации в тематике и методологии исторических исследований была разноплановой. Так, например, появляются панорамные исследования национальной истории принципиально нового типа: «Американцы» (1958–1973), трилогия крупнейшего американского историка Дэниеля Бурстина; «Немцы» (1982), опять-таки принадлежащие перу американца Гордона Крейга, и др. Это многоплановые истории народа, с совершенно нестандартными сюжетными ходами, включающие массу элементов не только социальной системы, но и системы культуры и системы личности, использующие разные техники конструирования прошлой реальности. Обратим внимание даже на названия поименованных трудов: не «История Германии», а «Немцы»; не «История США», а «Американцы».
По-настоящему радикальное переосмысление предмета осуществили представители «новой политической истории». Сознавая необходимость создания современной истории политического, а не отказа от нее, они начали активно ревизовать проблемный, концептуальный и понятийный аппарат политической истории. В конце 1960-х годов эти историки вслед за социологами обратились не к проблеме политической власти как таковой, а к изучению механизмов реализации разных типов власти в прошлом. Огромную роль в этом процессе сыграли работы Мишеля Фуко о власти, насилии и принуждении. Возникло целое направление истории микрополитики, изучающее властные отношения в небольших институтах – больницах, тюрьмах, школах, семье.
В последние десятилетия вместе с утверждением идеи мультикультурализма обозначилось еще одно направление в политической истории. Началось восстановление «исторической справедливости» в исторической литературе: отказ от европоцентризма и формирование нового подхода к истории неевропейских стран. Но в это же время «детской болезнью» национализма заболевают молодые национальные историографии тех стран, которые не имели традиции работ по политической истории, потому что не имели национального государства. Стремясь удовлетворить «чувство прошлого», историки этих стран, догоняя Запад и повторяя в методологическом плане «зады» историографии, создавали свою национальную героическую и древнюю историю.
В этой связи очень интересен опыт развития национальных историографий на постсоветском пространстве, который уже несколько лет анализируют и сравнивают историки бывших советских республик. Современную историографическую ситуацию в бывшем СССР отличает явное усиление этноцентризма, для которого характерны сочувственная фиксация черт своего этноса, вплоть до выделения этнонационального фактора в качестве основного критерия исторического бытия. За прошедшие 10 лет из контркультурных практик, существовавших на фоне официальной исторической науки СССР, национальные историописания сами превратились в официальные, и «национальная история» воспринимается в качестве суммы знаний о прошлом какого-либо этноса, взятого во взаимодействии с его историческими соседями, которая организована посредством национальной идеи, обосновывающей культурные и политические притязания руководящих классов.
В работах наших историков приводится много занимательных и поучительных сведений о поисках древних и славных этнических корней, национальных героев и «врагов народа», определении границ исторических территорий и т. д. Так, благодаря разысканиям российского этнографа и историка Виктора Шнирельмана, мы теперь знаем множество национальных историй: от истории Великой Алании до Великой Якутии в алфавитном порядке. Но, справедливости ради, отметим, что и в западных странах этноцентризм до сих пор обнаруживает себя, правда, все реже в научных трудах, но достаточно явственно в учебниках и энциклопедиях.
Экономическая подсистема
С конца XVIII в. и до последней трети XIX в. экономическая история в целом была составной частью экономической науки. В большинстве экономических трудов, написанных в этот период, от Адама Смита до Карла Маркса, содержался подробный и, как правило, весьма содержательный исторический компонент. Особый вклад в экономическую историю в XIX – начале XX в. внесли представители немецкой историко-экономической школы (Фридрих Лист, Вильгельм Рошер, Бруно Гильдебранд, Карл Книс, Густав Шмоллер, Карл Бюхер, Вернер Зомбарт, Макс Вебер).
С последней трети XIX в., т. е. с начала «маржиналистской революции» в экономической науке, возникает размежевание между экономической теорией и экономической историей. Если не считать работ упомянутых представителей немецкой школы, в этот период большая часть историко-экономических исследований представляла, по существу, описательную историю народного хозяйства, в рамках которой лишь фиксировались те или иные факты прошлой экономической жизни отдельных стран. В значительной мере история народного хозяйства продолжала линию классической «политической экономии» и уделяла основное внимание истории государственной экономической политики (в таком-то году английский парламент принял такой-то закон, а такой-то русский царь издал такой-то указ, что оказало такое-то влияние на… и т. д. и т. п.).
Становление современной экономической истории можно датировать концом XIX в., и оно было во многом связано с новой источниковой базой. В частности, в это время начинается сбор материала и построение статистических рядов различных показателей цен, а с начала XX в. нарастает поток работ, вводивших в научный оборот все новые и новые ряды цен, охватывающих все больше стран и все более отдаленное прошлое. В 1920–1930-е годы экономическая история получила новый стимул благодаря возрождению интереса к истории со стороны представителей экономической науки. Этот интерес, в свою очередь, был обусловлен кризисными потрясениями в экономике всех стран и необходимостью изучения долговременных тенденций развития экономики (экономических циклов, экономического роста, динамики денежной массы и т. д.).



