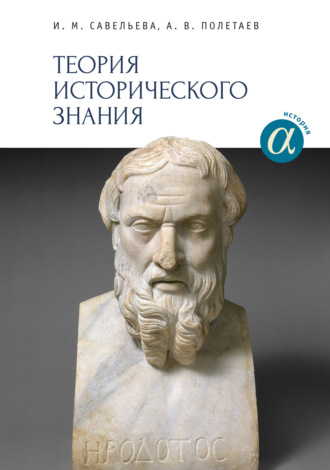
А. В. Полетаев
Теория исторического знания
Самостоятельный и интереснейший объект изучения представляет трактовка времени в художественной литературе. Художественные образы времени традиционно перекликались с общими представлениями, присущими той или иной эпохе.
Так, в «Божественной комедии» Данте огромное внимание уделялось актуальной для XIII в. проблеме пересмотра взаимоотношений между временем и вечностью. Для средневекового сознания время было бесправно, все права принадлежат вечности как «времени Бога», и эта ситуация впервые меняется во временной структуре «Божественной комедии». Время главного героя стремится разорвать границы сугубо индивидуального опыта, оно переливается во время всего современного Данте поколения, более того, становится временем всемирно-исторической смены и обновления. Вечность, со своей стороны, утрачивает абсолютную трансцендентность, из надмирского бытия превращается в итог и сумму человеческой жизни.
В XV–XVI вв. время превращается в один из главных объектов философских рефлексий гуманистов, популярными становятся архаичные антропо- и зооморфные образы времени, актуализируется проблема борьбы со временем и т. д. Этот общий сдвиг представлений ярко проявляется, например, в пьесах и сонетах Шекспира.
«У времени прожорливого можно
Купить ценой усилий долгих честь,
Которая косу его притупит
И даст нам вечность целую в удел»[23].
В XX в. огромное влияние на художественные образы времени оказали работы Анри Бергсона, который, как известно, стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 1927 г. «в знак признания его ярких жизнеутверждающих идей, а также за то исключительное мастерство, с которым эти идеи были воплощены». В частности, бергсоновские представления о времени и сознании постоянно фигурируют в романах Марселя Пруста и Вирджинии Вулф. Более того, бергсоновская концепция времени прямо излагается как минимум в двух известных произведениях: в «Волшебной горе» Томаса Манна (раздел «Экскурс в область понятия времени») и в «Аде» Владимира Набокова (начало IV части «Ткань времени»).
Наконец, наличие двух образов времени, концептуализированных философами, плодотворно используется авторами научно-фантастических произведений, посвященных «путешествиям во времени». Но если философы стараются разделить эти два образа, то писатели-фантасты, наоборот, стремятся их объединить, и «смешение времен», т. е. одновременное сосуществование в сознании двух образов времени, приводит к любопытным художественным эффектам.
С одной стороны, во всех научно-фантастических описаниях путешествий во времени (начиная с «Машины времени» Герберта Уэллса, а особенно ярко у Айзека Азимова в «Конце вечности») отчетливо присутствует «Время-1», в котором все события, происходящие в разные времена, сосуществуют или происходят как бы одновременно, что и делает возможным перемещение в некую «точку» прошлого или будущего. С другой стороны, в литературных произведениях такого типа обычно присутствует и «Время-2», так как предполагается, что изменение прошлого (которое для действующего является настоящим в момент действия) может повлечь за собой изменение нашего настоящего (которое является будущим относительно этого настоящего-прошлого).
Именно в результате одновременного использования двух, в некотором смысле противоположных, концепций – «Времени-1» и «Времени-2» в наших обозначениях – возникает большинство так называемых «парадоксов путешествий во времени» (встреча самого себя в прошлом, вмешательство в прошлые события, приводящее к изменениям настоящего и будущего, и т. д.). Классический пример – рассказ Рэя Брэдбери «Раскат грома», в котором человек, отправившийся на охоту в доисторическое прошлое, случайно убивает там бабочку и, вернувшись в настоящее, обнаруживает, что в результате оно полностью изменилось.
* * *
Два образа времени, используемые со времен архаики и до наших дней, при всех различиях в конкретных характеристиках условно могут быть описаны следующим образом.
В рамках первого образа время, как правило, пространственно ориентировано (англ. spatialized). Разные даты описываются как отрезки или точки временной оси. В любом случае время оказывается аналогично пространству. Как подчеркивал Анри Бергсон, сторонники концепции «Время-1» (которое он называл «физическим»), представляют время как ряд состояний, каждое из которых гомогенно и, соответственно, само по себе неизменно. Отсюда следует, что любое движение осуществляется извне системы, т. е. является экзогенным. В «ньютонианской» системе просто связаны вместе статические состояния, и она не генерирует эндогенные изменения. Каждый период изолирован от остальных. В результате или нам дан один период, в котором не происходит изменений, или есть изменение, но мы не можем показать, как оно было вызвано предшествующим периодом.
В рамках образа, обозначаемого нами как «Время-2», время является необратимым – эта мысль выражена, в частности, в приписываемом Гераклиту изречении «в одну и ту же реку ты не вступишь дважды… <ибо> на вступающих в одну и ту же реку все новые воды текут». При этом само течение времени образует «Творческую (в смысле созидательную. – И. С., А. П.) эволюцию» (название работы Бергсона, опубликованной в 1907 г.), порождает непредсказуемые изменения, а тем самым задает неопределенность будущего.
Факт многовекового сосуществования двух образов времени не означает, естественно, их равноправия и одинаковой значимости на протяжении всей истории европейской цивилизации. В частности, в эпоху Нового времени разработка концепции «Время-1» существенно продвинулась в XVII в., когда начала бурно развиваться математика и механика. Развитие концепции «Время-2» интенсифицировалось в конце XIX – начале XX в., когда произошла резкая «субъективизация» общественных наук. Соответственно, с некоторой долей условности можно говорить о доминировании образа «Время-1» в XVIII–XIX вв. и образа «Время-2» в XX в. Впрочем, хотя большинство современных философов уделяет основное внимание разработке концепции «Время-2», почти никто из них, даже ярые экзистенциалисты, не отрицает полностью существование «Времени-1».
2. Историческое время
Существование двух типов или образов времени совершенно отчетливо проявляется и в исторической науке. Обращение к концепции «Время-1» выражается в попытках «заполнить» время событиями. «Время-1» присутствует, в частности, в хронологии, без которой немыслима история: например, для любого современного европейского историка, использующего эру «от Рождества Христова», падение Рима произошло в 476 г., а Первая мировая война началась в 1914 г. и между двумя этими событиями прошло именно 1438 лет, независимо от субъективных представлений того или иного исследователя. Далее, историк может практически одновременно размышлять, например, об убийстве Цезаря, крестовых походах и Ватерлоо, что подразумевает одновременное «сосуществование» всех этих событий в сознании, в котором каждое из них находится в своей собственной «точке» времени.
Но вместе с тем историческое время воспринимается и как достаточно неоднородное: оно может быть более плотным, насыщенным или, наоборот, разреженным. Одни и те же интервалы времени, измеренные в календарных годах, представляются более или менее продолжительными. Точно так же очевидно, что упоминавшиеся выше Августин (354–430) и Боэций (ок. 480–524/526) жили примерно «в одно время», а Иммануил Кант (1724–1804) и Анри Бергсон (1859–1941) – «в разное», хотя промежутки времени, отделяющие смерть одного мыслителя от рождения другого, в обоих случаях примерно одинаковы. Для любого российского историка дистанция, например, между 1909 и 1913 гг. совсем не такая же, как между 1913 и 1917 гг., хотя в обоих случаях речь идет о промежутке в четыре года.
Подобные примеры можно приводить и дальше, но, по-видимому, уже ясно, что в исторических исследованиях присутствуют как «Время-1», так и «Время-2». Вопрос заключается лишь в пропорциях этой «смеси», равно как и в определении факторов, влияющих на эти пропорции.
В связи с этим необходимо остановиться еще на одной проблеме взаимодействия двух образов времени, а именно времени наблюдателя и времени действующего. В социологической и экономической литературе, посвященной проблемам времени, «Время-1» иногда ассоциируется с представлениями «наблюдателя», а «Время-2» – с представлениями «действующего» социального субъекта. Правомерность такого подхода, наверно, нуждается в дальнейшем уточнении, но для целей нашего исследования он вполне удобен и позволяет более четко структурировать обсуждаемую проблему.
Изучая общество, каждый исследователь, с одной стороны, является как бы внешним «наблюдателем», и в таковом качестве он использует в своем анализе «Время-1» – события социальной жизни при этом размещены во времени и заполняют его. С другой стороны, сам процесс «наблюдения» как действия протекает во «Времени-2». Описание и анализ социальных процессов зависят от положения наблюдателя во времени, от того, что именно для него является «прошлым», «настоящим» и «будущим» и, соответственно, от его представлений о каждом из этих трех компонентов временного процесса – его «памяти» (знаний, информации, представлений о прошлом) и его «ожиданий» (прогнозов, представлений о будущем). Существенное значение имеет, наконец, степень осознания исследователем своей двойственной роли – наблюдателя и действующего.
Заметим, что время действующего (т. е., условно говоря, «Время-2») также выступает в научных исследованиях в двух разных качествах. В первом случае темпоральные представления действующего в обществе субъекта, или субъектов, могут являться объектом анализа, проводимого наблюдателем, и исследоваться как самостоятельный феномен социальной жизни. Во втором случае, который мы, собственно, и обсуждаем в данной главе, речь идет о концепции времени, используемой самим исследователем (социологом, экономистом, историком и т. д.) при анализе общественного развития. Здесь образ «Время-2» выступает не как объект, а как инструмент исследования.
Рассматривая эволюцию исторического времени, можно отметить, что до середины XVIII в. историю пытались писать исключительно с позиций наблюдателя, т. е. в рамках концепции «Время-1». Сообщавшиеся в работах исторические сведения претендовали на роль абсолютной истины (независимо от степени их надежности). Соответственно, историческое знание предполагалось «абсолютным», а история прошлого – однозначной. Требовалось лишь установить характер и очередность событий, т. е. «заполнить» историческое время, и, будучи однажды расположена во времени, история прошлого не должна была претерпевать никаких изменений. Конечно, это не означает, что все писали одну и ту же историю, но каждый автор исходил из того, что рассказанная им «история», так же как и «история», на которую он опирается, – верна и не подлежит дальнейшему пересмотру.
Со второй половины XVIII в. время все чаще начинает рассматриваться не просто как среда, в которой происходят все «истории», – оно приобретает историческое качество, производное от опыта. Это означало, что прошлое в ретроспективе можно интерпретировать по-разному. Стало само собой разумеющимся, что история должна постоянно переписываться. История была темпорализована в том смысле, что, благодаря течению времени, она изменялась в соответствии с данным настоящим, и по мере дистанцирования изменялась также природа прошлого.
Но «Время-1» не исчезло. Оно продолжает существовать как в традиционных формах – хронологическом принципе построения истории, нарративах и т. д., – так и в модернистских попытках использования каузально-нейтрального времени при создании «контрфактической» и «акцидентальной» истории. «Время-2», в свою очередь, в соответствии с научной модой все полнее воплощается в постмодернистских подходах к интерпретации истории, в попытках заменить рациональные способы репрезентации прошлого интуитивным «вчувствованием».
История издавна обладала монополией на время мира в самом широком, предельном смысле. Но в отличие от настоящего, которым занимается целый ряд социальных наук, прошлое изучено крайне неравномерно и по тематике, и по периодам. С одной стороны, предполагается, что история «заполнена» событиями, которые сосуществуют одновременно. С другой стороны, эта «заполненность» истории не являет себя в некоем абсолютном абстрактном смысле. Историческое время «заполняют» историки. И как наблюдатели они действуют во «Времени-2», «заполняя» прошлое в соответствии с представлениями своего «настоящего». Временная неоднородность заполнения прошлого и субъективность этого заполнения являются отличительными признаками исторического знания.
Эти рассуждения легко пояснить на примере любой хронологической таблицы, с которой знаком каждый. Если вас попросят составить хронологическую таблицу, скажем, для XV в., то вы приведете в ней список важных с вашей точки зрения событий, проставив соответствующие даты. Вообще говоря, идеология хронологических таблиц имеет еще более выраженные параметры «Времени-1», так как сначала пишется год, т. е. указывается «время», а уже затем событие, т. е. то, чем это «время» было «заполнено». Но так или иначе у любого изучающего вашу таблицу возникнут вопросы: что происходило между указанными датами и какие еще события имели место в отмеченные вами годы. Очевидно, что и выбор дат, и выбор маркирующих их событий является достаточно субъективным, ибо любая хронологическая таблица, да и история в целом, пишутся во «Времени-2».
Содержательное насыщение времени детерминируется разными факторами. Прежде всего, возможность «заполнить» время зависит от наличия сведений о нем – источников. Этот фактор действует в нескольких измерениях. Во-первых, существенно, какие элементы той или иной прошлой реальности фиксировались, какие данные или сведения собирались, что именно то или иное общество хотело оставить потомкам. Во-вторых, важное значение имеет и степень сохранности «источников», что именно, почему и в каком виде дошло до наших дней. Немаловажным обстоятельством является также доступность источников. Под доступностью имеется в виду в том числе и возможность обработки: например, чтобы прочесть многие древние рукописи, нужно было сначала расшифровать мертвые языки.
Эти факторы, конечно, важны с точки зрения возможностей «заполнения» прошлого, но их все же не следует чрезмерно преувеличивать. Количество «источников» в целом постоянно увеличивается. Особенно существенный прогресс был достигнут во второй половине XX в., когда появилась возможность обработки больших массивов документов с помощью компьютеров. Кроме того, как показывает современная практика, для конструирования прошлой реальности можно с успехом использовать косвенные источники, дающие нам информацию о том, о чем создатели этих «источников» и не помышляли.
Но главное, что влияет на «наполнение» прошлого историками, – это их интересы. Историки, как и другие обществоведы, изучают не время само по себе (период времени, момент времени), а социальную реальность, отдельные ее элементы, связи, типы действий и т. д. Степень изученности прошлого является лишь результатом процесса «освоения» пространства знаний о прошлой социальной реальности. Процесс постижения социальной реальности в историческом знании мы рассмотрим в деталях в следующей главе. Подчеркнем лишь еще раз, что «заполнение» прошлого соответствует концепции «Время-1», в которой один момент времени абсолютно ничем не отличается от другого, но сам процесс «заполнения» происходит во «Времени-2», в проживаемом настоящем. Поэтому интересы настоящего в основном и определяют степень освоения прошлого времени, глубину, прочность и конфигурацию наших знаний о том или ином периоде.
«Заполненность» времени определяется также политическими обстоятельствами и идеологическими доктринами. Помимо политической моды или политических обстоятельств в Новое время существует и диктат научной моды, влиятельных или ярких социальных теорий. И, наконец, не следует забывать о «духе» времени. Именно он нередко порождает увлеченность определенными историческими периодами. Так, историки Возрождения разделяли со своими современниками пристрастие к античности, романтики XIX в. – к Средним векам, а, к примеру, националисты XX в. – к временам, в которых обнаруживаются исторические корни нации, и т. д.
Неупорядоченность, дробность, неравномерность, мозаичность изученности различных подсистем в разные исторические эпохи и в разных географических ареалах, «белые пятна» и «серые ниши» прошлого – таково полотно исторического времени. Но историческое знание в целом позволяет, когда необходимо, перевести взгляд и увидеть все многообразие «мира истории»: структуры и связи, события и действия, бытие народов и повседневную жизнь, героев и «маленького человека», обыденное сознание и глобальные мировоззрения.
Основу современного понимания «истории» составляет разделение прошлого (являющегося объектом исторического знания) и настоящего. Но такое разделение существовало далеко не всегда. Далее мы рассмотрим два вопроса: как это различение формировалось и как оно концептуализируется в наше время.
3. Темпоральные представления
Темпоральные представления, связанные с различением прошлого, настоящего и будущего, часто именуют «историческими». Это вносит некоторую терминологическую путаницу в обсуждаемую проблему. Во-первых, вплоть до XIX в. история в значении знания не специфицировалась как знание о прошлом. Такой смысл укореняется только в прошлом столетии. В то же время темпоральные представления, связанные с различением прошлого и настоящего, появляются намного раньше. Во-вторых, не следует смешивать историческое знание и знание о прошлом в целом. Знание о прошлом существует в самых разных символических универсумах – философии, религии, искусстве, естественных науках и, наконец, в общественных науках. Таким образом, в аналитических целях мы разделяем темпоральные представления (различение прошлого и настоящего), знание о прошлом в целом (присутствующее в разных типах знания) и историю как специализированное общественно-научное знание о прошлом.
История темпоральных представлений, т. е. различения прошлого, настоящего и будущего, рассматривалась целым рядом исследователей с разных точек зрения. Но, как и в случае с любыми коллективными представлениями, эта проблема продолжает оставаться дискуссионной.
Одним из наиболее перспективных подходов к изучению этой темы является, в частности, лингвистический анализ языковых темпоральных конструкций, и здесь сразу же выявляется тот факт, что проблема разделения прошлого и настоящего, столь тривиальная на первый взгляд, далеко не так проста. Еще Фердинанд де Соссюр в начале XX в. отмечал, что различение времен, столь привычное для нас, чуждо некоторым языкам, которые не улавливают даже элементарное различие между прошлым, настоящим и будущим. Эту же точку зрения разделяют современные лингвисты, которые также подчеркивают, что структура прошлое – настоящее – будущее не является универсальной.
Согласно исследованиям Анны Вежбицкой, многие годы занимающейся поиском семантических универсалий, общих для всех языков, применительно ко времени универсальными семантическими понятиями являются: ‘когда’ (время), ‘сейчас’, ‘до’, ‘после’, ‘долго’, ‘недолго’, ‘некоторое время’. В этом списке, как легко заметить, нет никаких слов, напоминающих «прошлое» и «будущее», хотя эти понятия могут быть сконструированы из указанных семантических универсалий. Формально, прошлое – это «до сейчас», а будущее – «после сейчас». Потенциально из приведенных семантических примитивов могут быть сконструированы и гораздо более сложные темпоральные конструкции.
Как показали Клод Леви-Строс и многие другие этнологи, в примитивных обществах разделение прошлого, настоящего и будущего практически отсутствует. «Сущность неприрученной мысли – быть вневременнóй; она желает охватить мир и как синхронную, и как диахронную целостность»[24]. В примитивных обществах мир выглядит как организованный не столько во времени по оси прошлое – будущее, сколько в пространстве по оси низ – верх (подробнее см. главу 13).
Можно высказать гипотезу, что темпоральные представления начинают формироваться только в эпоху цивилизации, т. е. с возникновением письменности. В частности, специалисты по истории Древнего мира обнаруживают элементы темпорального сознания в Вавилоне, Египте, Китае и т. д. Как ни странно, наибольшие дискуссии вызывает вопрос о темпоральных представлениях (которые обычно не совсем точно именуются «историческим сознанием») древних греков. Как отмечал Михаил Барг, суждения и оценки исследователей все еще группируются вокруг двух диаметрально противоположных заключений. Полностью негативная позиция формулируется кратко: греческая античность была эпохой мысли не исторической (или даже антиисторической), а натуралистической, что проявлялось, прежде всего, в истолковании категории времени. Эти суждения были в конце XIX в. развиты Фридрихом Ницше и вслед за ним с небольшими вариациями повторены Освальдом Шпенглером, Бенедетто Кроче, Робином Коллингвудом. Характерно, однако, что специалисты-антиковеды придерживаются мнения совершенно отличного, чтобы не сказать – противоположного: не должно быть никаких сомнений относительно того, что грекам было присуще сильно выраженное сознание мира исторического. Очевидно, что как в случае отрицания этого факта отразилась невозможность подогнать античный историзм под современный смысл этой категории, так и при позитивном подходе явно сказывается столь же неправомерное стремление максимально «приблизить» тип историзма древних греков к современным его определениям.
С некоторой долей условности можно сказать, что темпоральные представления древних греков, и в частности концептуальное различение прошлого и настоящего, начинают складываться только в эпоху эллинизма и примерно соответствующий ей по времени римский позднереспубликанский период. Еще более отчетливо чувство прошлого проявляется в римском раннеимператорском периоде (периоде принципата)[25]. Сама политическая система Рима способствовала становлению чувства прошлого в гораздо большей степени, чем полисная организация Греции классического периода. Идея Рима включала постулат о возрастании его могущества, т. е. предполагала осознание изменений во времени. Как считает английский историк Питер Бёрк, представления об изменениях во времени у Цицерона, Лукреция и др. выглядят гораздо более современными, чем что-либо, написанное даже в эпоху Ренессанса.
Возникновение понятия изменений было тесно связано с началом формирования структуры прошлого. В частности, римские авторы уже отчетливо различали более далекое и близкое прошлое (см., например, «О законах» Цицерона). В античном Риме возникают и первые схемы прошлого; например, в работах римских писателей эпохи гражданских войн и принципата Августа, по-видимому, впервые появляется аналогия истории общества с развитием человека и выделением соответствующих «возрастов» римского «мира» – как правило, четырех (младенчество или детство, отрочество или юность, зрелость, старость или дряхлость). Эту аналогию использовали Цицерон, Саллюстий, Теренций Варрон, Анней Флор, Аммиан Марцеллин, Лактанций и др.
Но уже в эпоху поздней античности (позднеимператорский период) чувство прошлого начинает постепенно разрушаться, причем существенную роль в этом сыграло распространение позднеяхвистских и раннехристианских представлений о прошлом, настоящем и будущем. Как отмечают многие исследователи, в принципе, вся библейская история после Моисея в значительной мере выступает как описание хода исполнения пророчеств, открытых Моисею при заключении «договора» с Богом. Эта традиция замещения настоящего и прошлого будущим особенно заметна в ветхозаветных Книгах Пророков, в которых фактические описания прошлого и настоящего представлены как описания (пророчества) будущего. Но своего апогея эта традиция достигает в позднеяхвистской апокрифической апокалиптической литературе (Книгах Еноха и др.).
Вывод о некоторой утрате чувства прошлого в патристической литературе становится вполне очевиден, если сопоставить способы членения прошлого, предлагавшиеся христианскими авторами III–V вв., с их «языческими» прототипами. Эти схемы достаточно хорошо известны – например, предложенная Юлием Африканским ок. 220 г. схема шести тысячелетий мировой истории (отталкиваясь от новозаветного «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» – 2 Пет. 3, 8); разработанная Августином схема шести возрастов мира, позаимствованная им у Аннея Флора, но приложенная к библейской истории; наконец, сконструированная Иеронимом схема «четырех царств». Но, в отличие от четко датированных и по сути исторических римских схем, они или имели чисто механический характер, или были привязаны к слабо датированным событиям библейской истории (Сотворение мира, потоп, рождение Аврама и т. д.), или вообще не датировались, как в случае с четырьмя царствами. Поэтому в рамках христианской теологии понятия прошлого и его структуры оказались, как ни странно, несколько размыты.
После падения Рима добавилось еще и влияние примитивных варварских темпоральных представлений, которые подробно рассмотрены, в частности, Ароном Гуревичем. В результате в средневековом историзме, как писал Михаил Барг, были совмещены все три модальности времени, тем самым будущее наряду с прошедшим и настоящим превращалось, с одной стороны, в предмет веры, а с другой – в предмет «исторического знания». Впрочем, «историческое знание» будущего было не более поразительным, чем «фактическое» знание той части прошлого, когда не только не существовало ни одной из форм фиксации человеческой памяти, но и не было самого человека.
Как утверждает Питер Бёрк, в Средние века, т. е. на протяжении 1000 лет с 400-х до 1400-х годов, чувство прошлого отсутствовало даже среди образованных людей. Весьма показательно, с этой точки зрения, отношение к очевидным элементам прошлого, присутствующим в средневековом «настоящем»: предметам культуры, Библии и праву. Например, руины Древнего Рима воспринимались как привычные объекты среды обитания. Так же и Библия рассматривалась как нечто, данное Богом, вечное; не как документ, а как пророчество. Это же относилось и к праву: законы Юстиниана были известны и использовались как прецеденты, но вне исторического контекста.
Средневековые люди знали, что в некоторых отношениях прошлое было непохоже на настоящее, но они не относились к этим отличиям очень серьезно, у них не было чувства отличности времени. Например, они знали, что древние не были христианами, но все равно могли написать о древней римлянке, которая «пошла к мессе», о монахах с крестами на похоронах Александра Македонского или утверждать, что Катилина отслужил обедню во Фьезоле. Точно так же они могли назвать Сарданапала царем Греции, а Магомета – кардиналом, восставшим против Рима. А если что-то из прошлого отличалось от настоящего слишком сильно, средневековые авторы прибегали к двум способам объяснения: это создали диковинные иноземцы или вообще не люди (Бог или дьявол).
Отношение к прошлому начинает постепенно меняться в эпоху позднего Средневековья. Эту эволюцию коллективных представлений фиксирует, в частности, историческая грамматика. Например, Фердинанд Брюно (1905) отметил, что в старофранцузском языке (между IX и XIII в.) существовало значительное смешение времен, размывание границ между прошлым, настоящим и будущим, при этом интенсивно использовался имперфект, особенно в XI–XIII вв. В то же время в среднефранцузском (XIV–XV вв.) использование каждого времени становится более четким и отграниченным. Постепенное становление чувства прошлого было связано по меньшей мере с двумя факторами. Во-первых, как показал Жак Ле Гофф, начиная с XII в. усиливается чувство времени в целом. Решающую роль в этом сыграло развитие городов, одновременно с которым ускорилось совершенствование техники и интенсифицировалась торговля. Технические нововведения привели к распространению башенных часов в городах, а развитие торговли и рост числа хозяйственных сделок стимулировали появление чувства «экономического времени» или «времени купцов», используя выражение Ле Гоффа.
Вторым фактором, способствовавшим формированию чувства прошлого, стало усиление феодально-сословной организации общества и возрастание роли семейного прошлого. В принципе, семейная память или родовая история играли существенную роль уже в античности, прежде всего, в римской. В эпоху Средневековья в «семейном времени» доминировали не горизонтальные (от прошлого к будущему), а архаичные вертикальные представления о времени, в соответствии с которыми умершие являются такой же частью настоящего, как и живущие члены рода. Но эти представления начинают меняться в эпоху позднего Средневековья, когда сословность превратилась в доминирующую характеристику социального устройства, стержнем которого был принцип наследственности.
Но хотя некоторые сдвиги в отношении к прошлому появляются уже в XII–XIII вв., тем не менее, как считает большинство специалистов, чувство прошлого возникает по существу лишь в период Ренессанса. При этом, как показано в работе Питера Бёрка «Ренессансное чувство прошлого» (1969), становление чувства прошлого (включая ощущение анахронизмов) происходило весьма непросто и довольно причудливым образом. Например, Пьеро делла Франческа (1420–1492) на одной из фресок, изображавших жизнь императора Константина, рисует человека в придуманном римском вооружении, что свидетельствует, по крайней мере, о понимании им того обстоятельства, что древние римляне были вооружены иначе, чем его современники. Но на той же фреске изображен рыцарь в доспехах XV в., принимающий участие в той же битве!
В XVI–XVII вв. существенную роль в развитии чувства прошлого сыграла церковная история. Первый толчок этому дала Реформация. В начале XVI в. возникает идея о том, что Церковь должна вернуться к истокам христианской веры и, соответственно, к началу своей истории. Крайнюю фундаменталистскую позицию в этом вопросе занимали анабаптисты, которые требовали буквального следования наставлениям Библии. Лютер и Кальвин были более прагматичны и избирательны и хотели вернуться к духу Евангелий и Посланий апостола Павла. Но так или иначе реформаторские идеи свидетельствовали о понимании того, что Церковь менялась во времени. Хотя, конечно, новое чувство истории оставалось противоречивым. Бёрк точно подмечает, что тот факт, что реформаторы думали, что можно вернуться ко временам первоначальной Церкви, в равной мере говорит и о неисторичности их мышления.



