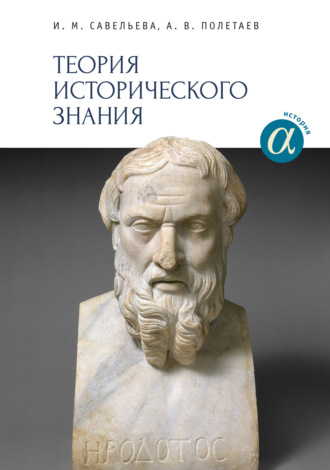
А. В. Полетаев
Теория исторического знания
В XVI–XVII вв. развитие чувства прошлого происходило в разных направлениях. Прежде всего это относится к историческим сочинениям: например, в 1599 г. была издана первая работа по историографии («История историй» Ланселота Вуазена де Ла Попленьера). Другой пример развития чувства прошлого в XVI–XVII вв. – интерес к хронологии (работы Жозефа Скалигера, Дионисия Петавия, придумавшего обратный отсчет времени до Рождества Христова, и др.). В формировании представлений о прошлом активную роль играло искусство. В конце XVI – начале XVII в. появляются «Исторические хроники» Шекспира и его «римские трагедии». В 1580 г. итальянский поэт Торквато Тассо создает героическую поэму «Освобожденный Иерусалим», считающуюся одним из образцов исторической прозы эпохи Возрождения. В XVII в. Никола Пуссен более других художников озабочен созданием атмосферы прошлого. Он осматривает Палладиум, чтобы выяснить, как когда-то выглядели монументы Рима, на его картине «Ревекка» женщины одеты в древнегреческие пеплосы, и даже мебель у Пуссена «исторична» – апостолы во время последней вечери возлежат вокруг древнеримского триклиния.
Непременное для образованного человека владение сведениями о прошлом, в том числе и блестящие познания в области античной истории, стали устойчивой традицией раннего Нового времени. Эта традиция была унаследована и поднята на еще более высокую ступень в эпоху Просвещения. Но ни тогда, ни даже в первой половине XIX в. история еще не специфицировалась как знание о прошлом. Иными словами, не существовало специализированных знаний о прошлой социальной реальности, они были интегрированы в общую систему знаний о социальном мире, в которой сведения «о прошлом» соединялись со сведениями «о настоящем». В этом смысле мышление Просвещения, как и Ренессанса, оставалось а-историческим.
4. Концептуализация прошлого
По мнению большинства исследователей, в европейской культуре чувство прошлого окончательно оформляется лишь в XIX в., и вслед за этим выделяется специализированное знание о прошлом, которое начинают именовать историей. Однако концептуализация различения прошлого и настоящего остается предметом дискуссий и по сей день. Эти дискуссии вертятся вокруг двух взаимосвязанных вопросов, над которыми размышляли еще Аристотель и Августин: чем отличается прошлое от настоящего и где проходит граница между ними.
Проблема отличия прошлого от настоящего обычно решается с помощью высказывания, что настоящее – это то, что существует (присутствует), прошлое – то, что уже не существует, соответственно, будущее – это то, что еще не существует. Подобный подход однако не слишком плодотворен. Как было показано выше, в рамках одной из двух основных концепций или образов времени, используемых с древнейших времен, все события сосуществуют одновременно. Прошлая реальность – такая же реальность, как и настоящее, и она точно так же существует (присутствует) в нашем сознании.
Другой вариант разделения – то, что произошло; то, что происходит; то, что произойдет. Однако любые события (т. е. действия и взаимодействия людей) всегда или уже находятся в прошлом, и мы узнаем о них post factum, или становятся прошлым сразу после того, как мы были их свидетелями. В рамках такого определения фактически исчезает настоящее. Прошлое и будущее предполагаются бесконечными, в то время как настоящее – это всего лишь мгновение, точка на оси времени. Этот подход, как показано выше, был сформулирован Аристотелем, но Аристотель говорил не о «настоящем», а о «теперь». В отличие от «теперь», мало кто понимает «настоящее» как мгновение – подразумевается, что «настоящее», во-первых, представляет собой некоторый отрезок времени, во-вторых, зона «настоящего» несимметрична по отношению к прошлому и будущему. Будущее отделено от настоящего четко, а прошлое как бы сливается с ним, и границу между прошлым и настоящим мы проводим интуитивно. При этом «настоящее» включает ближайшее прошлое, отрезок ближайшей истории.
Как показывают экспериментальные психологические исследования, разделение прошлого и настоящего имеет огромные индивидуальные вариации. В психоанализе же, например, неразделенность прошлого и настоящего или присутствие прошлого в подсознании вообще является едва ли не центральным объектом и отправным пунктом любого исследования. Вариации в восприятии прошлого/настоящего обусловлены также особенностями индивидуального сознания и, наконец, культурными факторами. Например, как отмечал Йохан Хёйзинга, определение настоящего и прошлого обусловлено тем, какими знаниями обладает человек. По его мнению, исторически ориентированный индивидуум, как правило, охватывает больший кусок прошлого в своем представлении о современном, чем тот, кто живет настоящим моментом.
Существуют и множество других попыток определения прошлого и настоящего, включая лингвистические. В качестве примера можно привести известное высказывание Майкла Оукшота: «Пока я наблюдаю человека с деревянной ногой, я говорю о длящемся настоящем, как только я говорю о человеке, который потерял ногу, я говорю о прошлом»[26]. Однако и лингвистический подход выявляет неоднозначность разделения и различения прошлого и настоящего, даже в современных языках. Например, прошлое может выражаться настоящим временем, и наоборот, прошлое время может использоваться применительно к настоящему. Возможны и более сложные временные грамматические конструкции – будущее в прошлом и т. д.[27]
Сложность разделения прошлого и настоящего имеет вполне объективную основу. Грань между настоящим и прошлым в обществе действительно весьма условна. Специфика социальной реальности, отличающая ее от природы, состоит в том, что ее основой являются человеческие действия. Любая информация (сведения) о любом событии (действии), происходящем в обществе, является информацией о прошлом, о чем-то, что уже состоялось (произошло) – будь то поход Цезаря или последнее изменение биржевых котировок акций. Все, что мы знаем, за исключением того, что мы переживаем (наблюдаем, ощущаем) лично в данный момент, относится к прошлому.
Различение прошлого и настоящего тесно связано с понятием Другого. Это понятие использовал еще Платон в диалоге «Тимей», а в Новое время его концептуализировал сначала Иоганн Фихте, а позднее – Вильгельм Дильтей. В XX в. этот концепт стал одним из базовых в социологии, психологии и культурной антропологии и постепенно укореняется и в исторической науке. Понятие Другого означает осознание действующим субъектом другого субъекта как не-себя. Другой – это не-я. Из этого вытекают две возможности: Другой может быть такой же как я, и не такой как я. В полной мере это применимо к историческим исследованиям, где понятие прошлого как Другого по отношению к настоящему может означать как выявление сходства, так и различия между прошлым и настоящим.
Следует еще раз подчеркнуть, что различение не тождественно различию. В принципе ощущение различий между прошлым и будущим появляется достаточно давно – прошлое могло быть лучше чем настоящее, или хуже. Различия могли быть и более существенными, но это было различие состояний чего-то одного и того же. Самая наглядная иллюстрация – весьма популярная со времен римской империи и до XX в. концепция возрастов мира, в которой процесс развития общества уподобляется циклу жизни человека. В рамках этого подхода есть различие между прошлым и настоящим состояниями, но нет различения прошлого как Другого, как и в случае с описанием жизни человека: мы знаем его сейчас, в старости, а в молодости он был совсем другим, но это тот же самый человек.
Итак, первая линия концептуализации понятия прошлого связана с понятием Другого. Не менее важна и вторая линия, в рамках которой речь идет о выделении разных типов «прошлого». Иными словами, выясняется, что «прошлое» – это не одно, а несколько понятий, и они должны концептуализироваться по-разному. Первые подходы к этой проблеме были намечены еще Иоганном Дройзеном и Эрнстом Бернгеймом во второй половине XIX в. в рамках разделения исторических источников на «предания» и «остатки». Эта концепция была развита спустя сто лет Эдвардом Шилзом, который выделил два типа «прошлых». Первое – «реальное прошлое» – это прошлое таких институтов как семья, школа, церковь, партия, фракция, армия, администрация. Сюда же относятся знания, произведения искусства, вещи. Но кроме того, как считает Шилз, есть «ощущаемое (perceived) прошлое», более пластичное, более поддающееся ретроспективной переделке, заключенное в памяти и письме.
Более интересный подход был предложен известным английским специалистом в области истории политической мысли Майклом Оукшотом, который выдвинул идею о наличии трех «прошлых». Первое – это прошлое, присутствующее в настоящем, которое он именует «практическим», «прагматическим», «дидактическим» и т. д. Это прошлое не просто присутствует в настоящем, оно является частью настоящего – дома, в которых мы живем, книги, которые мы читаем, изречения, которые мы повторяем, и т. д., т. е. все, чем мы пользуемся в настоящем, создано в прошлом. Это прошлое не отделено от настоящего, оно является его составной частью, и в этом смысле это – практическое или утилитарное прошлое.
Второе прошлое, по Оукшоту, – зафиксированное (recorded) прошлое. Речь идет о продуктах прошлой человеческой деятельности, отчетливо воспринимаемых как созданные в прошлом. На самом деле, это могут быть те же элементы, которые составляют прагматическое прошлое – дома, книги и т. д., но отчетливо отождествляемые с прошлым. Кроме того, в это прошлое входят те предметы, которые могут вообще не использоваться в настоящем, например архивные документы.
Наконец, третье прошлое – это прошлое, сконструированное в человеческом сознании (Оукшот пишет только об историках, но на самом деле речь может идти о гораздо более широком подходе). Это прошлое конструируется, прежде всего, на основе прошлого второго типа, а именно зафиксированных или сохранившихся остатков прошлого. Но прошлое третьего типа, в отличие от второго, физически не присутствует в настоящем, оно существует лишь в человеческом воображении.
Таким образом, первое прошлое является составной частью настоящего и фактически не воспринимается как прошлое. Второе прошлое – зафиксированное или сохранившееся – по сути является тем, что в современной терминологии именуется «источниками». Наконец, третье прошлое, которое можно обозначить как «образ прошлого», составляет предмет данного учебного пособия. По сути дела речь идет о прошлой реальности, которую конструируют наши знания о ней.
5. История как наука о прошлом
Существуют разные типы символических универсумов (систем знания), конструирующих социальную реальность. Эти символические универсумы, как правило, темпорализованы, т. е. они конструируют не только настоящее, но и прошлое, и будущее. Большинство темпоральных универсумов – обыденное знание, философия, знание о трансцендентной реальности (мифы, религия), эстетическое знание (искусство), идеология – не специализированы по времени.
Что касается общественно-научного знания, то ситуация, сложившаяся в рамках данного символического универсума, до некоторой степени схожа с остальными – практически во всех общественных науках наряду со знанием о настоящем присутствуют элементы знания о прошлом (хотя бы на уровне информации) и о будущем (прогнозы). Но, кроме того, в общественных науках существует отдельная специализированная область знания, связанная с изучением прошлой социальной реальности (самостоятельной общественной науки, связанной с созданием знаний о будущем, не появилось, хотя и предпринимались попытки создания «футурологии»).
Попытаемся понять, каким образом историческая дисциплина сформировалась как особый вид знания, а именно – научное знание о прошлой социальной реальности, и как эта специализация концептуализируется в современных условиях.
Начиная со времен античности, термин «история» в значении знания использовался в самых разных смыслах. Но все же в этом многообразии смыслов всегда присутствовало, наряду со многими другими, понимание «истории» как чего-то вроде общественно-научного знания (точнее, прообраза того, что мы теперь называем обществознанием). С эпохи эллинизма «историей», когда более, когда менее отчетливо, обозначалось эмпирико-теоретическое знание о социальной реальности. Это эмпирико-теоретическое знание о социальном мире чаще всего переплеталось с философией, мифами/религией, искусством, моралью и т. д., но элементы общественно-научного знания явно присутствуют в большинстве тех сочинений, которые именовались «историческими», начиная с Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Полибия, Ливия, Тацита и т. д.
Удельный вес общественно-научного смысла термина «история» в значении знания по известным причинам снимается в эпоху Средневековья, когда религиозное знание становится абсолютно доминирующим, и возрастает только в эпоху Ренессанса. «Исторические» сочинения Никколо Макьявелли, Флавио Бьондо, Жана Бодена и их последователей все больше напоминают современное обществознание, т. е. эмпирико-теоретическое (не философское, не эстетическое, не этическое и т. д.) знание о социальном мире, отличаемом от мира божественного и природного. Наряду с «общественно-научным» смыслом термину «история» продолжают придаваться и иные смыслы, отождествляющие его со знанием о божественной и природной реальности. Но уже со времен Фрэнсиса Бэкона, как правило, в этих случаях слово «история» доопределяется как «естественная (природная)» или «божественная (церковная)». «Просто история» все чаще отождествляется с особым типом знания о социальной реальности.
Ко второй половине XVIII в. этот смысл «истории» в значении общественно-научного знания становится доминирующим – достаточно обратиться к известным работам Габриэля-Бонно де Мабли, лорда Болингброка, французских энциклопедистов. Отождествление «истории» и общественно-научного знания, по сути сформировавшееся в середине XVII в., отчасти сохранялось вплоть до конца XIX в. – в частности, Иоганн Дройзен, Вильгельм Дильтей, Вильгельм Виндельбанд, Генрих Риккерт именовали все общественные науки «историческими». Более того, следы отождествления «истории» с обществознанием можно увидеть и в дискуссиях середины XX в., когда в рамках аналитической философии стал обсуждаться вопрос о методах объяснения в естественных и общественных науках. В этих дискуссиях, в том числе у Карла Гемпеля, Эрнста Нагеля, Уильяма Дрея, естественно-научное знание сопоставлялось, прежде всего, с «историей», под которой неявно понималось общественно-научное знание в целом.
В середине XIX в., т. е. в период, который условно можно обозначить как позитивистский этап представлений о структуре знания, история все еще не идентифицируется как знание о прошлой социальной реальности. В этот период общественно-научное знание постепенно отделяется от философии, но в результате единое общественно-научное знание представляется разделенным на «теоретическую» часть, которая присоединялась к естественным наукам, и «эмпирическую» часть, которая и называется «историей».
Коренной перелом наступает в последней трети XIX в., когда начинают формироваться современные представления о структуре знания. Во-первых, в этот период в явном виде концептуализируется понятие общественных наук как эмпирико-теоретического знания о социальной реальности, отличного от других видов знания. Во-вторых, выделяются самостоятельные общественно-научные дисциплины (политология, социология, экономическая наука, этнология, психология и т. д.). Наконец, что существенно для нашего анализа, именно в данный период возникает размежевание «истории» как общественно-научного знания о прошлой социальной реальности и всех остальных общественных наук (наук о человеке).
Не вдаваясь в детальное исследование этого перехода, заметим лишь, что в русском языке, например, история не определялась как знание, относящееся к прошлому, по крайней мере до 80-х годов XIX в. В толковом словаре Владимира Даля издания 1881 г. «история» фигурирует еще «в значении того, что было или есть, в противоположность сказке, басне», и никак не связывается с прошлым. Но в любом случае уже к началу XX в. в большинстве европейских стран «история» начинает отождествляться со специализированным знанием о прошлом, отличным от остальных общественных наук, прежде всего, по параметру времени.
Принятие определения истории как знания о прошлой социальной реальности не означало конца дискуссий о характере исторического знания. С точки зрения традиционных представлений о знании, деление по параметру времени выглядело довольно странно, прежде всего при сопоставлении с естественно-научным знанием, которое задавало своего рода стандарт «научности» до середины XX в. Поэтому вплоть до этого времени (а по сути и позже) выдвигался тезис о том, что история не является наукой. Это позволяло элиминировать «странное» разделение между общественными науками и историей, но по сути просто переводило проблему на другой уровень.
Если считать историю каким-то вненаучным видом знания, например, искусством, как это делал Бенедетто Кроче, то снова возникает вопрос о том, почему в искусстве надо выделять специализированное знание, определяемое по параметру времени, если искусство в целом всегда содержит знание о прошлом. Точно так же не решает проблемы утверждение, что история является неким смешанным видом знания, включающим элементы науки, философии, искусства, морали и т. д. Это опять-таки не объясняет причин тематизации «прошлого» в качестве самостоятельного объекта изучения, так как оно не дифференцируется специально ни в одном из перечисленных типов знания.
Историческое знание является по своей природе общественно-научным (рациональным эмпирико-теоретическим знанием о социальной реальности). При этом история не отличается от общественных наук ни по «по методу», как эмпирико-теоретическое знание, ни «по предмету», так как изучает социальную реальность. Однако история дифференцируется от остальных общественных наук по времени, являясь знанием о прошлой социальной реальности.
Принятие данного тезиса требует ответа на несколько вопросов. Во-первых, почему только в общественно-научном знании выделилось в самостоятельную область знание о прошлом? Во-вторых, если история – знание о прошлом, то как определить по параметру времени остальные общественные науки? Если они являются знанием о настоящем, то где граница между прошлым и настоящим в общественно-научном знании, и чем она определяется?
Как отмечалось выше, отделение истории от остальных общественных наук произошло далеко не сразу. Например, на начальном этапе специализации общественно-научного знания крупные работы по исторической социологии не были исключением, каковым они стали впоследствии. Причина заключалась не только в том, что социология проходила некий этап самоопределения и еще не сделала окончательного выбора. Дело и в некоторых характерных для XIX в. обольщениях относительно возможности «открыть» универсальные или «естественные» законы, пригодные для «всех времен и народов». Естественно-научная парадигма в обществоведении, идущая от Огюста Конта, толкала социологов к определению всеобщих законов развития общества. Эволюционный подход, связанный с признанием социальной динамики, также ориентировал на поиски законов – в данном случае законов развития, законов перехода от одной общественной системы к другой. Но затем по целому ряду причин социологи охладели к истории, а если и обращались к ней, то, за редкими исключениями типа Макса Вебера или Норберта Элиаса, делали это столь неумело, что ничего, кроме раздражения, у историков это вызвать не могло.
То же самое можно было наблюдать, скажем, в экономической науке: если в работах Адама Смита, Томаса Мальтуса, Карла Маркса и многих других экономистов XVIII–XIX вв. исторический анализ был неотъемлемым элементом теоретических построений, то в XX в. экономическая теория стала все больше пренебрегать историей. Сказанное справедливо и по отношению к другим социальным дисциплинам. Выработка ими самостоятельного категориального и теоретического аппарата, отказ от некогда модного «исторического» подхода и обращение к методам структурно-функционального анализа в некотором смысле отрезали их от прошлого. Как справедливо заметил американский историк Лоуренс Стоун, ни одна группа представителей социальных наук не интересуется серьезно ни фактами, ни интерпретацией изменений, если они происходили в прошлом.
Вместе с тем и сегодня нельзя говорить в обычном смысле о том, что общественные науки занимаются «настоящим». Подавляющая часть информации о социальной реальности, которой оперируют исследователи, так или иначе относится к прошлому. Любая сегодняшняя газета рассказывает о вчерашних событиях, т. е. о прошлом, хотя читатели воспринимают свежую газетную информацию как рассказ о настоящем. То же самое относится и к телевизионным новостям: за исключением прямых репортажей, все остальные новости – это рассказ о событиях, которые уже произошли, т. е. относятся к прошлому.
Размежевание прошлого и настоящего связано с формированием понимания прошлого как Другого, о чем шла речь выше. Тем самым определяется граница между настоящим и прошлым: к настоящему, т. е. предмету специализированных общественных наук, относится та часть прошлого, когда общество не было Другим по отношению к настоящему, и поэтому к нему применимы схемы, модели, теории и концепции, созданные для анализа современности. Ясно, что эта граница условна и размыта; по отдельным дисциплинам и даже внутри каждой из них грань между прошлым и настоящим может сильно различаться. Но общий принцип деления «по времени» остается неизменным.
Говоря о том, что современные общественные науки (в широком смысле, включая и «гуманитарные») не занимаются специально прошлым, а передали его в ведение исторической науки, необходимо сказать об одном важном исключении, а именно о филологии. Хорошо известна тесная связь истории и филологии, которая проявлялась в структуре образования, от включения истории в курс грамматики, входившей в состав «тривиума», до возникших в XIX в. историко-филологических факультетов университетов. Эта «смычка» определялась тем, что история, как и филология, связана с текстами – историки используют тексты для изучения прошлого и пишут «истории-тексты». Но одновременно филология, по крайней мере со времен Возрождения, имеет дело с прошлым. Более того, именно Лоренцо Валла едва ли не первым концептуализировал понятие прошлого как Другого на уровне анализа текстов, выдвинув и доказав идею о том, что в прошлом создавались другие тексты. Можно указать и некоторые другие гуманитарные дисциплины, сохранившие изучение прошлого в своей компетенции, – например, искусствоведение.
Но хотя некоторые дисциплины и не передали изучение прошлого в ведение исторической науки, внутри этих дисциплин все же присутствует определенное разделение исследований «по времени»: существуют специалисты по античной литературе и искусству, по литературе раннего Нового времени, по искусству XIX в. и т. д., равно как и по современной литературе и искусству. Эти разграничения отчасти также закреплены на институциональном уровне (так, на филологических факультетах среди прочих обычно выделяются кафедры античной и/или средневековой литературы, или «классической» филологии). Конечно, специализация «по времени» здесь не является жесткой, но все же ее можно обнаружить. Точно так же в общественных науках специалисты по «истории мысли» обычно образуют отдельную экспертную группу, в том числе в рамках соответствующих кафедр.
Таким образом, мы подошли к ответу на вопрос о том, почему только в одном типе знания – научном знании о социальной реальности – специально выделяется знание, относящееся к прошлому. С точки зрения «предмета» ясно, что из трех типов реальностей – божественной, природной и социальной – только последняя мыслится как подверженная существенным (быстрым, качественным) изменениям. Божественная реальность зачастую вообще предполагается неизменной, если же какие-то изменения в ней и допускаются, то периоды, качественно отличающиеся от настоящего (например, в христианстве – эпоха до Рождества Христа), обычно привлекают гораздо меньше внимания, чем настоящее. В мире неживой природы постулируется или низкая скорость изменений, или отсутствие качественных изменений, и анализ прошлых состояний объекта изучения той или иной науки уже не требует специальных дисциплин и решается непосредственно в рамках астрономии, геологии и т. д. Для живой природы, где скорость изменений выше, эта проблема выражена уже более отчетливо, и с этим связано возникновение таких разделов биологии, как палеозоология и палеоботаника.
С точки зрения «метода» также понятно, почему специализация «по времени» возникает в рамках научного знания о социальной реальности. Другие виды знания – философия, мораль, искусство, идеология и т. д., хотя и конструируют не только нынешнюю, но и прошлую и будущую социальную реальность, но в основном делают это с помощью вневременных, атемпоральных категорий (бытие, добро, красота, польза, власть и т. д.). В общественно-научном же знании не существует «теории вообще», не привязанной к времени и социальному пространству. Даже самые формальные экономические модели исходят из некоей реальности, существующей в определенное время и в определенных странах.
Поэтому, в частности, мы не можем согласиться с распространенным мнением, будто бы историк лишь транспонирует в прошлое проблемы, которыми применительно к современному обществу занимаются представители других социальных наук. Дело в том, что теории общественной жизни применимы только к определенному историческому периоду и адекватны только ему. Каждая область человеческой деятельности имеет свое прошлое, а следовательно, и свою историю, и свою теорию.
Сфера действия и применимости большинства современных экономических, социологических, политологических концепций не превышает 100–150 лет (а во многих случаях много меньше). Все, что находится за пределами этого периода, требует иного теоретического и категориального аппарата, на создание которого обществоведы, как правило, просто не имеют времени (или желания, так как это явно не вписывается в ту часть науки, которая ценится их сообществом и оплачивается власть предержащими).
Поскольку по мере углубления в прошлое современный теоретический аппарат становится все менее пригодным для анализа менявшегося общества, то, начиная с какого-то момента, для теоретического анализа исчезнувшей реальности надо разрабатывать другие схемы, модели и концепции. Очевидно, что эту функцию тоже должны выполнять историки. Таким образом, историческое знание оказывается не одной наукой, а системой наук, точнее даже множеством систем, каждая из которых соответствует какому-либо типу общества из существовавших в прошлом. Условно говоря, в идеале, например, для эпохи Просвещения должны существовать своя социология, экономическая наука, политология и т. д. Или по-другому: должны быть социология эпохи Просвещения, Возрождения, позднего Средневековья, раннего Средневековья и т. д.
Применительно к экономике эту идею развивали представители немецкой историко-экономической школы XIX – начала XX в. (Карл Бюхер, Артур Шпитгоф и др.), считавшие необходимой разработку специальных экономических теорий для каждой «хозяйственной стадии» или «хозяйственного стиля». Такие теоретические концепции, привязанные к тому или иному историческому периоду, они именовали «наглядными теориями» в противоположность «вневременной» или «формальной» теории хозяйства, которая должна объяснять явления, не подверженные историческим изменениям.
Конечно, предлагаемая нами концепция применима только к современной научной эпистеме, в которой существует целый ряд сложившихся социальных дисциплин, отвечающих стандартам научного знания. И методы, которые использует, разрабатывает (или должна была бы найти и применять) историческая наука для познания своего объекта, отражают (или должны отражать) состояние социального знания на данный момент. Но использование, наряду с предметом и методом, третьей «классификационной оси» – времени – позволяет точнее определить место истории в системе знания.



