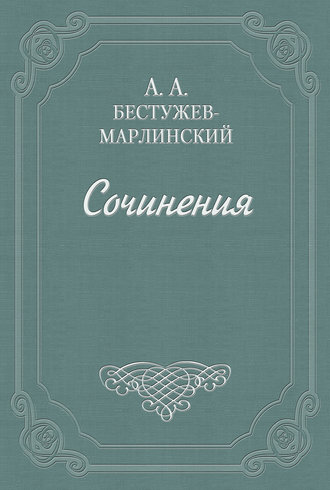
Александр Бестужев-Марлинский
Наезды
Глава II
Однажды по ночи глубокой
Мы слышим воющий набат,
Вдали стенанья, вопль жестокий
И тучи заревом горят.
«К коням, седлай, бесценно время,
На пояс меч, и ногу в стремя!..»
Ночь была темная, дорога лесом дремучим. Проводник ехал впереди по излучистой тропинке; за ним начальники, за ними по двое стрельцы, тихо, безмолвно. Изредка слышалось храпение коня, или бряк узды, или удар подковы в подкову. Повременно вожатый останавливался, и тогда дремлющие всадники насовывались друг на друга. Он прислушивался, иногда припадал ухом к земле – и опять вскакивал на коня, и поезд снова трогался далее.
– Близко ли? – спросил князь у проводника вполголоса.
– Вот из города, – отвечал тот, – вели, батюшка князь, изготовиться к делу: неровен случай, всполошатся раньше времени, а ведь эти головорезы с лезвия берут и только с лезвия уступают добычу!
Князь подъехал к Агареву.
– Друг, – сказал он, – решительный час близок – сердце у меня будто хочет выпрянуть из груди: это перед свиданием с милою.
– Либо с могилою, – возразил Агарев. – Ну, что ж вы стали? собаки скоро нас пронюхают. Надобно обойти селение!
Тут он отсчитал самых отчаянных в средину, назначил, кому отрезать конское стадо, кому напасть с улицы.
– Пан Зеленский, – сказал своему стремянному князь Серебряный, – этот стрелец проводит тебя к дому пана Жеготы, ты перелезешь с огорода и осмотришь, что там делается, между тем как товарищ отвлечет собак к воротам.
– Видно, что был в науке у лисовчиков, – ворчал Агарев.
– Да, брат, ведя четыре года разбойничью войну, поневоле научился разным хитростям, чтоб не остаться внакладе.
– Да заметь, где висят оружия, пан Зеленский, – примолвил Агарев, – и нет ли куда боковых выходов. Надо, как шапкой, накрыть это ястребиное гнездо, а то, говорят, у них есть подпольные норы – мигом дадут стрекача.
– Будет все исполнено, – отвечал стремянный, надевая шапку, – я привык лазить по стенам, словно кошка, и вижу ночью, как рысь.
– Что это за выходец? – спросил Агарев Серебряного, когда Зеленский удалился.
– Польский шляхтич: служит у меня стремянным.
– И ты доверяешь ему в польской земле?
– Для него Польша – теперь не отчизна. Он служил шеренговым под командою полковника Лисовского и, бушуя пьяный, дерзнул выхватить против него саблю. Лисовский не любил шутить – и его ждала петля вместо похмельного стакана. Это было под Троицею – он бежал и явился ко мне, прося защиты. С тех пор он служит мне очень верно: я не раз имел случай убедиться в его преданности. Всем хорош, только чуть попало за ухо – так и черт ему не брат. Постой, кажется, это выстрел!
– Нет, только собаки возрились. Ого, уж приступом лают, теперь и нам пора поближе.
– Отдайте коней в завод – мы пешком проберемся вслед Зеленского. Там главная засада – там лучшая добыча. Вперед, товарищи, – да тише тени!
Зеленский влез на высокий плетень подле самой хаты Жеготы, и взоры его упали прямо в окно. При тусклом свете одной свечи лишь до половины видна была внутренность комнаты. Стены увешаны были звериными шкурами и оружием, пол усыпан болотною травою. В одном углу рослый молодой мужчина чистил пистолет. Подле стола старуха показывала жиду, пред ней стоящему, разные золотые украшения, на которые жадно смотрел он, потряхивая пейсиками. В другом углу, подле высокой изразцовой печи, сидела статная женщина в русском сарафане и горько плакала, закрыв лицо руками. Никто не обращал на это внимания.
– Але сто тридесяц злотых будет досыц, пани Охмистрина, за эци сережки, – говорил жид, играя перед свечкой широкими подвесками. – Вода в жемчугах мутновата!
– Глаза у тебя мутны, христопродавец! – отвечала старуха, – да эдаких перлов сама пани Воеводина во сне не видала. Навесь эти серьги хоть на моську, так на ее уши станут заглядываться пуще, нежели на хваленые глаза пани Завиши. А что ты оцениваешь это ожерелье, решетная совесть? Говори, не заминайся.
– А стось, оно бы недурно, да переделки много; иной камень лопнет, оправка угорит – такой моды уж давно нет у вельможных паненок.
– Куда больно спесивы твои паненки! Да знаешь ли ты, что это ожерелье было на окладе у пресвятой Катерины-мученицы под Изборском, так после нее не стыдно и старостине надеть! Видно, Лейба, с тобой не пивать мне литок. Ко мне обещал быть Иоссель из Риги с ярманки, так с ним поскорее сделаемся: навезет всякой всячины, так что глаза разбегутся. Деньги на безмен и товары на промен: выбирай, чего твоей душеньке угодно.
– Але, пани Охмистрина, и мои злоты не обрезанные.
– Не стрижены, так бриты, не купаны, так обшарканы; уж знаком ты мне вподноготную! В прошлый раз много было недовесу в твоей расплате.
– За стось сердиться, пани Охмистрина? Ведь я не кую денег.
– А может, куешь и плавишь! Береги свой загривок, Лейба, я кое-что знаю. Попадешься в когти белому орлу, так и воронам достанется позавтракать!
– Але не гневайся, ясневальмозная, – возразил оробевший еврей, – рука руку моет; мы зе добрых людей не обегаем – даю десять червонцев за этот перстень.
– Иезус баранок Божий! только десять червонцев – ах ты, пеньковое семя! Да одна осыпка стоит более.
– А зе пану Зеготе эции клейноты дешево пришлись.
– Смотри, пожалуй! он ни во что ценит кровь христианскую! Прошу прислушать, Яся, – то, что вы добывали из огня и воды, подставляя шею под топор и саблю, для него безделица, дрянь!..
– Что с ним долго толковать, – отвечал угрюмо сын старухи, – мне хочется попытать новый пистоль на черепе этого искариота.
Он взвел курок, испуганный жид упал на колена. В это время послышался лай собак у подворотни.
– Это отец, – сказала старуха, – поди, Яся, отвори ему калитку; он, чай, не с пустыми руками воротился.
Но собаки замолкли, и не слышно было никакого стуку.
– Нет, это не он, – сказал Яся, прислушиваясь, и захохотал, увидя, как жид увивается у ног его, прося пощады. – Полно кланяться, полно, ведь ты лбом злотых не напечатаешь. Как ты думаешь, синайская пиявка, знаю я или нет, что ты продал пана Цыбульского, моего закадычного друга, гетману, когда тот свел с конюшни его арабского жеребца?
Жид побледнел как полотно, услыша это обвинение.
– Конечно, пана Цыбульского не воротишь из аду – однако ж как ты вил ему веревку, чтоб туда спуститься, так ступай же туда обмеривать его старою водкою. Подавай деньги!
Жид, трепеща, опустил руку за пазуху, но медлил – ему, казалось, трудней было расстаться с кошельком, чем с жизнью.
– Подавай! – закричал разбойник громовым голосом. Еврей отдал ему кошелек, но все еще держался за ремешок.
– Не погуби, не разори, – вопил он, – будь ласков!
– Я тебя приласкаю, – зверски сказал Яся, ударив жида по руке. – Ну, Лейба, душа твоя у меня в кармане – пора и туловище записать в расход. Лучше и не теряй слов на ветер! Пусти тебя живого, так не оберешься хлопот да жалоб, – а по мертвом жиде не поют панихид ни монахи, ни судьи! – Он медленно поднял дуло, забавляясь отчаянием несчастного. Видя это, сидящая в углу девушка с воплем кинулась удержать руку убийцы.
– На то ли вы томите меня в неволе, чтобы кроме своих горестей быть свидетельницею злодейства!
– Прочь, – вскричал с негодованием Яся, отталкивая ее, – прочь, если не хочешь камня на шею и в пруд головой! Что ты, матушка, дала волю этой девчонке – благо полюбилась брату Яну плакса негодная. Прочь, говорю!
Старуха схватила пленницу, желая ее вытащить, та упиралась, жид кричал – эта борьба раздражила разбойника – он вытащил его на средину – и упер дуло в грудь.
– Помилуй! – шептал полумертвый жид.
– Спасите! помогите! – восклицала девушка.
– Это она! – произнес кто-то под окном; выстрел сверкнул, и разбойник безгласен упал на землю. Стрельцы на этот знак со всех сторон ворвались в дом и в село. Крайняя изба запылала, чтоб отманить мужчин на пожар. Вопль испуганных женщин, плач детей, крики грабежа, завыванье собак, выстрелы и звон оружия раздавались на улице; зарево играло в небе. Наконец всё уступило отваге – вооруженные и безоружные бежали в лес. Стрельцы таскали рухлядь, выводили скотину, ловили птиц, – одним словом, поступали по-военному. Агарев с распростертыми объятиями бежал к другу.
– Поздравляю, брат, поздравляю, – кричал он издали, – наконец ты нашел свою Вариньку!
– Нет, – отвечал Серебряный сердито.
– Как нет? Да разве та красивая девушка, которую велел я выпроводить из драки и беречь как зеницу ока, не…
– Не та, которую я ищу. Она тоже русская пленница и недавно увезена из-под Острова этим бездельником Жеготою. Он, кажется, дал зарок перетаскать всех наших красавиц в Польшу, но будь я не князь, а грязь, если он не расплатится за свои разбои головою. Мне одно всего досаднее, что я наделал столько шуму даром.
– Как даром? Добыча презнатная: у этих панцерных разбойников лари не пустые – да и рогатого скота, кроме коней, голов двести.
– Что мне в них, когда не поймали ни куницы, ни волка, пусть ад закабалит мою душу, если я не полечу головней и не размету конским хвостом пепел замков магнатов окрестных, если мне не выдадут пленницы. Притащите ко мне старую ведьму, мать Жеготы.
Старуху привели бледную, дрожащую, с растрепанными волосами, – она рухнулась в ноги разъяренному князю.
– Разорил вконец, не сгуби хоть души, родимый, даруй час на покаяние! – сказала она.
– Старуха, – возразил Серебряный, – если бы тебе три прежних века оставалось жить на белом свете – даже их бы не стало замолить все грехи твои, и те, которые потакала ты в сыновьях, и те, на которые наводила. На твоем пороге дымится кровь гостей, и руки твои привыкли считать цену чужой погибели. Не жалуйся на разграбленное: что приходит, то и уходит неправдой… Однако послушай, я ворочу тебе треть твоего добра, отпущу самое на волю, если ты мне скажешь без утайки, куда девали вы пленную дворянку Варвару Васильчикову.
Старуха всхлипывала и молчала; страх мужа оковал язык ее.
– Куда вы девали Варвару Васильчикову? – вскричал вспыльчивый князь, скрежеща зубами. – Говори или ты будешь молчать до Страшного суда. Я горячим свинцом припечатаю язык твой к гортани, змея подколодная! Признавайся, где она.
– Муж мой отдал ее вместо погодной платы за зеленпольскую аренду, – отвечала наконец устрашенная старуха.
– Но когда, но кому продал он?
– Вельможному пану Колонтаю режицкому.
– Иду на Колонтая! – грозно вскричал Серебряный. – Пан Зеленский, свежего коня и тридцать стрельцов за мною!
– Стой, князь, – сказал решительно Агарев, заступив ему дорогу. – До сих пор наезд наш был только вздорен – он будет безрассуден, если ты пойдешь далее. Горсти людей недостаточно.
– Храбрость крепче силы.
– Но обе вместе крепче одной храбрости: подумай. Заря скажет полякам, как мал отряд твой; притом в рогах осталось не более как на пять зарядов пороху, и вас возьмут руками, словно мерзлых щуров, или перестреляют из-за деревьев, как тетеревов. Идти на славную опасность молодцу любо, но в бесполезную гибель – глупо. Как ты хочешь, я не пущу тебя.
Князь почувствовал справедливость этих доводов и потупил взоры, молча сжал руку Агареву, надвинул на глаза шапку и вышел на улицу.
– Готово ли? – спросил он.
– Все в порядке, – отвечал пятидесятник. – И в голове, и в хвосте поезда наряжены люди надежные, с саблями и копьями.
– Ступай! – вскричал князь; караван двинулся.
Назад возвращались уже прямою большою дорогою, и стрельцы ехали в несколько рядов. Захваченных коней и быков гнали в средине; раненых вели под руки. Многие из вершников были уже навеселе, все шутили, смеялись – рассказывали друг другу свои подвиги. Агарев, который везде и всегда сохранял свое равнодушие, старался развлечь, раззабавить друга – но тот ехал мрачен и печален. Вдруг остановился он, как будто какая счастливая мысль перелетела ему дорогу.
– Прощай, Агарев, – сказал Серебряный, – похозяйничай за меня в Опочке: я еду искать судьбы моей. Не спрашивай, как и куда, – если я не дойду и не выйду сам – так уж другие мне не помога. Жди меня три дни, жди неделю – а потом давай знать родным и властям, что я пропал без вести.
– Удальство и любовь заманивают тебя, друг, – возразил Агарев, – и заманивают напрасно. Кто тебе порука, что Варинька еще у Колонтая? Как увезешь ты ее, хоть бы она и там? Согласится ли она сама на опасное бегство, а пуще всего, проберешься ли ты до нее в земле, переполошенной наездом нашим? Теперь всякий на коне и всякий настороже – слышишь ли?
Далекий набат разносил тревогу в окрестности.
– Это звон моего свадебного или похоронного колокола: дело решено, и я не ворочаюсь с полдороги. Судьбы не встретишь и не догонишь, если самой не вздумается. Пан Зеленский, ты едешь со мною: выбери что ни лучших коней под себя и в завод – таких, чтоб убить да уйтить! Здесь ли мой дорожный чемодан?
– Здесь, – отвечал Зеленский, переседлывая коней и пристегивая в торока что надобно.
– Возьми его с собою, а все тяжелое оружие отошли домой: теперь нам нужнее лисий хвост, чем волчьи зубы. Готов? – вперед. Прощай, любезный Агарев, – не поминай лихом!
– Да сохранит тебя Николай-чудотворец и Тихвинская Богородица – в дальней дороге и на чужом пороге! Дай Бог свидеться подобру-поздорову.
Друзья обнялись – Серебряный помчался.
– Жаль мне тебя, умная, только буйная головушка, – примолвил Агарев, провожая глазами друга в темноте ночи и вытирая рукавом слезу. – Жаль тебя, доброе, только слишком ретивое, сердце!
Скоро умолк и гул топота. Агарев медленно поворотил коня и, задумчив, поехал догонять отряд свой.
Глава III
Вот едет он путем-дорогою, стороною далекою, и наехал он ни распутие: посредине столб стоит, на столбе щит прибит, на щите надпись, как жар горит: «Поедешь вправо – будет конь сыт, а сам голоден; поедешь влево – будешь сам сыт, а конь голоден; поедешь прямо – будут оба сыты и оба биты!» Иван-царевич призадумался: самому поститься – с силой проститься, на тощем коне я горе-богатырь – ни биться, ни драться, ни ратиться; поотведаем счастья на третьем пути: поглядим, кто побьет меня сытого, на свежем коне, при булатном копье?
Старинная народная сказка
Наши путники под завесою темноты счастливо пробрались довольно далеко внутрь Люцинского повета.
– Вот и сам Люцин, – сказал Зеленский князю Серебряному, и князь взглянул направо: денница занималась, ленивый туман волнами поднимался с зубчатых стен замка, стоящего на холме, – и тихо лежал городок у ног его. Еще ни одна дверь не чернела, ни с одной трубы не вился дымок, и окружный лес, понемногу рассветая, отрясал на путников холодную росу. Далее к Режице (старинному Розитену) виды становились еще живописнее. Холмистый край испещрен был озерками, над стеклом коих бродили махровые пары; и дикие рощи, и зыбкие тростники отражались в неподвижном их лоне. Порой только звучно прыгала из воды щука или ныряла дикая утка; струи разбегались кругами и снова сливались в зеркало.
Зеленский ехал впереди и удачно поворачивал то вправо, то влево на тропинки, иногда для сокращении дороги прямиком, иногда объезжая деревни околицами.
– Ты славно знаешь все закоулки, – сказал ему князь Серебряный, – я не ошибся, положась на слова твои заране.
– Как мне не знать этого края! Мы целый месяц стояли здесь с гетманом литовским Карлом Ходке ни чем, собирая силы на шведов, – да потом и разгромили их в прах, даром что их было втрое более. В то время я служил у пана Опалинского и не сходил с коня на полеванье. Зверям от нас было не лучше житье, как и людям, и я волей и неволей должен был узнать наизусть все заячьи стежки.
– Скажи, пожалуй, отчего мы не проехали ни одной деревеньки, которая бы походила на другую? В иных наши русские избы с узорными полотнами по кровле и высокими деревянными трубами в прорезе; в иных мазанки, с горшком для дымовья, в иных чухонские лачуги, у которых из каждой щели, как из жерла, чернеет копоть.
– Изволишь видеть, князь, край этот зовется теперь Польскими Инфантами и уступлен Польше немецкими рыцарями. От этого здесь есть и чудские переселенцы, и туземные латыши, и старинные литовцы, и настоящая польская шляхта, и беглые русские, которыми в особенности заселены пограничья. Да и между панами такой же сброд: кто немец, а кто литвин, кто барон, кто князь.
– Ну, а хорошо ли они знают остальную Польшу и другой конец Литвы? Украйну, Подолию?
– И все-то поляки, кроме своего округа, не знают, да и знать не хотят отчизны – а здешние медвежники всех менее. Варшавцы и краковяки смеются над ними; они презирают варшавцев и краковцев вместе и доказывают, что предки их были уже дворянами, когда в Польше жили одни лягушки.
– Тем лучше, тем лучше. Стало быть, нам без страха можно будет рассказывать сказки. Помни же, пан Зеленский, что я литовский дворянин Яромир Маевский, а ты шляхтич Стребала; что мы раненые взяты были в плен в Кремле и теперь, вымененные, возвращаемся домой через северную Русь, по приказу государеву, чтобы не столпить пленных на военной дороге к Смоленску. Говоря по-польски, как поляк, и зная почти всех бывших при дворе Димитрия, и в войсках коронных, и в полках Тушинского вора, я надеюсь порядочно подделаться к польскому ладу. Про тебя и говорить нечего: ты родовитый добродзей, а впрочем, всему делу авось.
– Все это хорошо, сударь князь, если не случится там никого из бывалых под Москвою; а как, на грех, какой озорник нас узнает? Не миновать тогда воздушного путешествия – у них суд короток.
– Что ж делать, пан Зеленский, отвага ест медок, а робость – ледок. Волков бояться, так и ягод в глаза не увидишь. Смекай, что я наскажу тебе: мне надобно выкрасть от Колонтая русскую пленницу – так ты хорошенько разузнай, где она спит, когда гуляет. Перещупай все затворы, пронюхай все лазеечки и держи ухо востро и коней в подпругах.
В это время они встретились с бедным крестьянином, который на низкой некованой тележке ехал за сеном и, завидя всадников, опрометью своротил с дороги и опрокинул в овраг свою повозку, – но вместо того чтоб поднимать ее, он только боязливо кланялся проезжим. На истощенном лице его написана была жалкая простота. Белый изношенный балахон прикрывал тело.
– Далеко ли до Самполья? – спросил князь.
– Близко, паночек, – ответил тот по-русски.
– Это значит, дай Бог поспеть туда к обеду, – заметил Зеленский, – здешнее «близко» длиннее коломенской версты.
– Однако ж как близко, добрый человек? – повторил князь.
– В старину было пять миль, паночек, да панья смиловалась: велела только трем быть.
– Добрая же у вас панья.
– И храни Бог, какая добрая: сама нам сказывает, что за нас в церкви молится; да пан эконом нас обманывает: последнюю корку и курку отнимает, а в год кожи две, три обновит – а все говорит: «Панья велела».
– Ну, брат Зеленский, это, видно, по-нашему: у ханжей и на Руси одним кошкам масленица.
– Какое сравнение, князь, житью русского мужичка с польским – тот не продается наряду с баранами, и, дождавшись Юрьева дня, – поклон да и вон от злого боярина. А здесь холопа и человеком не считают; его же грабят да его же и в грязь топчут. Я знаю одного пана, который отдает выкармливать своих щенков кормилицам, отымая у них грудных младенцев.
– Это клевета, – сказал Серебряный, содрогнувшись.
– Дай Бог, чтобы это была клевета. Что греха таить, князь, я вырос на отнятом хлебе, я привык с малолетства гулять на счет крестьянина и в чужбине и на родине; совесть у меня не из застенчивых, а, право, сердце поворачивается, когда посмотришь, бывало, что делают паны со своими холопами.
Князь долго ехал в молчании… время летело.
– Мы уж близко к замку пана Колонтая, – сказал наконец Зеленский. – Не худо бы нам пооправиться у этой речки. Везде по платью встречают, а по уму провожают.
– И в самом деле так, – отвечал князь, слезая, – дай-ка мне зеленый польский контуш да и сам нарядись побогаче – и будь если не умнее, то скромнее, чтобы заслужить хорошие проводы. Я прошу тебя для этого только мочить усы в чарке.
– Нет, князь, коли пить, так пить – а то незачем и нюхать. У меня губа словно грецкая губка, – чуть окунешь ее в вино, донышко и проглядывает, а голова хоть выжми.
– Делай как знаешь, пан Зеленский, но честью уверяю тебя, что если ты сам-друг проболтаешься, я из тебя сделаю окрошку.
– Князь будет доволен мною. У меня шкурка хоть не черного соболя – однако ж для меня очень дорога.
И между тем он пособлял князю убираться. Зеленая бархатная шапочка, опушенная горностаем, покрыла темно-русые кудри князя. Такого же цвета и с такою же окладкою венгерка с серебряными жгутами обнимала стан. За золотым поясом заткнут был турецкий кинжал, осыпанный жемчугом и цветными каменьями. Довольно узкие атласные порты скрывались в желтых сафьяновых сапогах – отличительный знак дворянства во всех землях славянских. Наконец князь перебросил на шею эмалевую цепь, на которой висели серебряные часы луковицею, выглядывающие из-под кушака. Кривая сабля довершала наряд князя Серебряного.
– Хорош ли? – спросил он, улыбаясь с самодовольным видом и глядясь через плечо в речке.
– Молодец! – отвечал стремянный, охорашиваясь сам в новом контуше. – И я теперь, как змея в новой шкуре, – красив и хитер. Давно, князь, не носили мы польского наряда, а по правде сказать, его стоит только надеть – так у всех паненок уже головы кружатся!
– Побереги свою, пан Зеленский. Однако солнце всходит на полдень… пора! – Он завернулся в широкий охабень, подбитый куницами, вскочил в седло, и оба поскакали к замку Колонтая.
Станислав Колонтай, старик лет за шестьдесят, тучный, подагрический и, как водится при богатстве и недуге, – весьма причудливый и своенравный, сидел под широким навесом на крыльце своего неуклюжего палаццо. Все сказанные достоинства выражались на желтом его лице, и длинные седые усы, которыми он подергивал беспрестанно, придавали еще более кислоты его физиономии. На нем надета была, как на китайском мандарине, желтая однорядка со множеством пуговиц, подпоясанная очень низко, ровно по обычаю польскому и для того, чтобы поддерживать двухъярусный его живот. Ноги, обутые в плисовые сапоги, покоились на подушке.
В стороне сидела жена его во французском круглом платье – старушка почтенная, но жеманная; далее несколько соседок, сын их Лев, статный мужчина с выразительным лицом, и паны гости, в которых ни один порядочный дом в Польше не имеет недостатка и в Страстную неделю. Паненки – существа, похожие на наших воспитанниц, покоевцы – род пажей, пахолики – род слуг и вся шляхетская молодежь, составлявшая застольную дворню, стояли или ходили сзади, шутили между собою, болтали любезности девушкам и, как водится, подтрунивали над своим патроном.
Младший конюший объезжал по двору пылкого жеребца, и пан Колонтай, держа в руке бич, изволил повременно им похлопывать, заставляя четвероногого новичка делать прыжки и дыбки. Дамы были заняты своим разговором.
– Добрже, пан Машталярж, досконале! еще задай ему штрапацию: острожки в боки и хлыстом по крестцу, чтобы при осадке хвост на землю ложился… На одном шипу поворачивай, вот так, – да не балуй коня, когда он балует! теперь играй поводами, чтоб оскал не онемел…
– Добрый конь, – сказал хорунжий Солтык, взглянув на него, и снова обратился к даме, которой он что-то нашептывал.
– Настоящая арабская кровь, – примолвил один из подлипал хозяина, – орел, а не конь!
– Пряничный петух, – возразил с презрением хозяин. – Если на тебе выжечь тавро, пан Цаплинский, так ты столько же будешь араб, как этот жеребчик! Не то бы вы запели, господа, если б вам удалось видеть моего рыжего в масле коня, чистой персидской породы, которого добыл я, когда мы с Замойским разбили турок. Змеем подо мной совьется и ветром по полю носится, копытом из милости на мураву ступает. Только стало бы уменья сидеть на нем, а то уж любо поскачет.
– Пан Станислав слыл удалым наездником, – приветливо молвил режицкий судья Войдзевич.
– Да, честь имею доложить, мы за Батория позвенели на свой пай палашами, и в те поры у нас молодцами хоть мост мости, а Колонтай между ними был не последний. Бывало, как выеду гарцевать в деле – так други и недруги пальцами указывают. Ныне другие времена: новопольская молодежь лучше любит ласкать дамские ножки, чем сабельные ручки.
– Мы слыхали, что и пан Станислав в молодую пору был присяжным угодником и любимцем красавиц, – сказал Войдзевич.
– Добрже, добрже, пан Сендзья, что было, то было; только мы в старину не забывали славы для волокитства и не вековали в женских уборных. А вы чересчур изневестились, панове!
– Мне кажется, – возразил Лев Колонтай, – что батюшка напрасно обвиняет нас в изнеженности. Уважение к дамам не тушит, а раздувает в нас пламя славолюбия, и недавние победы над русскими доказали, что мы достойны своих предков.
Пан Колонтай принадлежал к общему разряду стариков, для которых все настоящее дурно и все минувшее прекрасно, потому что тогда они были молоды и могли блистать. Желчь в нем разыгралась еще более от противоречия сына, которого он называл Лёвинькой, хотя тому минуло уже двадцать восемь лет: дети в отцовских глазах вечные недоросли.
– Победы? – вскричал он насмешливо, – нечего сказать, славно побеждали твои товарищи под Троицким монастырем и в Москве. И поделом, не вступайтесь за всякого бродягу. Панна Марина повела вас за хвостом своим, а за Жигмунтовы усы выпроводили молодцев.
– Дело доказывает лучше споров, батюшка. Наши вывезли из Москвы до тысячи возов драгоценностей.
– Так слава коням. Кто идет вперед, тому нужны брони, а не кони!
– Беглецы не приводят в торжестве пленных царей за собою!
– Полякам должно краснеть таких торжеств. С бою ли, честью ли взяли Василия? Нет: из монастыря и обманом, да и давай показывать варшавским зевакам за царя человека, их же происками постриженного в монахи; давай прозой и стихами величать себя победителями, потирая бока. Вот весь ваш хваленый поход на Москву!
– Конечно, он стоит похода Батория на Псков, – сказал раздосадованный сын.
Старик закипел.
– Конечно, да там победили нас вьюги, а не люди, зато мы и не хвастались успехом. У кого довольно серебра, тот не натирает ртутью шелегов. Там потерял я лучшего друга и лучшего коня, и с тех пор я поклялся вечною ненавистью к русским, и пусть черт из костей моих выточит игральные кости, если хоть один русский, попавшись ко мне в руки, вырвется из них живой, и мне всего досаднее, когда вы бьете их только словами!
– А взятие Смоленска? – заметил Войдзевич.
В эту минуту князь Серебряный показался в просеке, в сопровождении своего стремянного. Общее движение любопытства очень кстати прервало порыв раздражительности старого Колонтая, и он сам, отенив глаза рукою, принялся рассматривать, кто едет.
– Это Иозеф Бржестовский… – сказала одна панна, – то-то он навезет нам новостей и гостинцев; он так мило умеет рассказывать дворские анекдоты и так верно описывает моды, что по его словам можно кроить, как по мерке.
– Разве Михал Тимон, – возразила другая, – вот нам и первая пара в мазурку; это он – я очень хорошо знаю его осанку.
– Сердце – приметливый живописец, – лукаво заметил Войдзевич.
– Только пан судья плохой судья сердец, – отвечала красавица.
– Это ни тот, ни другой, – молвила третья, – это Вацлав Шадурский, – не худо, чтобы пан хорунжий прочел нам отходную, потому что он уморит со смеху, представляя короля и любимцев его Потоцких, когда они варят золотой суп.
– Панна Ружа может до случая спрятать наперсток, – сказал Лев Колонтай, – панну Сидалию приглашаю выбрать себе другого кавалера для мазурки, и панна Марила отложит до другого времени свою исповедь, как ни досадно это ее черноусому духовнику, – это какой-то незнакомец, милостивые государыни, – но во всяком случае новый поклонник ваших прелестей. Не так ли, пани Элеонора?
– Если он так же любезен, как статен, – отвечала пани Ласская, нежно прищуривая очи на Колонтая.
– О, конечно, пани Элеонора, наружность так обманчива, и глазам опасно доверяться.
– Очи – зеркало души, – говорят стихотворцы.
– Но и самая душа бывает зеркалом, которое все отражает и ничего не хранит.
– Мы знаем, откуда ветер навевает пану Льву нападки на нас. Ваша скромная русская красавица…
Приезд Зеленского прервал все разговоры; он очень ловко и твердо повторил заученную просьбу со всеми околичностями.
– Просим пожаловать, – ласково отвечал старик Колонтай, – моего порога искони не миновали проезжие, и я тем больше рад гостю, что он земляк и шляхтич. Проси пана Маевского не только на час – на месяц; дом мой к его услугам.







