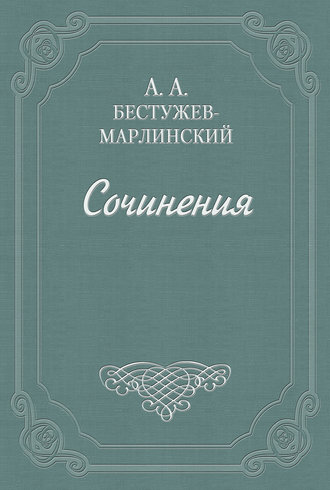
Александр Бестужев-Марлинский
Наезды
Глава V
За слово, за надменный взгляд
Рубиться он готов и рад;
О прежней дружбе нет поминок —
И вот на званый поединок
Сошлись: товарищи кругом,
Поклоны – и мечи крестом.
– На два слова, пан Маевский, – сказал на ухо князю хорунжий Солтык и дал ему знак за собою следовать.
Когда оба они вышли на крыльцо, Солтык взял его под руку и быстрыми шагами почти повлек изумленного гостя в сад. В безмолвии пробегали они длинные дорожки, осененные дедовскими липами и кленами, на которых несколько поколений ворон невозмутимо пользовались тенью и приютом. Когда они были уже в таком отдалении, что не могли быть видимы из замка, хорунжий остановился.
– Прошу извинить, – сказал он князю, который с нетерпением ожидал объяснения. – Я беспокою пана из безделицы, но она необходима. Вот в чем дело: я давно уж грызу зубы на Войдзевича за то, что он отсудил при разделе имения моего дяди лучшую долю дальнему родственнику и, что хуже всего, отбивает у меня ласки пани Ласской. Сегодня за обедом дошло до расчету – и теперь мне надобен товарищ. Надеюсь, что, как родовитый шляхтич и храбрый воин, пан Маевский удостоит променять за меня пару-другую сабельных ударов. Я бы мог просить Колонтая, да совестно отрывать его от коханки, а кроме него нас только двое здесь из коронной службы; итак, могу ли?..
– Я готов охотно служить рукой и волей пану хорунжему и очень благодарен за доверенность, – отвечал князь, который воображал услышать гораздо грознейшие вести. – Не нужно ли пригласить сюда пана судью?
– О нет, напрасная забота, пан Маевский, мои речи заставили его эту обязанность взять на себя. Он сейчас будет сам и с товарищем, и у меня страх чешется рука напечатать на лбу этого ходячего литовского артикула имя свое красными буквами. Да вот они.
Противники приближались. Войдзевич выбрал товарищем толстяка Зембину, и все, свернув с дорожки вправо, пошли чащею. Впереди двое врагов по чувствам, сзади двое по случаю.
– Очень рад утвердить новое знакомство дракою, – сказал Зембина, подавая князю руку, – но, между нами будь сказано, – прибавил он тише, – из-за чего нам рубить друг друга без милосердия? Пан в первый раз видит Солтыка, а я не заплакал бы по Войдзевичу, увидясь и в последний. Впрочем, так как у нас никто не отказывается ни от обеда, ни от поединка, обычай непременно требует от нас бою и крови, пусть так, – по крайней мере, от нас зависит порасчетливее отвешивать удары, чтобы рана не помешала аппетиту, потеря которого, признаться сказать, мне важнее всех судей на свете.
Откровенность Зембины очень понравилась князю.
– От души согласен на предложение, – отвечал он смеючись, – я не имею против пана Зембины никакой личности и очень рад хоть каплей ума смягчить безрассудный обычай.
Небольшая тенистая поляна, заслоненная густыми деревьями, была, как нарочно, устроена для свиданий любви и чести или, по крайней мере, для того, что величают этими громкими именами. Товарищи указали противникам место и рядом с ними сами обнажили сабли. По слову: «раз, два, три!» – каждый из них, топнув ногою, ступил шаг вперед, и, сделав поклон шапками и оружием, скрестили сабли. На них можно было любоваться: гордо, ловко стали они в позицию, заложа левые руки за спину и стройной стопой поражая землю, чтобы обмануть неприятеля, и между тем не сводя очей друг с друга и чуть зыбля рукоятками, готовя неожиданный удар. И вот, как луч, сверкнул он – но везде клинок встречает клинок, всё злая усмешка не слетает с обоих лиц, всё звуки нетерпения вырываются сквозь зубы, стиснутые гневом.
– Начнем, – сказал Зембина, закидывая за плечи рукава контуша. Сделав несколько выпадов, брякнув несколько раз саблями, случаем или умыслом, – только клинок Серебряного скользнул по сабле Зембины и рассек ему немного руку ниже локтя.
– Consomato est! (совершилось!) – произнес он с комическою важностию. – Много одолжен, пан Маевский: злот, который бы мне заплатить за кровопускание, теперь в кармане. Пускай платок пропитается, – прибавил он князю, который заботливо перевязывал его рану, – это завидный цветок для нашего брата героя, – я уверен, что к нему слетятся все наши паненки, как бабочки.
Как ни хвалился хорунжий удальством, но судья был если не искуснее, то гораздо хладнокровнее его в шпажном деле и так умел раздражить противника, что он забыл закрываться, думая только о нападении. Выманив неосторожный удар, судья одним движением руки отразил его и рубнул в открытое плечо Солтыка: сабля раненого выпала из обессилевшей руки; он зашатался.
– Упадаю к ногам панским, – сказал Войдзевич, раскланиваясь с самодовольной улыбкою.
– Лежу у ваших, – отвечал насмешливо Солтык, у которого никакое положение не могло отнять ни веселости, ни охоты играть словами, как опасностями.
– Однако моя сабля так иззубрена, – примолвил судья, – что в следующий раз мне придется пилить своего противника. Благодарю за честь, господа.
Войдзевич удалился, хладнокровно крутя усы и напевая:
Польша богата всяким добром,
Польша славна и мечом, и пером!
– Несносный хвастун! – сказал Солтык, кряхтя от перевязки.
– В этот раз ему есть чем хвалиться, проуча такого лихого рубаку, каков Солтык, – возразил Зембина. – Не только он сам, да и клинок его вырастет теперь двумя вершками.
– Не его уменье, а моя ошибка тому виною.
– Да что ж такое уменье, когда не мастерство пользоваться чужими ошибками? Как ни говори, а придется пану хорунжему сидеть в углу, не танцуя даже польского, целую неделю.
– Да и ты, кажется, с обновкой, пан Зембина?
– Безделица, сущая безделица, не больше крови, как на подписку имени, когда я вздумаю заложить душу свою за бочку венгерского.
Хорунжий, встретя своих людей, отблагодарил товарищей за участие и отправился, поддерживаем ими, в свою комнату для леченья и покоя.
Князь Серебряный был очень рад, что его на время оставили с самим собою: его утомило множество нежданных чувств и происшествий в течение одного дня. Сомнение, безнадежность, ревность и надежда попеременно волновали его душу – но, видя опасность, висящую над головою, он будто потерял волю избежать ее удалением. Так в страшном сне мы видим порой, будто лютый зверь гонится за нами, – и не можем оторвать ног от земли; будто незримая сила влечет нас к пропасти, сердце замирает – и нет сил остановиться!
Не зная куда и зачем, шел Серебряный по берегу небольшого озера, к которому примыкал сад. Едва протоптанная стезя завела его на длинный мыс, далеко впадающий в озеро. Плакучие березы клонили зыбкие своды до самых корней своих, и лучи солнца, просеваясь через сеть зелени, рассыпались блестками по влаге. Мирно лежало озеро в берегах своих – посреди его недвижно плыл лебедь, будто созерцая небосклон, отраженный водами, – подобие чистой души над безмятежным морем дум, в коих светлеет далекое небо истины.
В каком бы состоянии ни был человек, в какой бы век он ни жил, но больше или менее, только всегда природа имеет на него влияние или посредством тела на дух или чрез ум на чувства. Нахмурен, стиснув руки на груди, глядел князь на природу окрестную, и тишина и светлость ее понемногу проникали до его сердца: оно, как ночной цветок, развернулось росе утешения, но утешения, смешанного с горечью. Никогда сильней не чувствуешь одиночества, как взирая на прелесть творения; так бы хотелось, прижав к груди милую, сказать: «Посмотри, как это прекрасно!» – или, склонясь на плечо ее, безмолвно любоваться ее наслаждением! Но когда нет раздела – то чувство, которое могло бы стать счастием, превращается в глубокую грусть.
«Где ты, милая?» – думал князь Серебряный со вздохом… Он поднял очи, и что ж? В десяти шагах от него, под мрачною елью, на дерновой скамье сидела Варвара. В глубокой думе была красавица; в отуманенных печалью глазах ее сверкали слезы: она походила на лилию, спрыснутую вешней росою. Сомнение, досада, грусть – все исчезло для князя; тонкое пламя проникло его существо – он видел только ее, только она существовала для него в целом мире…
– Варинька! милая Варинька! – вскричал он.
Она вздрогнула, вскочила – несколько мгновений стояла в нерешимости изумления – и с радостным восклицанием: «Ты ль это, князь Степан?» – рыдая, упала к нему на грудь.
Серебряному казалось, что все это происходило во сне. Милую ли прижимал он к сердцу, которую считал для себя погибшею? Ему ли растворились вновь двери надежды и радости? Варвара пришла в себя, вырвалась из объятий юноши, но чело ее не пылало румянцем – на нем сияло одно безмятежное удовольствие. Она села рядом с князем и долго, долго смотрела на него.
– Князь, – произнесла она, – я встретила тебя не только как одноземца, но как родственника, как брата! Вот уже более двух лет, как я похищена из отчизны, лишилась матери, забыта родными, не видя русского лица, не слыша голоса родимого. Князь Степан, я одного тебя знала хорошо в Москве – ты любил водить речь с неопытною девушкою – и я часто вспоминала тебя на чужбине; но если б и чужой, и вовсе незнакомый, только русский повстречался мне, я бы рада была ему, как родному. Я с первого взгляда узнала тебя – но, видя эту одежду, слыша ложное имя, я страшилась малейшим движением изменить одноземцу; но когда ты запел русскую песню, – примолвила Варвара с умилением, – сердце во мне закатилось – я убежала поплакать сюда по своей девической воле, по родине Святой Руси! Мое младенчество, мои прежние радости и печали, все, все обновилось в памяти – но когда ты назвал меня семейным именем, мне казалось, что голос матери зовет меня, что я опять дома и в отечестве.
– Я пришел с тем, чтоб возвратить тебе отечество, – сказал до слез тронутый князь.
– Сладок русской душе голос и разум речей твоих – они обещают свободу, – но, ради Бога, будь осторожнее, скрытнее: Лев Колонтай подозрителен – он силен и грозен!
– Хотя бы он и в самом деле был лев, я и тогда похитил бы тебя из когтей его. Но теперь время не слов, а дела: решилась ли бежать отсель этой ночью?
– В эту ночь весь дом будет на ногах, готовятся к завтрашнему дню рождения хозяйки… отложим все до завтра – замешательство и хмель праздничный лучше скроют приготовления к побегу.
– Варвара Михайловна, располагай мною, как Бог внушил тебе, но мне кажется, что замедленье умножит опасности, хотя и удалит некоторые препятствия. Назначенный стрелецким головою в Опочку, я считал тебя пленницею Жеготы и прошлой ночью сделал набег на село панцерных дворян, разграбил его – и, обманутый в своей надежде, решился добраться сюда, чтобы хоть головою своей выручить тебя из плену.
– Ты сделал набег! О князь, князь, у меня нет слов выразить благодарность – и страх за тебя… Колонтай ненавидит русских, Польша в войне с Москвою – и ты, наездник, здесь, посреди врагов – о беги, беги, покуда есть время…
– Мне бежать? Мне покинуть тебя? Скорее дом Колонтая двинется ко Пскову, чем я один отсюда. Для того ли я нашел тебя, чтобы потерять вдвойне?
– Но тебя могут узнать, открыть, прежде чем мы найдем случай к общему бегству… ты, не спасши меня, прибавишь мне раскаяние к печали, что я была виной твоей гибели, – удались, оставь меня моей горькой участи!
Сомнения князя обновились.
– Варвара Михайловна! – сказал он мрачно, – я не понимаю тебя. Одно средство представит тебе увидеть родину – это моя помощь; и ты хочешь удалить ее?
– Я не хочу быть на воле ценою крови твоей.
– Скажи лучше, тебе мило пленничество.
– Князь, князь! ты бы не произнес этого, если б знал, каково птичке и в золотой клетке и как много песку в хлебе чужеземца! Бог видит, превратилось ли во мне сердце русское!
– Варвара Михайловна! позволь мне один вопрос: любишь ли ты Льва Колонтая?
Варвара потупила очи – и молчала; но румянец, проступивший даже на высокой шее, доказывал, что кровь ее волновалась.
Князь Серебряный повторил вопрос свой.
– Он стоит любви, – отвечала она твердо и спокойно, – только его великодушию обязана я минутами покоя и радости в враждебной земле этой.
Страшно пылало лицо князя.
– Прямо и беззаветно прошу сказать: любишь ли ты Льва Колонтая? – произнес он.
– В эти минуты говорить о любви, князь… – отвечала Варвара, слыша, что многие голоса призывали ее по саду, – если не удастся поговорить о деле сегодня – то завтра ты узнаешь все: и мое решенье, и мое сердце… Да покроет тебя ангел-хранитель для моего спасения!
Она мелькнула как тень и скрылась от изумленных взоров князя Степана.
Он не знал, что и думать о загадочных словах Варвары, – то они казались ему выражением девической робости и стыдливости, то признанием в склонности к сопернику. Самолюбие стояло за первое, ревность утверждала второе. Во всяком случае он был влюбленнее, чем когда-нибудь, и Варвара казалась ему тем прелестнее; но как ни старался он приблизиться к ней наедине – искания его оставались безуспешны. В весь вечер он только среди толпы других гостей мог говорить с нею, и лишь изредка украдкою брошенный взор участия награждал его за скуку казаться веселым.
Когда после ужина в отведенной ему комнате он увиделся с Зеленским, опасения его умножены были рассказом сего последнего, что в корчме, куда приглашал он новых своих знакомцев, покоевцев Колонтая, встретился он с каким-то забиякою шляхтичем, который дерзнул утверждать, что в Остроге, в городе, названном отчизною князя, никогда не бывало Маевских. Правду сказать, что он был очень пьян – и слова его мало давали веры, но он может протрезвиться и распустить такие вести далее. Кроме того, пан Зеленский заметил, что Колонтай говорил что-то на ухо своему конюшему и тот не спускал глаз с князя; что несколько человек бродили всегда кругом его, когда он прогуливался в саду; наконец, опасливый стремянный дал заметить боярину, что узкое окно его спальни было с решеткою, а дверь дубовая с пробоями.
– Итак, ты думаешь, что мы открыты? – сказал князь, улыбаясь.
– По крайней мере, подозреваемы, – отвечал стремянный. – Я задам коням овса, – примолвил он будто мимоходом.
– Пусть едят на здоровье: в эту ночь мы не потревожим их, я чуть держусь на ногах от бессонницы, и тот, кто нарушит покой мой, – дорого заплатит за дерзость.
Говоря это, он поместил свои пистолеты на стуле, положил обнаженную саблю под подушку и, только сняв верхнее платье, кинулся в постель. Зеленский был осторожнее: он притащил к дверям длинный стол и растянулся на нем в плаще своем, чтобы при малейшем стуке быть готову на отражение. Со всем тем страх долго мешал ему закрыть глаза, и князь Серебряный давно уже спал крепким сном, когда оруженосец его ворочался еще с боку на бок.
Глава VI
Их вера – в колокольном звоне,
Их образованность – в поклоне.
С польского
Ненастно было утро, и утомленный князь проспал бы долее обыкновенного под однозвучный ропот дождя, если б Зеленский не разбудил его извещением, что пора идти к завтраку, напоминая притом, чтобы он приготовил приветствие хозяйке на день ее рождения. Князь встрепенулся, освежил себя водою, расчесал кудри на буйной головушке, нарядился молодцем и по пословице «утро вечера мудренее» гораздо покойнее рассуждал о том, что случилось, и смелее пошел навстречу тому, что могло случиться. Все гости собрались уже поздравить пани Колонтаеву и шумели вокруг нее, как пчелы около запертого улья. В широких фижмах, в высоком кружевном чепце она жеманно поворачивалась на деревянных каблучках, отвечая на все желания и приветствия, которые имеют удивительное свойство никогда не изнашиваться и приходиться ко всякому лицу. Отдав пошлину хозяйке и раскланиваясь дамам, князь заметил, что на лице Варвары разлита была какая-то бледная томность, и она отвечала на взор столь нежно-укорительным взором, что он тысячу раз укорил себя за вчерашнюю подозрительность.
Старик Колонтай любил шутить и любил, чтобы смеялись, когда он намеревался смешить. Разумеется, зная его слабость, догадливые хохотали прежде, нежели он успевал отворить рот.
– Поздравляю дам с ненастною погодою, – сказал он, – грибы в лесу и лестные приветы в гостиных от дождя высыпаются; теперь молодежь прильнет к вам как тень на целый день!
– И не мудрено, – возразил Солтык, – прекрасный пол наше солнце.
– Много чести, – сказала пани Ласская, – и еще больше заботы; довольно с нас быть скромными цветами, которых живит и красит солнце, нежели самым солнцем, на которое ропщут нередко и за то даже, что от него загорают.
– Я бы готов стать арабом, лишь бы приблизиться к пылкому светилу, – сказал Войдзевич, поглядывая на даму, подле которой сидел он. Ласковая улыбка была ответом на приветствие.
– Для мотылька довольно и свечи, чтоб ожечься, – возразила пани Ласская, лукаво посматривая на эту чету и желая, что называется, одним камнем убить двух воробьев.
– О, конечно, для мотылька довольно и свечи, – воскликнул князь Серебряный, устремя пылкий взор на Варвару, – зато орел бесстрашно глядит на лучезарное светило.
– Берегите свои восковые крылышки, чтобы они не растаяли в чужом небе, – сказал Лев Колонтай сердито.
– Что значит «в чужом небе», пан Колонтай? – гордо спросил князь, – в любви и в воздухе нет границ.
– В любви, в любви?.. это дело другое, пан Маевский, я не знал, что вы зашли так далеко, – насмешливо возразил Лев.
– Полноте вам летать и трещать по ветру, как бумажные змеи, – сказал старик Колонтай, взявши за руки обоих противников. – Господа, прошу завтракать – натощак не споро и Богу молиться, а уже повозки у крыльца, чтоб ехать до костела.
Гораздо легче сказать, чего не было, нежели то, что было за старинным завтраком польским, – и потому, не желая растравлять охоты к еде в тех, которые еще не кушали, и не желая скучать тем, которые уже сыты, я умолчу о том. Вилки уже перестали звенеть по тарелкам, рюмки смирно стояли на столе и языки опять сменили зубы, – когда вбежал покоевец в комнату сказать на ухо старому Колонтаю, что пан Жегота просит позволения видеть его.
– Прах побери этого Жеготу, у него вовсе не праздничное лицо, – ворчал хозяин, – ну, что ж стал? Кликни его сюда. Ведь мне не встречать его на крыльце; верно, с поздравленьем подъехал, старая лиса.
Лев потихоньку заметил отцу, что Жегота не стоит чести быть принятым в хорошем обществе.
– Сам я терпеть не могу этого подорожного разбойника, да человек-то нужный. Он стережет мои деревни от русских наездов и порой посужается деньгами – хоть и за адские проценты. Да ведь мне не с ним детей крестить, плеснул ему рюмку водки, да и подалее от нас; теперь ведь не на сейм собираемся. Здорово, пан вахмистр, – сказал он входящему Жеготе. – Как живешь, можешь?
Жегота был старик высокого роста, широк плечом и зверовиден на лицо. Под орлиным носом подвешены были два огромных уса; серые очи сверкали из-под густых бровей – все черты и приемы выражали дерзость и жестокость, худо скрытые под униженными поклонами и лживыми словами. Изношенный синий кафтан его вовсе был создан не для посещений, но за поясом заткнут был пистолет, оправленный в серебро, и широкая сабля качалась на боку. Он с ног до головы обрызган был грязью. Чудная его фигура обратила на себя общее внимание.
– Ну, что скажешь, пан Сорвиголова? – спросил хозяин, когда тот обнял его колено.
– Я едва унес свою на плечах, ясновельможный, – отвечал смиренно Жегота. – Русские наехали на наше селение в позапрошлую ночь, разграбили, выжгли, угнали скот, перестреляли многих панцерников. Панская деревня Тримостье, что на дороге, – хоть шаром покати.
– Русские осмелились сделать наезд? разграбить мою деревню? Это неслыханная наглость, за это надо их проучить, за это надо втрое им выместить. Да что же ты делал сам, пан Жегота, чего глядели твои панцерники? Разве даром держит вас король на границе? Разве затем даны вам преимущества шляхетские, чтобы вы провозили запрещенные товары да шильничали по большим дорогам? Я уверен, что русские в погоню за тобой ворвались в наши границы, а твои удальцы – до старого леса, привыкши воевать больше с карманами, чем с ладунками!
– Прошу извинить, ясновельможный; я, правда, был на полеванье, только в другом краю, за Великою. В Опочку приехал новый стрелецкий голова, князь Серебряный, – и ему-то вздумалось показать свое молодечество. Я догнал их уже близ переправы, но после небольшой перестрелки ничего не мог отбить. Приезжаю домой – одни головни курятся, сундуки разбили, старший сын тяжело ранен. С обеда я поскакал сюда просить у пана защиты и помощи и вчерась бы вечером был здесь, да на дороге конь пал, и я верст пятнадцать тащился ночью пешком.
– Это срам, это позор имени польскому, я не стерплю этого!
– Не дай в обиду нас, бедняков, пан Колонтай; если спустит им магнат, так они будут у шляхты хозяйничать, как в своем кармане. Смилуйся, ясновельможный!
– Пусть меня убьет не бомба, а пивная бутылка, лопнувши, если я с русских не возьму за каждую баранью шкурку по коже. Я с ними разочтусь, разведаюсь!
Многие шляхтичи кричали: «На Русь, на Русь!»
– Я кровью смою след их с земли польской. Пан Жегота, назначаю пятьдесят рейтаров с моим ротмистром, чтобы вместе с панцерниками ударить под Опочку. Понимаешь?
– Где я пройду лисой, там со страху три года курицы не несутся, а где волком проскачу, там долго и трава не будет расти. Положись на меня, ясновельможный: будет где погреть руки и выкрасить контуши!
– То-то, Жегота, не положи охулки на руку. Сегодня ввечеру выступят мои, чтобы соединиться с твоими под Люценом, – последние приказы получишь с паном Горжельским.
– Лихо грянем! – сказал Жегота, потирая руки со злобною радостию, – не привести ли вельможному москаленка для потехи?
– Ни медвежонка; мне и русский дух надоел. На тебя уж давно грызутся судьи воеводы, Жегота; смотри – если успеешь за Великой – я тебе стена; а нет – так нет, и на глаза не кажись.
– Либо пан, либо пропал! – отвечал атаман, раскланиваясь.
– Впрочем, господа, – сказал, успокоясь, хозяин, – эта вздорная сделка не помешает нам ввечеру потанцевать, а теперь съездить в церковь. Молодежь – охотники – могут отправиться ночью и догнать отряд на дороге. Просим, просим.
Тяжелые кареты, линейки и брички потянулись к костелу через грязное местечко, полунаселенное жидами, дворней и немногими ремесленниками. Неопрятные домишки, казалось, кланялись прохожим или ожидали первого ветра, чтобы повалиться. Маленькие окошки, очень похожие на глаза с бельмами, заклеены были бумагою или тряпками. Почти нагие жиденята выползли дивиться на поезд, и оборванные жиды снимали не только шляпы, но даже ермолки свои, низменно кланяясь панству, которое не удостаивало их даже взором. У самой церкви колеса брички, в которой сидели князь и Солтык, совсем утонули в луже.
– Неужели здесь всегда столько воды? – спросил первый из них.
– Сохрани Бог, – отвечал Солтык. – Весной и осенью здесь гораздо менее воды, но зато втрое более грязи.
– Прекрасное утешение! И этот шинок противу самых дверей церковных – не очень благонравное сочетание: в нем уже звонят стаканами, прежде чем брякнуло кадило.
– Где Бог строит свой храм, там и лукавый ставит свою западню… Но как быть? Колонтаю жид платит за корчму, а добрые католики здесь греются, озябнув в церкви, или освежаются, когда в ней жарко.
– Недалек, только труден здесь переход из ада в рай.
– О, конечно; из этого чистилища не вытащат одни молитвы.
Колокольный звон встретил Колонтая, и высыпавший на паперть народ низко кланялся и раздавался врознь, когда он важно шел в средину. Казалось бы, у престола всевышнего человек должен был забыть или, по крайней мере, умерить гордость свою, – напротив, он выказывает ее в храме больше, чем где-нибудь, и выставляет себя, как на идолопоклонение. Кудрявые гербы, пышные балдахины, богатые подушки, неприступные перины отделяют и отличают его от собратий – он и тут не хочет казаться человеком. Бегущие впереди Колонтая пахолики с ковриком и молитвенником не очень учтиво толкали дробных шляхтичей, комиссаров и экономов и, наконец, простой народ и без всякого внимания наступали на крестьян и крестьянок, которые по католическому обычаю лежали на полу крестом, распростерши руки, не слыша в набожном углублении шуму приезда.
Сиповатые органы прогремели, и началась служба. По окончании обедни патер удостоил прихожан латинскою проповедью, которая, без сомнения, была превосходна, потому что ее никто не понял, не исключая, может быть, и самого проповедника. Большая часть дворянства, несмотря на изучение латинского языка, не больше понимала его, как турки арабский, и несколько десятков заученных пословиц, прибауток и судейских выражений заключали всю премудрость знаменитого шляхетства польского.
Все почтенные соседи, не успевшие приехать ранее, собрались в церковь и, как водится, приглашены были в замок. Званый обед продолжался чуть ли не до завтра, со всеми причудами того времени, и как ни привычен был князь Серебряный к долгим именинным обедам на родине, только этот показался ему длиннее ноябрьской ночи. Намерение Жеготы по долгу и по сердцу отзывало его в Опочку – он кипел нетерпением перемолвиться с Варварой не одними взорами и решился во что бы то ни стало увезти ее сквозь тысячу опасностей: Колонтай мрачно следил взорами малейшее движение обоих.
Уже давно встали из-за стола: дамы были милы, как обыкновенно, кавалеры любезны необыкновенно – веселость и любовь одушевляли всех. Наконец раздался народный польский танец, и все мужчины, заправляя распашные рукава за спину, опираясь левой рукой на саблю и по временам лаская сановитые усы, с гордой осанкою, но с покорным лицом пошли вокруг, каждый со своей дамою, улыбаясь на ее речи и лестно отвечая на них. Каждая выступка, всякий оборот отличался разнообразием движений, вместе ловких и воинственных. Князь Серебряный кинулся к Варваре – но рука Колонтая предупредила его: они несколько мгновений стояли, пожирая друг друга гневными взорами.
– Что это значит, пан Маевский? – надменно спросил Лев Колонтай, – мы на всяком шагу сталкиваемся!
– Это значит, что пан Колонтай заслоняет мне дорогу.
– Дорога широка, пан Маевский!
– Не шире моей сабли! – вскричал в запальчивости князь Серебряный.
Оба схватились за рукоятки.
– И, верно, не долее моего терпения. Пан Маевский, завтра мы померяемся клинками!
– Зачем же не теперь, не сейчас?
– Ради меня, ради Бога, оставьте вашу ссору! – вскричала по-русски бледная, трепетная Варвара, кидаясь между ими; но противники не переставали грозить друг другу.
– Пали! – раздалось из ближней комнаты; выстрел грянул, и перепуганные дамы разбежались во все стороны: жена старика Колонтая с криком упала на пол.
– Помогите ей, помогите! – шумели дамы; мужчины с изумлением толпились около… Лев Колонтай, побледнев, кинулся к матери.
– Безрассудный, – произнесла торопливо Варвара князю, – ты накликаешь себе опасностей – но я решилась… в десять часов ровно я буду в саду у старой башни.
Сказав это, она мелькнула в круг женщин, суетившихся около хозяйки.







