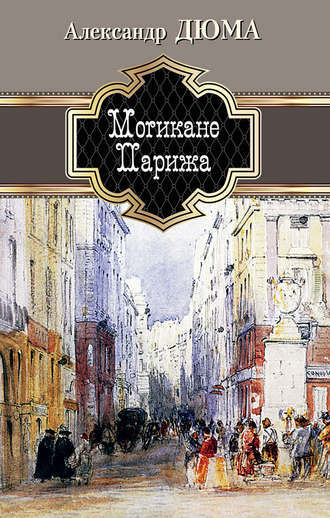
Александр Дюма
Могикане Парижа
III. Симфония роз и весны
Таков был молодой монах, появившийся на пороге комнаты умершей вдовы, возле которой усердно молился студент.
При виде этого странного зрелища он остановился.
– Друг, – проговорил он своим звучным голосом, которому умел при случае придавать какой-то удивительно мягкий и утешительный оттенок, – надеюсь, усопшая не мать и не сестра вам?
– Нет, – ответил Коломбо, – сестер у меня никогда не было, а мать умерла, когда мне было всего пятнадцать лет.
– Бог сохранил вас для опоры в старости вашего отца, Коломбо.
Монах подошел ближе и хотел опуститься на колени.
– Постойте, Доминик, – проговорил Коломбо, – я послал за вами, потому что…
– Потому что я был вам нужен, а я поэтому уже и пришел. Я к вашим услугам.
– Я послал за вами, друг, потому что женщина, труп которой вы видите, умерла от разрыва сердца. Жизнь она вела честную, соседи считали ее святой, но исповедаться и причаститься перед смертью она не успела.
– Судить о том, в каком настроении душевном она скончалась, может один только Бог, – возразил монах. – Будем молиться за нее!
Он подошел к Коломбо и встал рядом с ним на колени.
Коломбо, однако, пробыл с ним недолго. Возле боль ной была сиделка, возле умершей – священник, но ему самому предстояло позаботиться еще о многом.
Мимоходом он справился о том, как чувствует себя Кармелита. Оказалось, что доктор прописал ей какую-то микстуру с опиумом, и она уснула.
Коломбо захватил с собою все свои деньги до послед него сантима и устроил все дела с гробовщиками, с духовенством и кладбищенскими старостами.
Он вернулся домой только в семь часов вечера.
Доминик задумчиво сидел у изголовья умершей.
Ревностный служитель Божий ни на минуту не отходил от нее.
Коломбо уговорил его сходить пообедать. Казалось, что этот странный человек вовсе не подчинен потребностям, от которых так зависят другие люди. Он внял настоятельной просьбе Коломбо, но минут через десять возвратился и снова занял свое место.
Между тем Кармелита проснулась в усилившемся бреду. Но нет худа без добра – в бессознательном состоянии она не могла понять того, что предстояло.
Страдания физические переживаются гораздо легче страданий душевных.
Соседи приняли горячее участие в похоронах доброй вдовы. Гробовщик принес гроб и вместо того, чтобы заколотить его гвоздями, привернул крышку винтами, чтобы Кармелита даже в бреду не слышала зловещего стука.
Так как покойница скончалась скоропостижно, тело ее можно было отнести в церковь Св. Жака только на третий день после смерти.
Заупокойную обедню служил в малом притворе брат Доминик.
После этого тело отвезли на Западное кладбище.
За гробом шли Коломбо и двое ремесленников, которые решились пожертвовать своим дневным заработком, чтобы исполнить долг христианского человеколюбия.
Болезнь Кармелиты шла своим порядком. Доктор оказался знатоком своего дела и вел его чрезвычайно искусно. Через восемь дней больная пришла в себя, через десять была уже вне всякой опасности, а через пятнадцать встала с постели.
Узнав о смерти матери, она горько заплакала, и это спасло ее.
Сначала она была так слаба, что с трудом могла произнести слово.
Когда она в первый раз открыла глаза, то увидела возле своей постели благородное лицо Коломбо. Он же был и последним человеком, которого она видела перед потерей сознания. Она слабо кивнула головой в знак благодарности, приподняла свою исхудалую руку и протянула ее молодому человеку, а тот, вместо того, чтобы пожать ее, поцеловал с таким почтением, будто в его глазах страдание уравнивало бедную девушку с величественной королевой.
Выздоровление Кармелиты длилось целый месяц, и только в начале марта она была в силах перебраться в свою квартиру, так что и Коломбо вернулся к себе.
С этого дня близость, установившаяся между молодыми людьми, оборвалась. В памяти Коломбо сохранился образ красоты этой девушки. В сердце Кармелиты запало чувство беспредельной благодарности к своему молодому спасителю.
Но видеться они стали редко, – только как соседи по квартирам. При встречах они обменивались несколькими словами и снова расходились, никогда не заглядывая один к другому.
Наступил май. Садик, относившийся к квартире Коломбо, отделялся от садика Кармелиты только низеньким забором.
Таким образом, они бывали как бы в одном общем саду, и осыпавшиеся цветы в саду одного засыпали своими лепестками сад другого.
В один вечер Коломбо по просьбе Кармелиты раскрыл свой давно покинутый рояль, и в надвигающихся сумерках полились сладкие, ласкающие звуки. Они вырывались из окна, дрожали в пахучей зелени сада и вместе с ее ароматом влетали в окна Кармелиты.
Но на всем этом лежало чувство невыразимой грусти.
Кармелита была в таком настроении, когда измученное тоскою сердце как-то бессознательно просит сочувствия и ласки.
Ее внешность была способна расположить к ней каждого, а в молодом сердце юноши заронить и пылкую любовь.
Она была высока, стройна и гибка, а прекрасные темно-каштановые волосы ее были так густы, что казались даже жесткими, хотя на ощупь были мягче шелка.
Глаза у нее были точно сапфировые, губы пунцовые, зубы белые до синевы перламутрового отлива.
В один майский вечер Кармелита сидела у окна, глядя в сад и вдыхая душистый свежий воздух. Ее опьяняли и этот вид, и аромат.
Весь день было удушливо жарко; часа два или три шел дождь, а часов в семь, открывая окно, Кармелита была поражена тем, что те самые розы, которые она виде ла утром в бутонах, теперь совершенно распустились.
Сойдя в сад, она застала там и Коломбо и, подойдя к разделявшему их низенькому забору, попросила его объяснить ей это странное явление.
Сама она знала по ботанике очень немного, так как в те времена наука эта считалась для девушки совершенно излишней.
Коломбо, который уже не раз замечал этот пробел в ее познаниях, тотчас же подошел к забору и начал читать ей лекцию по физиологии растений, избегая тех научных и непонятных женщинам выражений, которыми почему-то загромоздили науку ученые.
Он говорил очень просто, ясно, увлекательно, переходя от простейшего к более сложному, сопровождая речь свою живыми примерами, начиная со стебелька, едва пробившегося из семени, и кончая одной из распустившихся и удививших ее роз.
Несколько раз он прислушивался к себе и хотел за кончить свою лекцию, чтобы не утомить девушку и не надоесть ей. Но если бы темнота и густая листва не мешали ему хорошо видеть лицо своей слушательницы, он заметил бы на нем выражение живейшего интереса.
Вдруг по небу пронеслась и упала звезда, и разговор незаметно перешел с земных цветов на небесные светила, на мифологические имена, которыми обозначило их человечество, на Грецию, Египет и Индию, на этих прародителей человеческой культуры.
О людях они не думали и не говорили, и оба ничуть не подозревали, что все эти цветы, волны, облака, звезды и ветры мало-помалу приведут их к той короткости в отношениях, с которой начинается платоническая любовь двух разумных существ.
Между тем увлечение, с которым говорил Коломбо, и то сосредоточенное внимание, с которым его слушала Кармелита, были именно зачатками этой любви.
Ей было семнадцать лет, ему двадцать два. Воздух был очищен грозой, и теперь они дышали живительной влажностью и ароматом, которые неотразимо действуют на каждое человеческое существо.
IV. Могила де ла Вальер
Итак, в этот вечер, пропитанный ароматом и жизнен ной силой весны, сердца девушки и юноши бессознательно открылись для любви.
Между тем на церковной башне пробило полночь. Оба, насчитав двенадцать звонких и четких ударов, не вольно удивленно и опасливо вскрикнули, обменялись мимолетными прощальными словами и разбежались как люди, сами себя заставшие за невольно совершенным преступлением.
Поднявшись до второго этажа, они остановились у открытого окна, залитого яркими лучами лунного света. Вдали четко рисовалась чья-то могила, обсаженная розами.
– Что это за могила? – спросила Кармелита, облокачиваясь на подоконник.
– Там похоронена де ла Вальер, – ответил Коломбо, становясь рядом с нею в тесной амбразуре лестничного окна.
– Каким же образом могила такой женщины очутилась здесь? – с истинно женским любопытством продол жала Кармелита.
– Все пространство, которое вы отсюда видите, – сказал Коломбо, – составляло прежде сад монастыря того ордена, поэтическое имя которого вы теперь носите. Старинные легенды повествуют, что посредине стояла церковь, построенная на развалинах храма Цереры. Кто и когда построил эту церковь, с точностью неизвестно. Есть, однако, предположение, что она была основана во времена короля Роберта Благочестивого. Достоверно же известно только то, что в десятом веке ее занимали в качестве приоратства монахи-бенедиктинцы из аббатства Мармутье под названием Нотр-Дам-де-Шан, а в 1604 году ее уступили монахиням-кармелиткам ордена Св. Терезы. Екатерина Ор леанская, герцогиня Лонгвильская, бывшая под влиянием нескольких духовных лиц, которые соблазняли ее титу лом основательницы, выпросила у короля через Марию Медичи все полномочия на основание этого учреждения. С согласия короля Генриха IV и благословения папы Клемента VIII из Авилы в Париж привезли шесть монахинь, бывших под непосредственным началом Св. Серафимоподобной Терезы. Эти шесть монахинь были первыми представительницами их ордена во Франции. Они поселились в монастыре, которого теперь не существует, молились, пели и умерли в церкви, от которой ныне не осталось ничего, кроме этой могилы.
– Ах, как это интересно! – вскричала Кармелита, не перестававшая удивляться естественнонаучным и историческим чудесам, которые весь вечер открывал ей молодой человек. – А известно, как звали этих монахинь?
– Я это знаю, – с улыбкой ответил бретонец. – Я ведь страстный охотник до легенд. Их звали: Анна де Жезю, Анна де Сен-Бартелеми. Изабелла де Анже, Беатриса де ла Коспенсион, Изабелла де Сен-Поль и Элеонора де Сен-Бернар. Герцогиня Лонгвильская сама выехала к ним навстречу и пожелала, чтобы их въезд в приоратство сопровождался торжеством.
Очень может быть, что, в сущности, все это вовсе не было так интересно, как воображали Кармелита и Коломбо. Однако они, если и кривили при этом душой, то единственно ради того, чтобы иметь благовидный пред лог остаться вместе. В подобных случаях все хорошо и оправданно, и религиозно-легендарный вопрос продолжал обсуждаться с прежним оживлением.
– Ах, как бы мне хотелось увидеть духовное торжество того времени! – вскричала Кармелита.
– Хорошо! – ответил Коломбо. – Оставайтесь на своем теперешнем месте, закройте глаза, слушайте меня и заставьте поработать свое воображение. Представьте себе, что влево от вас стоит темная, массивная громада монастыря с высокими стенами… Прямо, напротив нас, – церковь… Да вот подождите, – оборвал он сам себя и побежал наверх, в свою квартиру.
– Куда это вы? – спросила Кармелита.
– Сейчас принесу книгу, – крикнул он сверху.
Минуты через две он опять был возле нее с большой книгой в руках.
– Ну, теперь опять закройте глаза.
– Хорошо. Закрыла.
– Видите вы монастырь налево?
– Да, вижу.
– Ну, а церковь напротив себя?
– Да, и ее.
Коломбо открыл книгу.
Луна достигла своего зенита и светила так ярко, что молодой человек мог читать свободно, как днем:
«В среду 24-го августа 1605 года, в день святого Варфоломея, в Париже была устроена процессия сестер-кармелиток, которые в этот день вступали во владение своим домом. Народ следовал за ними огромной толпой. Они продвигались вперед в строгом порядке, а во главе их шел доктор Дюваль с жезлом в руке.
Но, по воле несчастия, это прекрасное священное шествие было нарушено звуками двух скрипок, которые начали наигрывать плясовую, что смутило весь народ, а кармелиток заставило быстро удалиться в их церковь, где они, очутившись в безопасности, стали петь Те Deum landamus…»
– Видели вы? – спросил Коломбо.
– Да, но только мне виделось не то, что я хотела видеть, – с улыбкой ответила Кармелита.
– Да ведь и с открытыми глазами часто видишь не то, что хочется, – сказал Коломбо, – а про закрытые и говорить нечего.
– Так вот в этот монастырь и поступила девица де ла Вальер?
– Да, и провела в нем тридцать шесть лет в постоянных религиозных подвигах, и скончалась 6-го июня 1710 года.
– Значит, и прах несчастной герцогини лежит вот в той могиле?
– Нельзя утверждать это наверное: есть риск впасть в заблуждение.
– Так ее выкопали?
– В 1790 году одним из декретов народного собрания монастырь этот был упразднен… Церковь разрушили… Кто знает, что случилось в это время с прахом бедной герцогини, которую Ле-Брен изобразил в виде Магдалины. Но так как вы, даже целое столетие спустя после ее смерти, все еще принимаете в ней такое горячее участие, то я скажу вам: есть поверье, что прах ее пощадили и что он все еще покоится в подземелье под этой часовней.
– А можно войти в это подземелье? – спросила Кармелита с нерешительностью любопытства, которое боится разочарования.
– Да, туда не только что ходят, но там даже и живут.
– Кто это решается на такое святотатство?
– Садовник, который вырастил все эти чудные розы, ароматом которых мы теперь дышим.
– Ах, как бы мне хотелось сходить в эту часовню.
– Это очень легко.
– Да как же это?
– Нужно только спросить позволения у садовника.
– А если он откажет?
– Если он откажет показать вам часовню, вы попросите его, чтобы он показал вам свои розы, а из любви к ним он покажет вам и часовню.
– Значит, все эти розы – его?
– Да.
– Куда же он девает такую массу цветов?
– Продает, – ответил Коломбо просто.
– О, злой человек! – с каким-то детским негодованием вскричала Кармелита. – Продавать такую прелесть! Я думала, что он выращивает их из религиозного чувства или хоть просто потому, что очень любит их.
– Нет, он ими торгует. Да вот если вы нагнетесь, то увидите на моем окне три куста, которые он мне продал на днях.
Девушка нагнулась, и ее прекрасные волосы коснулись лица Коломбо, отчего тот вздрогнул.
Она тоже почувствовала его дыхание, покраснела и выпрямилась.
– Ах, как мне хотелось бы иметь хоть одну розу с этой могилы, – неосторожно обронила она.
– Позвольте предложить вам одну из моих! – по спешно предложил Коломбо.
– О, нет, благодарю вас! – спохватилась Карме лита. – Мне хотелось бы самой выкопать свою розу из земли, на которой жила сестра Луиза Милосердная и в которой, может быть, и теперь еще хранится ее прах.
– Почему бы вам не пойти туда завтра же утром?
– Нет, одной неловко.
– Если позволите, я провожу вас.
Девушка призадумалась.
– Послушайте, мосье Коломбо, – заговорила она с заметным усилием, – я вам очень благодарна и очень вас уважаю, но если бы я вышла с вами под руку днем, все сплетницы нашего квартала пришли бы в ужас и волнение.
– Так пойдемте вечером.
– Да разве вечером можно?
– Почему бы и нет?
– Мне кажется, что садовник должен ложиться в одно время со своими цветами и вставать тоже вместе с ними.
– В котором часу он ложится, я не знаю, но встает он, наверно, раньше своих цветов.
– Почему вы так думаете?
– Иногда, когда мне ночью не спится, – Коломбо произнес эти слова с заметной дрожью в голосе, – я сажусь к окну и вижу, как он бродит по саду с фонарем в руках… Да вот и теперь… разве вы не видите, что между кустами роз быстро мелькает огонек?
– Зачем это он так бегает?
– Вероятно, гоняется за какой-нибудь кошкой.
– Да, но если он теперь уже встал, то ему, кажется, еще очень рано, а так как мы еще не ложились, то для нас теперь поздно, – заметила Кармелита улыбаясь.
– Поздно? – переспросил Коломбо.
– Разумеется! Который может быть теперь час?
– Часа два, – нерешительно произнес юноша.
– Ах. Господи! Я никогда не ложилась так поздно! – вскричала девушка. – Два часа! Прощайте, мосье Коломбо. Очень вам благодарна за ваши объяснения, а когда-нибудь вечером, когда все соседи улягутся, – прибавила она тише, – мы пойдем вместе выкапывать розы.
– Лучшей ночи, чем сегодняшняя, нам не дождаться, – возразил Коломбо, силясь не дрожать всем телом.
– О да, если бы я не боялась, что меня увидят, я пошла бы сейчас же! – откровенно призналась девушка.
– Да кто же может теперь вас увидеть?
– Да прежде всех – консьержка.
– О ней не беспокойтесь. Я могу отпереть дверь и без нее.
– Неужели у вас есть отмычка?
– Нет! Я заказал себе ключ, потому что засиживаюсь иногда в кабинете для чтения далеко за полночь, а так как консьержка наша – женщина болезненная, то мне было совестно часто будить ее.
– Хорошо. В таком случае пойдемте туда сейчас же. Мне кажется, что если я теперь лягу, то все равно не засну.
О, юная Кармелита, одна ли роза влекла тебя к этой прогулке?..
Она сбегала домой, надела шляпку, набросила на плечи косынку, и они тихонько спустились с лестницы.
Перейдя улицу Св. Жака и Валь-де-Грас, они очутились на улице Анфер перед большими решетчатыми воротами, запирающими вход в бывший сад кармелиток.
Коломбо позвонил.
Звонок в такие часы был для садовника делом небывалым, и он отпер не сразу.
Однако на второй звонок он подошел, поднял свой фонарь до уровня лиц своих ночных посетителей и тотчас же узнал молодого человека, которого часто видел в окнах его квартиры и слышал, как он там поет и играет.
Садовник отпер калитку и впустил в свой рай современного Адама с его Евой.
Роскошный сад, видневшийся из окон Коломбо и Кармелиты, был не что иное, как огромный питомник роз, среди которых другие цветы не допускались.
Кармелита шла под руку с Коломбо и слушала перечень всевозможных видов роз, которые с самолюбивым удовольствием сообщал им шедший впереди садовник. Наконец, они подошли к капелле сестры Луизы Милосердной.
Кармелита нерешительно остановилась. Коломбо уговорил ее войти, она было послушалась, но тотчас же с испугом вышла.
Вид стен, увешанных вместо росписей или картин лопатами, вилами, косами, кирками, граблями и колоссальными ножницами, произвел на нее чрезвычайно тяжелое впечатление.
Ей захотелось опять на чистый воздух, под лазорево-серебристое сияние луны, и она попросила лучше осмотреть часовню снаружи.
Оказалось, что вокруг нее густой чащей разрослись кусты роз футов в шесть вышиною.
– Что это за чудные великаны розового царства? – спросила Кармелита с восторгом.
– Это роза Александрийская, она цветет белыми цветами, – отвечал садовник. – Она произрастает или на самом юге Европы, или на берегах Варварийских, из ее цветов изготовляют розовую эссенцию.
– Можете вы продать мне один из этих кустов?
– Который?
– Вот этот.
Кармелита указала на тот, который рос ближе всех к могиле.
Садовник сходил в часовню и принес лопату.
В нескольких шагах от них запел соловей.
Луна мгновенно перестала быть обыкновенной луною, а обратилась в греческую Фебу, смотрящую на землю влюбленными глазами, отыскивая на ней тень прекрасного Эндимиона.
Воздух дрогнул от легкого ветерка, напоминавшего нежный поцелуй любящего существа.
Высокая фигура девушки, одетой в траур, молодой человек, также весь в черном, и садовник, выкапывающий розовый куст у надгробного памятника, составляли поистине поэтическую и таинственную картину. Казалось, каждый из них со вздохом повторял:
– Жизнь, чудный дар! Благодарю Тебя, Создатель, что наградил им нас в одно и то же время!
Но первый же удар лопаты садовника отозвался в сердцах молодой пары болью. Им казалось, что нарушать покой земли, в которой хранился прах святой жертвы царственного эгоиста, звавшегося Людовиком XIV, было каким-то святотатством.
Они ушли из питомника, унося с собою желанный розовый куст, но с таким же страхом в душе, с каким бегут домой дети, унесшие цветок с кладбища.
Но, очутившись на улице, они тотчас забыли печальные мысли, наслаждались и собственной болтовней, и ароматом цветов, и видом звезд, и в душе обоих звучала полубессознательно для них самих благодарность к Творцу за все блага и восторги их юного существования…
V. Коломбо
Сердце молодого бретонца, которого мы назвали Коломбо, было настоящим бриллиантом, главные грани которого составляли доброта, кротость, невинность и честность.
Некоторые из виднейших личностей колледжа, – т. е. именно те философы, которые кутят в восемнадцать, а в двадцать два становятся уже плешивыми льва ми, – прозвали его Коломбо де Ние за несколько добрых порывов, после которых он оказывался совершенно одураченным из-за своей открытости и доверчивости.
Благодаря своей геркулесовой силе он, разумеется, мог бы заставить замолчать всех этих насмешников, но он относился к ним с тем же презрением, с каким относятся сенбернары к королевским пуделям.
Но однажды один из самых тщедушных креолов, толь ко что приехавший в колледж из Луизианы, глядя на неистощимое терпение, с которым Коломбо выслушивал обидные прозвища товарищей, вообразил, что угодит общественному мнению школьников, если хорошенько дернет его сзади за волосы.
Если бы это было простой шуткой, Коломбо, разу меется, промолчал бы. Но он видел, что то было нечто совсем иное.
Случилось это во время вечерней перемены, когда все прогуливались в гимнастическом дворе. Маленький креол взобрался для большего удобства и безопасности на плечи одного из самых высоких воспитанников и уже оттуда схватил Коломбо за волосы и принялся весьма чувстви тельно трепать его.
Почувствовав сильную боль и сознавая всю неловкость своего положения, Коломбо, ничем не выражая ни своего страдания, ни овладевшего им гнева, обернулся, схватил креола за шиворот, сдернул его с плеч высокого товарища и отнес к трапеции, с которой свисала верев ка с узлами.
Здесь он обвязал его веревкой поперек тела и, от пустив, раскачал.
Остальные школьники сначала хохотали, но вскоре притихли, а затем начали протестовать, однако все их слова не произвели на Коломбо ни малейшего впечатления. Высокий воспитанник, с плеч которого он сорвал назойливого Камилла Розана, подошел и потребовал от вязать маленького креола.
Коломбо достал из кармана часы, пристально взглянул на них и хладнокровно ответил:
– Он провисит так пять минут.
Между тем мальчик пребывал в таком мучительном положении уже пять минут перед этим объявлением.
Высокий ученик, бывший на целую голову выше Коломбо, злобно бросился на него, но бретонец ловко схватил его поперек тела, сжал до удушья, как Гер кулес Антея, о чем он узнал из курса мифологии, и спокойно положил на землю.
Все школьники неистово аплодировали, так как наша молодежь уже со школьной скамьи привыкает преклоняться перед сильнейшим.
Между тем Коломбо так нажал коленом на грудь своего противника, что тот чуть не задохся и стал просить пощады, но упрямый бретонец опять вытащил свои часы и сказал:
– Нет, еще две минуты.
Двор задрожал от восторженных криков школьников.
Тело Камилла Розана раскачивалось все тише и тише, но движение все-таки еще не прекратилось.
Ровно через пять минут Коломбо, не уступавший в верности своему слову даже знаменитому земляку своему Дюгесклену, выпустил большого ученика и отвязал маленького. Старший и не подумал с ним рассчитываться, а младший ушел со злости в лазарет и пробыл там целый месяц.
Само собой разумеется, что они тотчас же сделались предметом неистощимых насмешек, а Коломбо осыпали похвалами. Но он, по-видимому, не высоко ценил эти восторги:
– Вы сами теперь видели, господа, на что я способен и знайте, что с первым, кто вздумает надоедать мне, я сделаю то же самое.
С этими словами он спокойно пошел дальше. Жизнь Камилла Розана была в течение целого месяца в величай шей опасности, и все очень тревожились за исход его болезни. Но больше всех терзался тревогой, часто доходившей до отчаяния, сам Коломбо. Он совершенно за бывал, что начал ссору не сам, а только вынужден был защищаться, и искренне считал себя единственной причиной страданий мальчика.
Само собою разумеется, что когда Камилл стал выздоравливать, в сердце Коломбо проснулась по отношению к мальчику та нежность, какую испытывает сильный к слабому, победитель к побежденному и которая составляет одну из лучших черт человеческого сердца.
Мало-помалу эта нежность обратилась в серьезную дружбу, и Коломбо полюбил Камилла, как любит старший брат младшего.
Маленький креол тоже привязался к Коломбо с той разницей, что в его приязни была немалая доля страха. При его физической слабости ему приятно было сознавать себя под чьим-нибудь покровительством, но в то же время его самолюбие ставило невидимую, но непреодолимую преграду между ним и его другом – покровителем.
Характер у него был заносчивый, и он каждый день рисковал получить от кого-нибудь из товарищей такой же назидательный урок, какой дал ему Коломбо. Но тот был всегда на страже и стоило ему только обернуться и спросить своим спокойным голосом: «Ну, что там опять такое?» – как все угрожавшие Камиллу покорно отступали.
С годами гордость креола, казалось, стихла, и в душе его не оставалось ничего, кроме чистой и искренней привязанности к Коломбо, что он и доказывал при каждом удобном случае. Они были разного возраста, а потому учились в разных классах, спали в разных дортуарах и могли видеться только во время перемен. Но привязанность креола к Коломбо была так велика, что как только он его не видел, то принимался писать ему. Мало-помалу между ними установилась постоянная переписка, такая же подробная и задушевная, как между двумя влюбленными.
Вообще, первая юношеская дружба отличается всей горячностью первой любви. Сердце, как человек, долго проживший в заточении, ждет только свободы, чтобы раскинуть под солнечными лучами теплого чувства свои сокровеннейшие мысли.
Таким образом, между друзьями установилась тесная связь, а когда на следующий год Камилл перешел на одно отделение с Коломбо, они стали неразлучны, и все вещи, бумага, перья, белье и деньги стали их общей собственностью.
Когда родные присылали Камиллу из Америки варенье и консервы, он делил все пополам и откладывал одну половину в ящики Коломбо. Если же старый граф решал снабдить сына соленьями из Бретани, Коломбо поступал с ним так же, как Камилл с вареньем.
Дружба эта, с каждым днем становившаяся сильнее, вдруг была прервана тем, что родители Камилла, когда он окончил курс философии, потребовали его возвращения в Луизиану. Друзья обнялись и расстались, обещая друг другу сообщать о себе в письмах, по крайней мере, раз в две недели.
В первые три месяца Камилл был верен данному слову, но затем стал писать только по одному разу в месяц, а под конец и вовсе по одному разу в три месяца.
Что же касается честного бретонца, то он строго исполнял свое обещание и ни разу не пропустил обещанного двухнедельного срока.
На другое утро после весенней ночи, о которой мы только что рассказывали, часов в десять старушка-консьержка принесла молодому человеку письмо, автора которого он тотчас же узнал по почерку.
Письмо было от Камилла. Он возвращался во Францию. Письмо могло опередить его самого всего на несколько дней.
Он предлагал Коломбо возобновить те же отношения, которые существовали между ними в школе.
«Ты сообщал мне, – писал креол, – что у тебя кухня и три комнаты. Позволь же мне занять половину кухни и полторы комнаты».
– Еще бы! – вскричал Коломбо, радостно взволнованный неожиданным возвращением друга.
Вдруг ему пришло в голову, что к приезду милейшего Камилла нужно будет приготовить кровать, умывальник, туалетный стол и, в особенности, диван, на котором беспечный креол мог бы курить свои превосходные мексиканские сигары. Коломбо тотчас же оделся, захватил с собою все свои сбережения – триста или четыреста франков – и отправился делать покупки.
На лестнице он встретился с Кармелитой.
– Господи, какой у вас сегодня счастливый вид, мосье Коломбо! – вскричала девушка, глядя ему в лицо.
– Да, я сегодня чрезвычайно счастлив! – сказал он чистосердечно. – Из Америки, из Луизианы, ко мне воз вращается друг. Мы сдружились с ним еще в школе, и я люблю его, кажется, больше всех остальных.
– Отлично! – понимающе вскричала она. – А когда он приедет?
– Точно не знаю, но мне так хотелось бы, чтобы он был уже здесь!
Кармелита рассмеялась.
– Право, я был бы очень рад – повторил Коломбо. – Я уверен, он вам ужасно понравится. Это олицетворенная красота и веселость. Я никогда не видел такого красавца даже среди идеалов красоты, созданных мечтами художников! Единственный недостаток в нем – это, может быть, некоторая женственность, – прибавил он не для того, чтобы уменьшить достоинства красоты, которой сам восхищался, а только во имя правды. – В нем есть что-то женственное, но даже и это к нему чрезвычайно идет. Наверно, у сказочных принцев были такие же прелестные лица. Сами бакалавры Саламанки не умели ходить изящнее его, а беззаботностью он перещеголял даже наших парижских студентов. Кроме того, – вот уж этим он наверняка очарует вас, такую любительницу музыки, – у него прелестнейший тенор, и поет он мастерски! Когда-нибудь мы споем вам старинные дуэты, которые распевали в школе. Ах, кстати о музыке… Сегодня ночью мне пришло в голову сделать вам одно предложение. Вы ведь говорили мне, что в Сен-Дени учились музыке?
– Да, я пела там сольфеджио, и говорили, что у меня порядочный контральто, и если я о чем и жалела, выходя из Сен-Дени, так это единственно о трех подругах, с которыми была так же дружна, как вы с Камиллом Розаном, и о моих уроках пения, ведь мне уж нельзя было их про должать. Кажется, что при некотором старании из меня бы что-нибудь да и вышло.
– Ну, так вот я и хотел предложить вам не то, что я стану давать вам уроки, потому что с моей стороны это было бы слишком смело, – но мы могли бы разучивать некоторые вещи вместе и, может быть, я был бы вам полезен, потому что в школе я учился у очень хорошего профессора, у старика Мюллера. Да и после того я много занимался и все свои познания предлагаю к вашим услугам.
Коломбо сам испугался, что сказал так много, но весть о приезде дорогого друга совершенно преобразила скромного и добродушного юношу.
Кармелита приняла его предложение с величайшей благодарностью. Если бы ей предложили целое состояние, ее это так не порадовало бы, и она уже собиралась высказать ему это, но увидела на последних ступеньках лестницы доминиканского монаха, который читал молитву над ее матерью и которого она уже несколько раз встречала, когда он поднимался к Коломбо.
Девушка вспыхнула и убежала.
Коломбо был тоже заметно смущен.
Монах взглянул ему в лицо с удивлением и упреком, как бы желая сказать ему:
– Я отдал тебе всю мою дружбу и думал, что и ты поверяешь мне все свои тайны. Но вот важная тайна, а ты и не упомянул о ней!
Коломбо вспыхнул, как молоденькая девочка, и, отложив покупку мебели до другого раза, возвратился домой.







