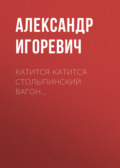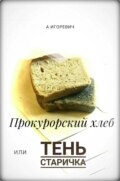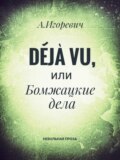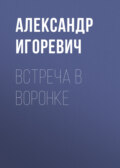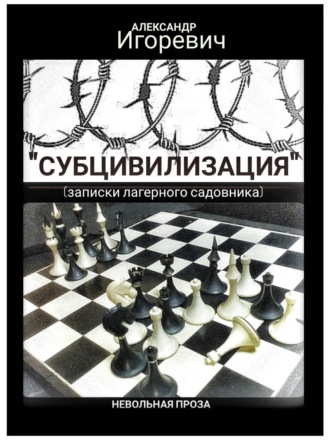
Александр Игоревич
Субцивилизация (записки лагерного садовника)
Тот тяжкий путь от следственной тюрьмы до места каторжных работ получил название “этап”, а сопровождение арестантов охраной – “этапирование”.
Этап мог занять время от нескольких дней до двух, а то и трёх лет. Это зависело от того, в какую географическую точку был отправлен арестант – будущий каторжанин и, естественно, от технических возможностей транспорта в тот или иной исторический промежуток времени.
Выбор был небогат и средства передвижения, прямо скажем, не самые гуманные: от "трамвая №11”, то есть пешкодралом, и закрытых повозок или саней до железнодорожных платформ для перевозки скота. В санях и повозках этапировали, понятно, знатных арестантов, но без отопления им тоже было не сладко. Как и тем, кого гнали в неотапливаемых вагонах в стойлах для лошадей, в которых из удобств была только небольшая дырка в полу…
Вот и представьте, сколько нужно времени, чтобы доставить вглубь Сибири пешком измождённых, больных и голодных людей в кандалах! Да еще по морозу, в снег и в дождь. По неокрепшему льду осенью через сибирские реки. Накануне ледохода весной. На баржах летом…
По железной дороге, конечно, быстрее. Но и расстояния были гораздо большими. И не везде она, дорога-то железная, была – занимала только часть этапа. А дальше опять самый доступный транспорт – “одиннадцатый трамвай”…
Когда окрылилась знаменитая сахалинская каторга, арестантов повезли по воде. Многие наверняка помнят приключения легендарной Соньки “Золотой Ручки”. Этапировали на пароходах, в трюмах, в клетках на палубе, от берегов Чёрного моря сначала в Средиземное, а там через три океана, обогнув всю Южную и Юго-Восточную Азию, через лихорадку и цингу, субэкваториальную жару…
Шутка ли – "этап" в XVIII-XIX в.в.? Сложно сказать теперь, каков процент выживших и тем более здоровых, не повредившихся в уме арестантов прибывал в итоге до места каторги.
Но вот в этом-то вся и соль! Вот тут-то и проявлялись те арестантские качества, которые можно абсолютно обоснованно считать проявлением лучших человеческих возможностей и добродетелей. И те, которыми нынешние адепты арестантских понятий искренне ли, лицемерно ли, но с пафосным энтузиазмом пытаются наделить современного порядочного арестанта.
Какие же это качества? Да те же самые, которые позволяют выжить группе людей в экстремальных условиях: мужество, стойкость, взаимовыручка, порядочность в общепринятом понимании, надёжность, чувство братства, единства и настоящей дружбы, а также разумность, хладнокровие, практичность и прочее. Отдельно надо выделить милосердие и способность к самопожертвованию.
Думается, что сам по себе такой выдающийся комплекс нравственных сил зародиться в среде арестантского быдла из готовых сожрать друг друга упырей не мог. Да-да. Не мог. Без притока, если можно так цинично выразиться, свежей крови…
И эта свежая кровь в лице лучших представителей русского дворянства, хотя, впрочем, и не только дворянства, нет-нет, да и вливалась в заскорузлые жилы арестантского общества, или сообщества, как кому будет угодно.
Не все дворяне, скажем прямо, обладали высокими душевными качествами. И не все крестьяне были быдлом. Без Платона Каратаева, вероятно, сгинул бы граф Безухов. Но всё же, не будем себя обманывать, что есть, то есть.
Факты, как говорил Сталин, вещь упрямая – особенно бурно эта самая свежая кровь зажурчала и полилась потоком после восстания декабристов!
Именно тогда это здорово консолидировало арестантскую массу и дало начало арестантскому кодексу – укладу! А кроме того – пробудило спавшие, дремавшие, припрятанные про запас лучшие душевные качества у представителей других сословий: от купечества до крестьянства!
Так, принявшие арестантский уклад освобождались на время этапа от сословных рамок и ограничений: граф делил хлеб с простолюдинами, те вставали на защиту помещика, притесняемого конвоем, мещанин подставлял плечо заболевшему крестьянину, а пролетарий – князю. Но…
Увы, по негласному декрету с прибытием на место, то есть на каторгу, арестантское братство распадалось. И бывшие арестанты, теперь уже каторжане, устраивались, кто как мог, чтобы жить и выживать уже самостоятельно, полагаясь на самого себя и остатки затухающих арестантских понятий вчерашних сотоварищей. Чувство сословности в итоге перевешивало временные гибридные взаимоотношения. И князья оставались с князьями по личному приятию и усмотрению, купцы с купцами, крестьяне с крестьянами, а воры с ворами – никаких обязательств! И никакого спроса…
Примерно такую же картину обновления застарелой гнилой крови можно было увидеть и во второй половине XIX века, когда на каторгу толпами "поехали" революционеры всех мастей из дворян и разночинцев; и в первой половине XX века в период массовых репрессий по отношению к передовой части советского общества. Ничто не ново под луной…
Таким образом, если взять чисто исторический аспект, то и в нынешнее время "арестантство” должно заканчиваться с прибытием этапа в зону соответствующего типа. И в сущности-то так оно и есть. Пережито жуткое для многих время ожидания приговора в СИЗО, стрессовых катаклизмов, вызванных отрывом от дома и семьи, переменой условий жизни и прочее. Перегорают волнение и чувство неизвестности в ожидании участи, сопровождавщие и без того малоприятные "прелести" этапа, хотя и не в пример более комфортного, чем сто-двести лет назад, но всё-таки требующего сохранять чувство арестантства. А уже в зоне, на месте, это чувство постепенно сходит на голые слова, вялые попытки его продлить, молчаливое согласие, а в мыслях – на усталое чувство необходимости и обречённой вынужденности.
В конце концов, пост-арестанту (он же – нео-каторжанин) все эти "братульцы-братухи" и "движухи-менжухи" становятся ненужными, неинтересными, тягостными. Он теперь вынужден тщательно скрывать от других утрату прежних идеалов. Жизнь налаживается! Налаживается и… диктует свои правила, перспективы, сваливает на голову зэка кучу разных житейских забот. Вследствие этого чувство собственничества берёт верх. Вынужден повторить старую истину: ничто не ново под луной. И ничто не вечно…
Итак, именовать узников пенитенциарной системы арестантами, выходит, не совсем корректно. Хотя в разговорной речи это давным давно принято. Каторжанами же звать обитателей зон вообще архаично и отдаёт фальшивым пафосом. Однако топнувшие по несколько ходок пожилые мужчины, бывает, называют себя – "старый каторжанин".
Так как же в общем и целом принято называть обитателей тюрем, исправительных лагерей и прочих пенитенциарных учреждений, связанных с лишением свободы?
Вот, наконец, и подобрались к этому резкому и пугающему слову – "зэк". Что же оно означает? Многие ошибочно полагают, что оно произошло от слова "заключённый" путём его сокращения и трансформации гласной "а" в "э". В просторечьи можно услышать ещё слово "зык" и производные от него: "зыки", "зычка", “зычонок" и так далее. В действительности это слово изначально звучало как "зэка", с ударением на последнем слоге. А писалось оно аббревиатурой “з/к”, которая расшифровывается как "заключённый каналармеец". Это официальное название спецконтингента строителей Беломоро-Балтийского канала, правдами и неправдами, по суду и без суда свозимых и сгоняемых туда вооружённой охраной, как на каторгу, в начале тридцатых годов XX века.
После посещения этой "стройки" Виктор Шкловский рассказывал, что чувствовал себя там, как чернобурая лиса в меховом магазине.
А слово "зэк" в итоге закрепилось, стало общеупотребительным в разговорной речи, а позднее и в литературном языке. Хотя, повторяю, изначально оно имело совсем иное, специфическое и значение, и назначение, но сейчас является собирательным названием всех категорий узников независимо от их юридического официального статуса, образа жизни и масти.
О последней будет ещё обстоятельный разговор впереди. А вот на юридических статусах, во избежание недоразумений и путаницы, придётся остановиться и разобраться поподробнее в следующей главе.
Примечание к главе 4:
* пенитенциарный – от лат. "penitentiarius" – карательный.
Глава 5. Правовой статус зэка
Итак, что такое юридический или правовой статус зэка, и с чем его едят?
Допустим, совершено преступление. Требуется виновное лицо. И тут есть куча вариантов, как его установить. Самый простой – когда оно, это лицо, прибегает или звонит в полицейский участок, рвёт на себе волосы и воет дурниной: “Ай-ай-ай, дуро я дуро, что же я натворило!”. И так далее. Тогда составляется протокол явки с повинной, и всё пошло своим чередом.
Другое дело, когда виновного надо задержать. Хорошо, если есть улики бесспорные. Тогда его просто берут и доставляют в участок. А если нет улик? Тогда очерчивают круг подозреваемых лиц, выбирают из них подходящую кандидатуру, доставляет в участок, а там…
Если бы я не знал достоверно и доподлинно на своём горьком опыте, что там происходит, то отделался бы выражениями вероятностного характера: "наверное", "возможно", “полагаю”, "скорее всего" и тому подобными.
А я, как никогда категоричен. И знаю, что говорю. Поэтому продолжаю: там, в участке, это подозреваемое лицо сначала либо ласково, либо строго укоризненно прибалтывают признать вину, поскольку признание это и будет главной уликой, независимо от того, кто на самом деле совершил преступление.
Да, впрочем, уже не важно, кто истинный преступник, и был ли вообще сам факт совершения преступления. Важно и даже жизненно необходимо предоставить задержанное подозреваемое лицо. Иначе наступят катастрофические последствия: будет ругать начальство.
Что может быть страшнее этого? А то, что начальство это, в свою очередь, будет ругать прокурор. Раз поругает, два. Можно из-за этого остаться без выходного. Отпуск может накрыться медным тазом. А если систематически такая петрушка повторяется, то могут и разжаловать – со службы выпереть. Тогда придётся идти работать, а это, считай, вся жизнь псу под хвост…
Так что там, в полицейском участке, если миром дело не решилось, увещевания не подействовали, придётся “налить шары” до одури, а озверев, терзать плоть задержанного лица, угрожая при этом расправой над его семьёй, родителями, детьми. До тех пор, пока это самое лицо не запищит: “Ай-ай-ай, дуро я дуро, что же я натворило!" и так далее по писанному: протокол явки с повинной и прочее.
Если же это задержанное лицо уже ни живо, ни мертво, но продолжает включать бычку – упорствовать, то придётся оставить его в покое, а улики просто сфальсифицировать. Рискованно, конечно, но игра стоит свеч…
И напрасно наивное задержанное лицо, морально и физически истерзанное, мечтает, что вот-вот явится адвокат, и всё обратится вспять. Что следователь разберётся во всём, и его, горемыку, освободят. Так-то оно так, но… Адвоката допустят, когда основное дело сделано, и это уже мало поможет, если поможет вообще. А следователь сам из той же системы, с его-то подачи и ведома орудовали полицейские опера. Шум поднимать никому не на руку. Ни сотрудникам следственного комитета, ни прокурору. Никому…
Редко. Очень редко кому везёт в этой игре, которая стоит свеч, имея в виду всё то же задержанное лицо. Фактически задержанное! Без оного юридического статуса!
А истинный юридический статус у этого лица на данный момент: "подозреваемое".
Затем его из полицейского участка (читай: отдела уголовного розыска) под негласной охраной препровождают в следственный орган. Тем временем следователь шустренько печатает постановление о задержании подозреваемого лица. Ну, или до этого. Или после. По ситуации. А также выносит постановление о возбуждении уголовного дела, если оно ещё ранее не было возбуждено. Там своя процессуальная кухня. Это не столь принципиально. Главное, что в этих бумагах отражается юридический статус. После подписания подозреваемым лицом постановления о задержании, оно уже будет в статусе задержанного.
И вот теперь, если есть цель человека посадить, то всё. Как говорится, твой дом – тюрьма! Задержанный уже под официальной охраной-конвоем водворяется в свой первый "казённый дом" – изолятор временного содержания (ИВС).
В советское время такие изоляторы называли – КПЗ (камеры предварительного заключения). До последнего времени они представляли собой маленькие, допотопные, убогие и грязные “тюремки” со всеми классическими тюремными атрибутами, вплоть до параши в углу. Спартанские условия: прибитые к полу нары или койки (шконки), столы (общаки), лавки у стола, решётки (решки) на окнах и железные двери (тормоза) с "глазком" (волчком) для надзирания.
В крупных городах они могут располагаться в отдельных зданиях внушительных размеров, и их может быть несколько при районных отделах внутренних дел. А в мелких населённых пунктах: городишках и посёлках – находятся прямо в помещении ОВД, в полуподвалах, с деревянными нарами, рукомойниками и ведром вместо унитаза. Хавку, то есть питание, в ИВС привозят из общепита: столовых и кафе, по договору. Обычно это не баланда, а более или менее сносные и даже хорошие комплексные обеды.
В изоляторы помещают не только задержанных по подозрению в совершении преступлений, но и привозят из СИЗО ранее арестованных на допросы, различные следственные действия, и подсудимых на судебные заседания. Там же, только в других камерах, содержат арестованных за мелкие административные правонарушения. Это те самые "суточники": алкоголики, тунеядцы, хулиганы и прочая мелкая дичь.
Я побывал в разных ИВС: и там, где “частичные удобства”, стены из оштукатуренной дранки, нет даже электрических розеток, и там, где всё по последнему слову полицейской техники. Но обо всех осталось крайне отвратительное впечатление, ощущение какого-то паскудства.
Задержанных по уголовным делам в ИВС изолируют на двое-трое суток, пока суд не решит вопрос об избрании меры пресечения. Если не ошибаюсь, по закону на это отводится не более 72 часов.

За это время следователь быстренько смухлёвывает уголовное дело. Пока ещё малюсенькое такое уголовное дельце. В том числе и самый судьбоносный документ – постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу.
Если суд избирает меру пресечения – содержание под стражей, то задержанный теперь становится арестованным.
Итак, чтобы расставить все точки над "и" и не утонуть в этих терминах, подытожу. Для органа следствия лицо, которое они считают виновным и привлекают к уголовному делу, называется подследственным. В рамках уголовного дела это лицо сначала имеет юридический статус "подозреваемое", потом – "обвиняемое".
Впоследствии, когда дело уже передадут в суд, данное лицо получает статус "подсудимого".
Так. С этими статусами разобрались. Теперь на них можно забить. К предмету нашего разговора они не относятся. А упомянул я их для того, чтобы впредь о них не спотыкаться. Это кухня следственных и судебных органов. А у нас кулинария иная – тюремная.
Узник, так или иначе потерявший свободу, для тюремного ведомства имеет иные официальные названия и находится в иных юридических статусах.
Например, какой-то задрипанный вертухай* постучит ключами в двери камеры и крикнет:
– Обвиняемый такой-то, на допрос к следователю!
Или:
– Подсудимый такой-то, на выход!
Можно смело ответить ему:
– А не пошёл бы ты на х++, начальник! Я тебе не обвиняемый и не подсудимый. Ты не следак и не судья, чтобы так меня называть…
И будешь прав на все сто!
После того, как суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, задержанного должны перевести в следственную тюрьму, которая сейчас носит название – СИЗО, то есть следственный изолятор, но в народе по-прежнему называется тюрьмой. И для тюремного ведомства задержанное ранее лицо, статус которого так и назывался официально – "задержанный", теперь получает новый статус – "содержащийся под стражей", а в обиходе, как говорится, по старинке – "следственно арестованный".
После суда, вынесения приговора, и мало того, после процедуры его обжалования и прочее, но только с момента вступления приговора в законную силу, следственно-арестованный получает новый статус – "осуждённый”. И до момента освобождения его юридический статус уже не поменяется – это его крест, и ему его нести до конца.
Моя навязчивая дидактичность по поводу этих статусов объясняется тем, что я хочу донести ещё одну важную деталь. Зэк, он и есть зэк. С того момента как его скрутили-заластали. Но пребывая в этих разных юридических статусах, он наделён разными правами, существенно различающимися, подчёркиваю. Неплохо бы ему эти права знать. И вообще, пока приговор не вступил в законную силу, человек не считается осуждённым и по закону, официально, виновным не является!
Я же, как ранее, так и впредь, пользовался и буду пользоваться кратким и всеобозначающим, принятым и уже привычным словом “зэк” для всех категорий и статусов узников неволи. И никаких канонов при этом не нарушу: ни юридических, ни арестантских, ни литературных.
Между тем назрела необходимость осветить вопрос о видах и типах казённых домов, что и отражено подробно в следующей главе, которая так и называется: "Казённый дом".
Примечание к главе 5:
* вертухай – он же дубак, он же мусор, он же фсиновец – сотрудник администрации СИЗО или исправительного учреждения ФСИН – Федеральной службы исполнения наказаний (жарг.).
Глава 6. Казённый дом
В предыдущих главах невольно была затронута тема настоящей. Это оправдано тем, что рассказать об обитателях разного рода тюрем в историческом разрезе и в связи с их процессуальным положением без краткой хотя бы характеристики этих тюрем, или, если угодно, узилищ, было бы некорректно и однобоко.
К вопросу об ИВС остаётся только добавить, что упомянутые выше "суточники" (алкоголики, хулиганы, тунеядцы) содержатся, собственно, формально не в самом ИВС, а в так называемом официально, арестном доме. Просто за редким исключением эти самые арестные дома территориально приурочены к изоляторам временного содержания, совмещены с ними. И "питомцы" их зэками или арестантами не считаются, так как не являются уголовно осуждёнными, разве что были таковыми ранее.
Тюремное ведомство в настоящее время носит название Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и относится к Министерству юстиции Российской Федерации. Оно включает в себя региональные управления по областям, краям и национальным республикам, а те – районные отделы, уголовно-исполнительную инспекцию и целую сеть разного рода учреждений.
Региональные управления (УФСИН и ГУФСИН) надзирают за учреждениями – тюрьмами, колониями и прочими. Зэки называют их управами.
Уголовно-исполнительные инспекции контролируют осуждённых к наказанию в виде обязательных, исправительных и принудительных работ, к дополнительным видам наказания, не связанным с лишением свободы. К зэкам они отношения прямого не имеют, лишь к бывшим, освободившимся условно досрочно (УДО) или замене на более мягкий вид наказания (ограничение свободы, те же исправительные или принудительные работы – ИТР и ПТР). Ну и, само собой, надзирают за условно осуждёнными. Бог с ними со всеми. Это не наш формат.
А вот с учреждениями, связанными с наказанием в виде лишения свободы, то есть с казёнными домами, следует разобраться поподробнее. Это уже «теплее». Наш вопрос.
В ведение ФСИН входят и СИЗО, то есть, по старому, следственные тюрьмы. Не смотря на то, что содержащиеся там под стражей арестанты носят собственную одежду, получают передачи от родных чаще и большим весом, чем осуждённые, и при этом не работают, в остальном порядки там самые настоящие тюремные. В одних СИЗО режимные требования жёстче, в других – слабее. Это зависит от специфики региона и конкретного учреждения. Взятки и коррупция процветают повсеместно, и тюрьма не исключение. Они, собственно, и определяют степень строгости режимных требований.
В СИЗО имеются изоляторы – карцеры для нарушителей режима. А также – отдельные камерные блоки для содержания особо опасного контингента, то есть обвиняемых в совершении преступлений особой тяжести. Их называют спецблоками. Они оборудованы системой видеонаблюдения и, соответственно, там ужесточён контроль за соблюдением режима и повышены меры безопасности.
Почти два с половиной года провёл я в разных следственных изоляторах. Да ещё в период, когда «славились» они по всей стране "красными", то есть усиленными режимными порядками – в первой половине десятых годов. А в прежние времена, говорили, было ещё хуже.
Да что такое это безликое "говорили"? В этом же регионе, в том самом СИЗО, где провёл я в совокупности около года, сидел десятью годами ранее меня писатель и политик Эдуард Лимонов. Он в своей повести "По тюрьмам" описал всё настолько красноречиво, что мне и добавить особенно нечего. Тем более, что за десять лет, если что и изменилось, то только в бытовом плане.
Так, однажды попал я в камеру на восемнадцать мест. Повторно вернулся туда через полгода, и выяснилось, что благодаря какой-то московской комиссии из-за сильной тесноты камеру «разгрузили», оставив двенадцать шконок. Примерно через год стали требовать соблюдение «социальных норм» (они, оказывается, тоже здесь существуют). Как мне сообщил при случайной встрече бывший сокамерник, теперь эта камера стала восьмиместной. И уже в колонии, через пару лет, один из прибывших этапом новичков сказал, что долгое время провёл в той самой камере, и она… на шесть мест!
Гуманизация пенитенциарной системы всё-таки принесла плоды. Ведь по слухам, за три-четыре года до меня в эту же самую хату набивали до тридцати шести человек! По двое на одну шконку (спали по очереди)! Летом, чтобы не задохнуться лежали вповалку на полу… Это так, в качестве примера, что время не стоит на месте. Теперь в камерах СИЗО, говорят, и холодильники есть, и электрические чайники, и чего только нет. Скоро дойдёт до микроволновок и кондиционеров, если кое-где уже не дошло.
Раньше, на моей памяти, не было даже туалетных кабинок. Унитаз стоял в углу камеры и благо, если его скрывала хотя бы невысокая перегородка ("слоник"). Оборудованы камеры были крайне убого: железные полка, стол-общак, лавка вдоль стола, койки-шконки, умывальник, оцинкованный бак для питьевой воды и розетка для кипятильника. Всё намертво прикручено к полу и стенам, прибито здоровенными штырями, покрашено в серый цвет. Ни тумбочек, ничего деревянного, кроме полов и грубой толстой доски, приделанной на лавку. Окна, светильник, видеокамера слежения – зарешёчены добротно. Мощная стальная дверь (тормоза) с окошком для подачи еды и документов (кормушка, кормяк, касса) и глазком (волчком). По аналогии волчком или глазком на языке фени именуют также анальное отверстие.
Иногда в качестве поблажки (скачухи) могли выдать в камеру телевизор. Но далеко не всем. Это надо было по особенному заслужить, всячески сотрудничая и с администрацией СИЗО, и, частенько, со следствием.
Единственное, чего не было, нет и не предвидится – это легальных средств мобильной связи и свободного доступа в интернет. Кроме почтовых писем, таксофонов для ограниченного контингента и электронной почты через ту же администрацию – ничего!
При мне уже стали монтировать санузлы-кабинки, появились тумбочки и разноцветные стены, а кое-где и чайники. Не менялись только режимные требования: подъём, отбой, приём пищи, прогулка, шмон, «не сидеть!», «не лежать!» и прочее. Хотя, как говориться, на то и правила, чтобы их нарушать…
Отдельного внимания заслуживает питание. Точнее то, что называли питанием. Это было нечто, донельзя красноречиво подходящее под слово «баланда»!
Вообще, баланда – это собирательное название блюд тюремного общепита.
Зэк, оставленный отбывать наказание в СИЗО, именуемый баландёром или шнырём*, три раза в день разносил по камерам «горячее» питание, то бишь баланду.
На завтрак и ужин была каша: перловая, пшеничная, ячневая, редко пшённая. Также часто давали «комбинированную», которую именовали: «комбикорм» – смесь круп, включая цельные зёрна пшеницы, ячменя и овса, короче, то, чем кормят свиней.
С обедом было ещё занятнее. Баландёр таскал два бидона с кашей и два ведра: одно с жиденьким чаем, другое с кипятком. Сотрудник открывал кормушку на двери-тормозах. Зэки из камеры подставляли свои алюминиевые миски (шлёмки), а баландёр большим половником черпал немного каши, потом окунал его в ведро с кипятком и выливал зэку в шлёмку. Эта каша, разбавленная кипятком, напоминала похлёбку и называлась «первое». Тем, кому по медицинским показаниям (дефицит веса, ВИЧ, тубинфицирование и пр.) полагалось усиленное питание – «диета», шнырь черпал кашу из другого бидона и добавлял также воды. Каша была не лучше, просто из другой крупы. Затем он наливал половником чай в подставленные через кормушку кружки (кругали) и уходил к соседней камере.
Минут через десять он возвращался и кричал: «Второе!». Процедура повторяла предыдущую с двумя отличиями. Во-первых, кипяток в кашу уже не подмешивали. Во-вторых, тем, кто питался по общей норме, накладывали одним шлепком каши из второго бидона, а «диетчикам», наоборот, из первого.
Выходило так. У «общей нормы» на первое был, например, пшённый суп, на второе – перловая каша. У «диетчиков» на первое – перловый суп, на второе – пшённая каша…
Хлеб – история отдельная. Его разносили до баланды по два куска: чёрный и белый. Отличить их было возможно не всегда: оба грязно-серого цвета с обожжённой, местами обугленной коркой и полупропечённым тестом вместо мякиша. В пищу такой хлеб был непригоден.
Зимой «рацион» резко менялся. Дешёвые крупы заменяла кислая капуста и, что никак не лучше, сушёный картофель.
Капуста была именно кислой, а не квашеной. Даже не кислой, а прокисшей, перебродившей, с запахом то ли ацетона, то ли перегара, то ли пьяной блевотины. Подавали её в варёном виде, но она даже в миске продолжала пузыриться, бродить, выделяя пену с разноцветными, словно мыльными, пузырями.
Варёные брусочки сушёного картофеля имели аппетитный вид. И баландёры называли их чипсами. Похожи они были на аккуратно поджаренный картофель, типа фри, а по вкусу напоминали обойный клей. Хотя это чисто моё предположение, клейстер и бустилат я не пробовал. Но почему-то у меня такое впечатление сложилось. Как бы ни пытался доработать их и получить что-то съедобное: добавлял в салаты, заливал кетчупом или майонезом, ничего хорошего не выходило – их омерзительный вкус только отравлял другие продукты.
Зэки, занимавшиеся на воле охотой, опознали в этих «чипсах» зимнюю подкормку для кабанов и прочей лесной живности, которую егеря рассыпают по лесам. Поэтому за этим «блюдом» увязались ещё названия: «лосиный корм», "лосина", "лосятина" и т.п.
В больших регионах обычно функционируют от трёх до пяти следственных изоляторов, иногда и более. Самые крупные располагаются в региональных центрах. Их называют «централами».
Сейчас это слово употребляют без разбора, именуя им все СИЗО, включая малокомплектные, расположенные в глухой провинциальной глубинке.
Это, конечно, один из примеров профанации. Смысл слова заключён в его корне – изначально централами или централками называли только центральные тюрьмы для осуждённых заключённых. Там отбывали наказание, а не бултыхались под следствием.
– Где отбывал?
– На Владимирском централе!
– Ого! Красавчик! А ты?
– В Москве, на централке…
– Ай, красавелла!
Для зэка это было неким предметом для гордости. Такое "почётное" испытание придавало ему форсу, добавляло авторитета. Отстрадал, значит, по полной. Нужду познал.
А сейчас… Просидит два-три месяца под следствием в саратовском или ещё каком-нибудь мухосранском СИЗО на колбасе и пирожках из домашних передачек, получит условный срок и ходит – кичится:
– Я типа того сидел!
– А где?
Грудь колесом:
– На мухосранском централе, ёпть!
В былое время в какой-нибудь порядочной арестантской хате его бы за подобные ответы рано или поздно поставили на лыжи**, как дешёвого фраера. А может, и того хуже…
Так что, есть определённые нюансы и в употреблении жаргонных выражений и слов. Меняется смысл понятий, эволюционирует. А может и деградирует. Время покажет…
В любом случае меняются они в сторону смягчения, упрощения. И понятия, и условия, и всё остальное. А почему? Да потому, что меняется прежде всего сам зэк, так сказать, его среднестатистическое лицо. Оно молодеет, тяготеет к комфорту, теряет суровость, но обретает легкомысленность. Однако, обо всём по порядку…
Формально СИЗО, конечно, тюрьмой не является. Тюрьма, как таковая – это один из видов исправительных учреждений.
Тюремное заключение, то есть лишение свободы с отбыванием наказания в тюрьме, назначается приговором суда. И это одно из самых суровых наказаний в современной России. К отбыванию наказания в тюрьме приговаривают особо опасных рецидивистов, а также за преступления, связанные с терроризмом, захватом заложников, попытками госпереворота, покушениями на представителей государственной власти и правосудия, а иногда и за жестокие убийства.
За прочие особо тяжкие преступления, даже совершённые впервые, суд также может назначить часть срока отбывать в тюрьме, а после – уже в колонии. Всё это отражается в приговорах.
Кроме того, в тюрьмы переводят из разных исправительных колоний, так называемых, злостников. То есть тех, кто систематически грубо нарушал порядок отбывания наказания. Это в общем-то нечастые, единичные случаи.
Условия отбывания в тюрьмах, как я уже описывал, суровые. Зэков содержат в запираемых камерах: общих или одиночных. Им устанавливают общие или строгие условия отбывания. Причём, все вновь поступившие, кроме инвалидов, вначале не менее года находятся на строгом режиме тюрьмы. Это одна посылка и одно свидание в год, прогулка раз в день на полтора часа в маленьком, специально оборудованном, изолированном «дворике» и разные прочие режимные «прелести». За хорошее поведение их через год могут перевести на общий режим: две посылки или передачки и два свидания в год, два часа в день – прогулка на свежем воздухе.
Никакие словесные описания не дадут полного и ясного представления, если сам там не бывал. Достаточно отметить, что те, кто был переведён из тюрьмы в колонию, очень неохотно о ней рассказывают, не хотят вспоминать.
Я ежедневно общался, живя бок о бок в одном отряде с тремя такими ребятами, прибывшими сюда, в зону, из разных тюрем России и там отбыли, соответственно, шесть, восемь и четырнадцать лет. Но ничего определённого ни разу от них не услышал. И не выяснил, при всём моём интересе. Рассказывали, конечно, кое-что, но как-то умело «съезжали» с темы: «Ну, в камерах жили… Работал. На швейной машинке. Потом обувь шил… В камере убирался, чтоб чисто было… Кормили? Как когда… Мусора злые там… Хотя не всегда… Но воровская движуха была. Там положенцы*** были от воров…». И всё. А что к чему – клещами не вытянешь. Но и у самого нет желания бередить им старые раны…