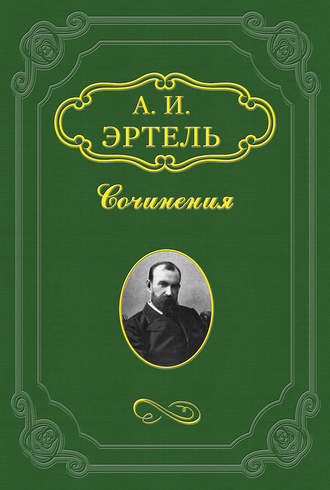
Александр Эртель
Карьера Струкова
– И здесь-то перестали воодушевляться этим старомодным враньем, а вы… Лучше бы уж «Ça ira» попробовали.
Но «Ça ira» никто не знал, кроме Левушки, который, однако, не решился обнаружить козлиный свой голос и полное отсутствие слуха.
А Струков давно уже с беспокойством наблюдал за женою. Как только костромич запел, у нее сразу исчезло то вакхическое оживление, которое под конец было так неприятно и страшно для Алексея Васильевича. Лицо ее покрылось смертельной бледностью, в широко раскрытых глазах, устремленных вдаль, появилось выражение неизъяснимой тоски, почти отчаяния. Молча она слушала и песню, и разговоры после нее, и неудавшуюся Марсельезу – и кусала пересмягшие губы, как будто усиливаясь превозмочь внутреннюю боль… И вдруг, не успел Алексей Васильевич подбежать к ней, как схватила себя за голову и истерически зарыдала, выкрикивая что-то бессмысленное: «Заросла!.. Заросла… дорожка… частым ельничком!.. – можно было разобрать в этих криках. – И вы… еще смеете!.. Анекдоты!.. Они… хоть в ограду… Мы ни во что, ни во что… даже в Марсельезу… не верим!..» Дамы суетились вокруг нее; растерянный Алексей Васильевич лепетал какие-то утешения, расстегивал ей лиф, кричал: «Воды! Ради бога, воды!» Костромич, с лицом, на котором сквозь искреннее сожаление невольно проступало самодовольное торжество, в свою очередь, успокаивал Наташу, стараясь говорить шепотом, и простодушно уверенный в своем «праве», поглаживал ее руку… Он ничуть не сомневался, что эффект произведен его пением, его ухаживанием, его наружностью и что Наталья Петровна влюблена в него. И когда она, несколько придя в себя, с брезгливым выражением отдернула руку, он нисколько не разуверился, а почтительно вздохнул, как человек, сознающий необходимость подчиняться «конвенансам», и, приняв скромно-таинственный вид, отошел к сторонке. И чтобы тут же покончить с этим, в сущности, добрым, честным и талантливым человеком, надо прибавить, что он с тех пор всегда искал случая имитировать костромского мужика в присутствии хорошеньких женщин и многим рассказывал по секрету (конечно в пьяном виде), что если бы захотел, то Струкова… гм… гм… – так же, впрочем, как и всякая другая «с душой и темпераментом».
Возвратились в Париж в каком-то удрученном, отчасти даже в сконфуженном настроении, и Наташа была сконфужена больше всех. И несколько раз в тот вечер ласково и виновато шептала мужу:
– Не думай, не думай, миленький! Это у меня оттого, что я выпила кофе с киршем… только от этого!
Но в другой раз она уже без всякой причины огорчила Алексея Васильевича и очень больно. Это произошло утром. В своем прелестном персидском халатике она писала письма, он сидел около стола как будто за книгой, но на самом деле не читал, а с чувством удовлетворенного восторга следил за линией склоненной шеи, затылка с небрежно закрученною косою, смелого профиля с ресницами, бросающими тень на золотисто-смуглую щеку… В это время она кончила страницу и мельком взглянула на него, потом пристальней… потом в ее глазах пробежало что-то неприятное… и вдруг сказала:
– С чего я находила, что у тебя печальные глаза? Совсем не печальные.
– И не глубокие? – с досадою спросил Струков.
Она легонько вздохнула и, не ответив, снова стала писать.
– Вот уж именно башмаков не успела износить… – начал было он, чувствуя, что краснеет до самых ушей от стыда и злобы, и напрасно стараясь говорить твердым голосом; но в это время вошел Петр Евсеич и заявил, что пора одеваться и куда-то ехать.
Так шли их дни в непрерывной смене тревожных настроений, в суете, в вечном предчувствии новых размолвок, в том, что между ними вырастала отчужденность, все реже и реже скрываемая горячим туманом страсти, иллюзией физического сближения.
О, как хотелось уехать Алексею Васильевичу, – разрушить это недоброе очарование парижских впечатлений, очарование темных сил, по его мнению, овладевших Наташей, разбить тот лед, в котором она замкнулась, прогнать от нее всех этих Верховцевых, костромичей, дам с серьезными убеждениями, увезти ее от соблазнов кипящей, как котел, улицы, исторических воспоминаний, политики, искусства, от соблазна жить ощущениями, среди которых не замечаешь, для чего живешь… И он напоминал об отъезде. Но Петр Евсеич ссылался на неоконченный перевод Courdaveaux, который было необходимо сдать в типографию в Женеве, а Наташа отмалчивалась. На самом деле и у отца и у дочери были особые причины медлить в Париже. Перелыгин с некоторых пор пропадал до утра, и однажды кто-то из общих знакомых встретил его выходящим из Moulin Rouge с желтоволосой девицей под ручку. Наташины причины заключались в том, что увлекающая пестрота здешней жизни препятствовала ей оставаться в одиночестве со своими мыслями, которых она теперь так же безотчетно боялась, как дети боятся иногда темноты.
В конце концов Струков с чувством, близким к отчаянию, развернул свою лондонскую работу. И мало-помалу интерес к теоретическим определениям, к цифрам, к логическим выводам начал по-прежнему овладевать им. Раза два он побеседовал с эмигрантом-космополитом; убедился из этих бесед, что многое упустил за кропотливыми подробностями исследования, что надо обратить внимание на книжки, в последнее время значительно развившие смутные посылки Маркса. И в одно яркое, погожее утро, завязавши в ремень десяток этих новых для него книг, объявил жене, что на неделю уезжает в Фонтенбло. Наташа слегка удивилась, но, конечно, не противоречила, и в первый день после его отъезда чувствовала себя как на каникулах. Особенно ее радовало то, что в спальне она одна, что не раздается в ушах странный шум чужого дыхания, к которому она до сих пор не могла привыкнуть, и нет мужчины, имеющего какое-то право быть при ней раздетым. Это давало иллюзию девичества, свободы, чистоты, и вначале так подействовало на Наташу, что она, ложась спать, в порыве чрезвычайного умиления перекрестила подушку, как это делала в далеком-далеком детстве. Однако на третий, на четвертый день ее стало преследовать ощущение какой-то пустоты и что-то вроде обиды на Алексея Васильевича зашевелилось в ее душе; чаще вспоминались лондонские дожди, скитания, разговоры, планы…
Наступила сильная жара. Париж разъезжался. Петр Евсеич был в отвратительном состоянии духа и однажды за обедом сказал Верховцеву:
– Скверно, милячок, дожить до того, что не ты от греха, а грех от тебя отступается… Ась? Не понимаете? Поймете, как стукнет шестьдесят… Надо вот восвояси собираться.
На шестой день из Фонтенбло пришла телеграмма: Vous feriez bien de visiter votre anachorиte. D'ailleurs je suis indisposé[6].
Первым движением Наташи была самолюбивая радость: о ней вспомнили! она нужна! – вторым – беспокойство… В тот же вечер Левушка проводил ее на лионский вокзал, а в двенадцать часов лунной ночи она ехала одна-одинешенька по той великолепной аллее из платанов, которую, раз увидавши, нельзя забыть. Маленький городок уже спал. Спали и в том скромном отеле, где жил Алексей Васильевич. Но в его комнате светился огонь.
Струков не ждал Наташу так скоро и в глубине души боялся, что она и вовсе не поедет. Он был действительно нездоров – в жару и оттого с ослабленными нервами, и, поднявшись навстречу неожиданной гостье, неожиданно расплакался. Наташа совсем испугалась, пока не убедилась, что болезнь – легкая простуда, но все-таки заставила Алексея Васильевича тотчас же лечь в постель, выпить горячего вина и до утра просидела у его изголовья, беспрестанно ощупывая его лоб, нежно унимая его нервическую говорливость. Он торопливо рассказывал, что успел прочитать в эти дни, как подвинулась его работа и как за «материалами британского музея» он действительно несколько отстал от теоретического движения мысли в экономической науке. Пытался он было говорить и об их супружеских размолвках, о том, что он дрянной, себялюбивый человек и, конечно, во всем виноват, а она… Но она закрывала ему рот рукою и повелительно произносила:
– Об этом совсем не смей… ни слова!
Наутро он был почти здоров и нежен, кроток, уступчив, а Наташа чувствовала необыкновенную усталость от бессонной ночи и точно заразилась его вчерашней нервозностью. Он предложил ей поехать в лес, посетить парк, осмотреть дворец, побыть еще денька два в этом тихом идиллическом городке, но она сказала, что хорошо помнит Фонтенбло и если можно, то лучше сегодня же возвратиться.
– Ну, хорошо, – кротко согласился Струков и, связывая вещи, спросил: – А когда же в Россию, моя дорогая?
– Надо собираться, – ответила она. – Моя портниха, кажется, скоро отделается. Как вот Верховцев с рукописью.
– Ну, хорошо. Пока соберетесь, я, может быть, окончу статью. Это даже хорошо, что не очень скоро уедем. «Спеши медленно», – сказал какой-то мудрец.
Но случилось так, что в этот же день медленные сборы превратились во что-то похожее на бегство. И случилось как будто от пустяков. С какой-то станции, недалеко от Фонтенбло, открылся широкий вид. Холмистая даль замыкалась лесом; в глубине долины извилисто протекала река; на берегах и на склонах пестрели деревни… А в другую сторону тянулась равнина, сплошь засеянная рожью.
– Миленький мой! Смотри… как в России! – воскликнула Наташа, высовываясь из окна.
И действительно, в этом просторе, в этих далях с синеющим лесом, и особенно в этих полях с золотистой рожью, по которым так и ходили, так и лоснились волны, поднятые сильным ветром, что-то напоминало Россию. Они долго смотрели в окно… Смотрели до тех пор, пока горизонт снова сузился и пошли мелькать аккуратные особнячки да изгороди да высокая культура. А потом взглянули друг на друга – в глазах у Наташи стояли слезы – и, без слов, крепко, по-товарищески пожали друг другу руки.
Спустя несколько дней их уже обыскивали в Александрове и с чрезвычайной отчетливостью. Очевидно, не в одних интересах фиска… По отвычке нашим путешественникам было немножко стыдно смотреть друг на друга после такой операции. Но станции через две стыд пропал: «Не дым – глаза не ест!» – утверждал Петр Евсеич, и… великая изобретательница таких вот пословиц, Русь, поглотила их в свои загадочные недра.
IV
Струковы поселились на хуторе, в семи верстах от Большого Апраксина и в тридцати от города, расположенного на берегу Волги. Место на хуторе было хорошее. Недавно отстроенный домик из смолистых бревен весело глядел с пригорка на долину. В долине протекал ручей, там и сям перехваченный запрудами; у ручья, недалеко от хутора, широко расползлась большая деревня бывших апраксинских крепостных, за нею виднелась другая деревня, поменьше. В ту и в другую сторону от деревень тянулись холмистые поля; за холмами, точно свеча из желтого воска, горела на солнце своим вызолоченным шпилем выкрашенная охрою колокольня села Излегощей, а на горизонте, на возвышенности, синел лес, отделявший долину от Волги. Вокруг хутора вместо сада росла молодая роща, за рощею развертывалась нетронутая ковыльная степь… Глубокие овраги пересекали ее в разных направлениях. В оврагах гремели ключи, таился густой дубняк, в невероятном изобилии созревала ежевика.
Возвращение в Россию сначала нехорошо подействовало на Наташу. Грустно ей было и по дороге, когда мимо без конца мелькали серенькие виды, чахлые леса, убогие деревушки и еще более убогие люди, копошившиеся на убогих нивах; грустно и в Москве, когда-то внушавшей особый восторг, а теперь поразившей ее беспорядочной грудою камней вместо мостовых, смрадом, пылью, варварской нелепостью красок и зданий. Кремлем, наполовину казенным, наполовину наивным до смешного, Василием Блаженным, о котором обозленный Петр Евсеич сказал, что это «кошмар пьяного огородника»… Ей все грезились иные линии, иные краски, и, всматриваясь из окон гостиницы в цветной винегрет безвкусной московской старины, в разрозненные и скучные диссонансы стиснутого музея, сдавленной городской думы, она чуть не со слезами вспоминала о каменных красотах Рима, Парижа, Лондона, с их благородным темно-серым тоном, с их стройной и внушительной музыкальностью, от которой чем-то мистическим, вечным, зовущим ввысь столько раз переполнялась ее душа.
А в Москве пришлось прожить неделю, пока Петр Евсеич с помощью своих православных знакомых не нашел за триста рублей смелого попа, обвенчавшего Наташу с Струковым без троекратного оглашения и без особых справок об их добрачном состоянии.
Но когда с Ярославля поехали по Волге, Наташа точно переродилась. Настоящей родиной повеяло на нее с этих холмистых берегов, – от привольно раскинутых сел со старинными церквами, от тихих, оригинально построенных городков, от монастырей, когда-то охранявших великую простоту и веру и самосознание русского народа, измученного татарщиной, развращенного смутами, закрепощенного хозяйственной беспощадной Москвою.
И чем дальше «вниз по Волге», тем делалось шире, светлее, просторнее, – так же, как и в душе Наташи… Оригинальность церквей и городов пропадала, старые святыни встречались все реже; но на смену возникали воспоминания, мечты, картины безграничной удали, необузданной воли, каких-то непостижимых характеров, и сил, и запросов, и разгула… И Наташе становилось отчего-то весело и страшно.
И особенно было весело, когда на Волге поднималась «погода» – сильный ветер бил в лицо, чайки тревожно носились над водою, волны роптали с угрожающим шумом, даль курилась от пены и брызг, срываемых ветром, и на горизонте хмурились горы.
И в зависимости от такого настроения все более тускнело перед Наташей то, с чем она так еще недавно сравнивала Москву и едва не плакала, – чужие края расплывались в каком-то тумане, не трогая и не волнуя сердца.
Что до того, что там порядок, культура, красота и захватывающие перспективы теоретической мысли?.. Пусть! Зато здесь свое, родное, дразнящая неопределенность в будущем, демоническая сила в минувшем и, главное – запросы, запросы… без уступки и без ответа.
Алексей Васильевич был первый раз на Волге, если не считать зимнего пути в Чердынь и обратно, и, в противоположность Наташе, испытывал сначала какое-то недружелюбное чувство к этой реке. Она наводила на него, не то уныние, не то досаду. Слишком пустынно и просторно, слишком неуютно, – он не умел подобрать другого слова, – и невольно в его памяти вставала иная Русь: тихие степные речки, светлый прудок с идиллически наклоненными ветлами, мирное спокойствие гладких как скатерть полей, курган в отдаленье, жаворонки в небе, межа, заросшая полынью, пахарь за сохою… такое все смирное, кроткое, – без кровавых преданий и разбойничьей удали, – там, где его Куриловка, где промелькнуло его детство. Только образцово устроенные пароходы, да оживление на пристанях, да вид там и сям возникающей промышленности с настоящим европейским пошибом несколько примиряли его с Волгой, – то есть то самое, что казалось Наташе едва ли не осквернением, а ему – переходом к капиталистической форме труда и, следовательно, к прогрессу.
Впрочем, и Наташа и Струков были здоровы, бодры, веселы и почти по-прежнему влюблены друг в друга. Каждый вечер они устраивались где-нибудь в сторонке за чаем и хлебом с огромным количеством свежей икры и до поздней ночи, а иногда и до зари говорили о том, в чем были совершенно согласны – о предстоящей работе, о жизни на хуторе. И особенно хорошо было то, что некому было вставлять язвительных замечаний: Петр Евсеич, еще больше захандривший после свадьбы, отправился прямо из Москвы по железной дороге.
Правда, Наташу подмывало иногда возражать. То, что она наслушалась в Париже от Верховцева, вдруг смыкалось в ее мыслях с прошлым этой реки, однообразно шумящей за кормою, в воображении невольно сопоставлялись типы и факты минувшего с тем, что совершалось так еще недавно, – и ей становилось скучно от скучной целесообразности их планов и предстоящей работы… Но это быстро проходило от ласковой улыбки Струкова, от того, что он теперь не сердился и не называл Левушкины рассказы «враньем», а с тем же огнем в глазах и убежденным выражением голоса, как когда-то в Лондоне, говорил об эгоистической красоте «революционного героизма» и о том, что народу от этого только хуже.
И еще очень нравилось Наташе, что с каждым днем их медленного путешествия Алексей Васильевич привыкал к Волге, начинал находить особое очарование в ее видах и часто с раскрытой книгой на коленях не отрываясь смотрел в ее даль и говорил:
– Правда твоя, Наташа… В ней что-то есть… Ее можно полюбить, как море.
За всем тем, когда ночью приехали на хутор и когда рано утром Струков вышел на крыльцо, увидал ручей, пруды и долину, ощутил необыкновенную тишину, стоявшую в воздухе и вдруг прерванную петушиным криком и хлопотливым кудахтаньем кур, все в нем так и задрожало от радости.
Почти то же произошло и с Наташей. В это ясное утро она сразу почувствовала, что ужасно устала от отелей, от железных дорог, от многолюдства, от «достопримечательностей», от разных мыслей… и от любви, стремительно заполнившей ее душу – точно разлив в половодье, устала нервами, умом, воображением, и что эта глубокая тишина обнимает ее как теплая вода в ванне. Ей не хотелось ни думать, ни читать, ни разговаривать о тонких и сложных вещах, а просто хотелось дышать этим чистым степным воздухом, непрерывно двигаться, говорить о пустяках, ощущать прелесть мелочей и хозяйственных забот и радостно вслушиваться в тишину. А мелочей и забот было много. То есть все это было на руках приказчика Олимпия и экономки Гертруды Афанасьевны – бесподобных рабов, воспитанных еще бывшими помещиками, но Наташа так же теперь сгорала желанием растрачивать свою физическую энергию, как прежде сгорала в мечтах и в мыслях. В первый же день она обежала весь хутор, осмотрела конюшню, каретный сарай, птичник, амбар, хлевы, кладовые, избу для рабочих, «конторку» для приказчика. Все было обновлено и отстроено в ее отсутствие, от всего пахло свежим лесом, везде уже было населено и наполнено: птицами, коровами, лошадьми, экипажами, съестными припасами… А в доме кое-как стояла мебель, – ее надо было расположить как следует; надо было распаковать ящики с книгами, развесить платье по шкафам, устроить кабинет для мужа. Так несколько дней подряд Наташа не давала никому покоя, носилась, гремя огромной связкой ключей, с озабоченным и разгоряченным лицом, сбила с ног экономку, приказчика, двух кухарок, двух горничных, кучера, рабочих…
– Ну, огонь наша барыня! – говорили вечерами в застольной; говорили, впрочем, с удовольствием, потому что работа кипела без строгости, с шутками, с расспросами о домашних делах и, главное – всем было прибавлено жалованье, для всех улучшена пища и выдавался чай.
Алексей Васильевич чувствовал себя совершенно лишним в такой суете и хотя не мог не любоваться на жену в этой новой для нее полосе хозяйственной страстности, но в глубине души это ему не совсем нравилось.
– Не боишься ты… поглупеть? – посмеиваясь спросил он Наташу, когда она однажды в изнеможении упала на кресло в его кабинете и, машинально перебирая ключи, задумалась о чем-то.
– Ах, создатель мой, да я уж чувствую, что глупа, – ответила она с рассеянной улыбкой. – И как это хорошо, если б ты знал!.. Что ты читаешь?
– Астырева, о волостных писарях. Но надо бы начинать и другое… Знакомиться с крестьянами, узнать про школу…
– Хорошо – Астырева?
– Удивительно правдиво и интересно. Хочешь, вместе прочитаем?
– Отвратительная школа… тесно, угарно… Пять лет, – а в деревне никто не умеет написать письма! Учитель уходит в писаря. Каков-то новый будет…
– Откуда ты успела узнать?
– Все знают. Работник Агафон отлично знает. Поп пьет мертвую. Подпасок Вася две зимы ходил – не умеет читать. Девочек вовсе не пускают.
– Так надо бы поговорить с крестьянами…
– Ах, погоди, миленький, дай образумиться. Хорошо, хорошо, прочитаем вместе… А теперь прощай, надо бежать, коров пригнали… Вот удовольствие – доить, если б ты знал! Отчего ты сам не переговоришь с крестьянами?
«Оттого, что я не хозяин здесь», – хотел было сказать Струков, но промолчал, боясь обидеть жену. В сущности, ему действительно было неловко в роли ничего не делающего и ничего не имеющего «перелыгинского зятя». Противное это словечко он сам подслушал в разговоре кучера с приезжим мясником, и еще слышал, как называли хутор – «зятевым хутором». И он предпочитал, никуда не показываясь, сидеть в кабинете, читать, готовиться к должности мирового судьи, в которую надеялся быть выбранным.
Приходили мужики из ближней деревни, принесли хлеб-соль и два вышитых полотенца; просили сдать отаву под пастьбу, жаловались на «утесненье», – они были на «даренке». Струковы поили их чаем и, неслыханное дело, за одним столом с собой, но отаву, оказалось, сдать нельзя, потому что Олимпий отдал ее купцам под гурты. Алексей Васильевич, гораздо более сконфуженный этим «общением», нежели сами мужики, невпопад спрашивал, некстати употреблял книжные слова и плохо понимал ответы, – и отчасти завидовал Наташе, которая, непринужденно расставив на столе локти, цедила чай с блюдечка и все наводила разговор на училище, выражаясь точно и просто. И крестьяне сразу заметили, что «сила в самой», так что через полчаса Струков свободно мог уйти к себе в кабинет и засесть за книжку Неклюдова: к нему никто не обращался; а когда вышел проститься, то узнал, что Наташа на свой счет перестраивает школу и делается попечительницей и что в будущем году значительная часть покоса и отавы обещана крестьянам.
– Это, миленькие, половина дела, – говорила Наташа, пожимая заскорузлые руки депутатов, – вот поближе узнаем друг дружку, да и хозяин мой осмотрится, может быть, и еще что придумаем. Станем жить по-соседски.
И «хозяин», в свою очередь, прикасался к заскорузлым рукам и, напряженно улыбаясь, бормотал, что очень рад, что в следующий раз он подробно переговорит с ними об их «экономическом положении», и злился на самого себя за эту улыбку и за то, что не говорит по-человечески, а бормочет.
– Погоди, Алеша, образуется! Это оттого, что ты «головастик» у меня, смотришь на людей сквозь книжку… – утешала его жена, когда мужики ушли, и, развеселившись, вскочила к нему на колени, путала его волосы, звонко смеялась, повторяя: «Головастик! Головастик!»
Не все, однако, сидели на хуторе. Иногда Струков отправлялся с Петром Евсеичем по уезду – к предводителю, к выдающимся земцам, к влиятельным помещикам. Иногда в сопровождении того же Петра Евсеича или вдвоем с Наташей они ездили верхом по окрестности… И вот когда ездили вдвоем, их посещали чудные настроения. Этим настроениям не мешало даже и то, что Алексей Васильевич верхом на лошади был труслив и неловок до смешного. Истинный горожанин по своим привычкам, да при том еще русский либеральный горожанин, он был глубоко убежден, что если лошадь не в сохе и вообще не кляча, так она затаенный враг человека, а всякого рода спорт – скучная и зазорная трата времени и денег. И за то Петр Евсеич, страстный спортсмен и знаток лошадей, обливал его учтивым презрением. Наташа жестоко подсмеивалась над ним. Странно было смотреть на них, когда где-нибудь на просторе она нарочно пускала во весь карьер горячего и резвого Карабаха, а Струков летел за нею, угловато сгорбившись, взмахивая локтями, с бессмысленно сосредоточенным взглядом, устремленным на поджатые уши своего темно-рыжего меринка.
– Тише, тише, сумасшедшая! – кричал он. – Уверяю тебя, это хитрое животное собирается сбросить меня с седла.
Наташа оборачивала к нему разгоревшееся лицо, весело хохотала, восклицая:
– О, трус! О, жалкое порождение цивилизации… Смирнее твоего Ваньки нет лошади на свете! – Но наконец сдерживала коня, и они ехали шагом. И как восхищался ею успокоенный в своей безопасности Струков. Грудь ее волновалась, возбужденное лицо дышало какою-то юношескою отвагой, в сияющих глазах светилась самоуверенная удаль… А со стороны можно было подумать, что в этой паре ей, а не ему принадлежит первенство и что слова апостола: «Жена да боится своего мужа», – прозвучали над ними совсем напрасно.
Через лес и холмы пробирались иногда к Волге, и вот где овладевало ими какое-то смешанное чувство восторга и печали. Оставивши лошадей в ближней деревушке, они садились где-нибудь на возвышенности и целые часы проводили там, упоенные видом захватывающей дали, сверкающим пространством огромной реки. На той стороне кудрявились леса, там и сям стройно белелись церкви, в далекой излучине берега пестрел своими крышами небольшой город. По реке медленно двигались барки, плоты, едва приметные лодки, иногда пробегал с торопливым пыхтеньем пассажирский пароход… Порою доносилась заунывная песня, свисток гудел, вызывая в горах протяжный отклик, плакала чайка, взрезая воду острым крылом… И, несмотря на эти звуки и на движение, стояла такая величавая тишина, что в каком бы шумном настроении ни приходили Струковы, они невольно умолкали или говорили вполголоса. Алексей Васильевич сознавал теперь, что было что-то неизъяснимое в картине этой реки с уходящими в бесконечную даль берегами, с загадочным туманом на горизонте. Что-то в ней звало и манило к себе, какие-то крылья вырастали от ее простора, слагались широкие волнующие мечты… Но о чем мечты? Куда лететь на тех крыльях? Откуда слышен призыв и к чему? Не было ответа. «Точно Россия!» – вырвалось однажды у Струкова с некоторым оттенком досады.
– Какое ты слово сказал… – задумчиво произнесла Наташа и, помолчав, глубоко-глубоко вздохнула.
И обыкновенно, возвращаясь оттуда, они каждый раз уносили с собой впечатление какой-то силы, чего-то такого, что повергало их в серьезное раздумье, настраивало их мечты на высокий, немножко грустный лад.
Возвращались обыкновенно к вечеру. Косые лучи ложились на поля; пахло дымком, полынью, спелым хлебом; стада подымали клубы румяной пыли; пастух играл на жалейках, где-то в лесу переливисто и звонко ржал жеребенок; телега стучала по дороге, затерянной в хлебах; колокол гудел к вечерне… А дальше загорались звезды, и тихая теплая ночь мирно опускалась над окрестностью.
В половине зимы Алексей Васильевич стал мировым судьею. Для утверждения в этой должности ему тотчас же после выборов пришлось съездить в губернский город и в Петербург и отдать там некоторый отчет, а Петру Евсеичу пустить в действие все чары и связи своей «фирмы», дабы убедить, кого следует, что это ничего, что судейскую цепь наденет человек, побывавший в Чердыни и Лондоне и женатый на бывшей «раскольнице»… Но в конце концов дело уладилось, и Струков, в пределах тогда уже заподозренной компетенции мировых учреждений, мог беспрепятственно давать суд и расправу тридцатитысячному населению «пятого участка».
Хлопоты по выборам и утверждению, а потом по устройству камеры и канцелярии так и помешали Алексею Васильевичу сблизиться с деревней и чувствовать себя с мужиками как с равными людьми. Затем и то в его глазах все более не подлежало спору, что судье неудобно очень-то сближаться, и достаточно отстаивать правду и справедливость в камере; что же касается до экономических предприятий, он предполагал в ближайшем будущем заменить Олимпия агрономом из саратовской школы, устроить общественную лавку, склад семян и сельскохозяйственных орудий, какое-нибудь кредитное учреждение, – одним словом, все то, что еще намечалось в Лондоне… А пока хутор напоминал в этом отношении усадьбу «хороших господ» при крепостном праве: мужики приходили просить «способьица» и получали деньги, лес, хлеб… даже одежду. Впрочем, непременно «взаймы» и с записью в особо заведенную книгу.
Наташу утвердили попечительницей школы гораздо скорее, нежели Алексея Васильевича судьею. Получив о том бумагу, та немедленно выписала из Москвы учебные пособия, народные книжки, волшебный фонарь с картинами, – просила магазин отобрать по этой части все, что есть лучшего, и пригласила к себе вновь назначенного учителя и того из двух священников села Излегощей, который и прежде преподавал в школе закон божий. Ей хотелось поговорить с ними о плане занятий, об устройстве народных чтений, о воскресных классах и вообще выведать, как они смотрят на «народное образование».
Учитель оказался белобровым и белоусым пареньком из крестьян, с затаенным влечением к цветным галстукам, цепочкам и ярко вычищенным сапогам, с большим презрением к «деревенскому невежеству», но добродушный и как будто готовый усердно подражать «развитым» людям не только в образе их жизни, а и в идеальных стремлениях. В доме Струковых его так поразили красивые вещи, – мебель, гравюры на стенах, бронзовые лампы и часы, рояль с механическим тапером, серебряная посуда в буфете, что он только посматривал вокруг восхищенными глазами, и когда достаточно осмелился, подходил на цыпочках к вещам и осторожно потрогивал их пальцем, а когда еще больше осмелился, стал спрашивать Наташу о цене вещей и благоговейно покачивать головою. Говорил он курьезно. Так, вместо того чтобы сказать: «Погода сегодня хорошая», – он говорил: «Сегодняшний день в атмосфере замечается благорастворение», – и вместо «согласен» – «солидарен», вместо «надеюсь» – «имею в надежде» или «имею в идеале»; лицо называл «физиогномия», прогресс – «прогрессивность» и до слабости любил вставлять слова: «абсолютно» и «рационально». На Наташу он сначала и взглядывать не решался: она его положительно ослепляла – и красотою, и тем, что «роскошно одета» (она была в своем персидском халатике), и что от нее пахнет какими-то «аристократическими духами», и что «очень образована». Но когда совсем осмелился, поощряемый любезностью и простотою обращения, то подумал, что надо поддержать «собственное достоинство», и под конец визита засунул руки в карманы штанов, пытался закидывать нога за ногу, бросал окурки на пол и так развалился на диване, что между жилетом и штанами обозначилось белье. Впрочем, во всем соглашался с Наташей, искренне был готов действовать по ее планам… Эти планы хотя и выходили из пределов отлично им зазубренной школьной программы, но он наивно верил, что такая «богачка» все может.
Во всяком случае Наташа в тот же день написала мужу, бывшему в губернском городе, что учитель – уморительный и наводит на грустные размышления о постановке дела в педагогических семинариях, но кажется, его возможно «обломать». В сущности, ее значительно подкупило то обстоятельство, что Золотушкин – так звали учителя – обещал быть вполне послушным и смотрел на нее как на существо иной, высшей породы.
Гораздо хуже вышло с отцом Демьяном. Тот, как приехал, так мгновенно наполнил дом запахом перегорелой сивухи, шумом своей новой шелковой рясы и каким-то язвительным звуком голоса. И лицо его с оплывшими чертами, с шныряющими по сторонам глазами, с обидчивым и недоброжелательным выражением на тонких губах ужасно не понравилось Наташе. Приехал он не один, а в сопровождении псаломщика, тонкого, вихрястого, длинного молодого человека в отрепанном подряснике, очевидно, запуганного свыше всякой меры и бедного до нищенства, но с умным и добрым лицом, приятность которого даже не портили необыкновенно красные и густые веснушки; под мышкой у псаломщика был узелок.







