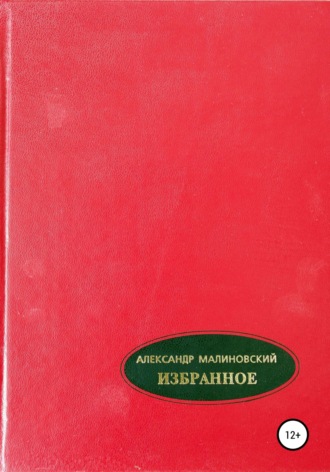
Александр Станиславович Малиновский
Избранное. Том 2
Письмо Жукову
– Пойми ты, голова садовая: пенсия колхозника и пенсия инвалида войны – разные вещи.
Это говорил красивый дядька в черном кителе с двумя орденами и медалями на груди.
Когда Шурка пришел из школы, отец и его новый знакомый сидели в избе и разговаривали. Перед ними стояла наполовину опорожненная бутылка водки, что сильно удивило Шурку.
Гость действительно был необычный: большая кудрявая голова его, цепкие колючие глаза и уверенный тон – все говорило о том, что человек у них не простой.
Шурке незнакомец сразу понравился. Он потихоньку прошмыгнул мимо них к подоконнику, где обычно делал уроки. Мать сидела рядом, разбирала шерсть.
– Мам, кто это?
– Зуев, дядя Костя.
– А кто он такой?
– На фронте майором был, а теперь инвалид, безногий.
– Как? – оторопел Шурка.
Ему не поверилось: такой сильный, уверенный, говорит громко, бодро, заразительно.
– У него обеих ног нету, – сказала мать Шурки, – мы ему с Василием помогли забраться за стол – выше колен обрубки.
– А как он к нам попал?
– Узнал, что Василий на все руки мастер, приехал на своей трех-коляске какие-то тяги ремонтировать.
– А где ж она, трехколяска?
– Да за сенями стоит, разве не видел?
– Ты мне скажи, Василий, ты в райсобесе объяснял свои дела или нет? – говорил в это время бывший майор.
– А что я буду объяснять или так не видно? Разберутся. Получим и мы свое.
– Жди! Хрен да маленько, вот что ты получишь. Я их знаю, тыловых крыс, сталкивался не раз.
Он стукнул кулаком так, что его медали и ордена звякнули звонко и убедительно.
– У тебя когда раны открылись? – Он направил на Шуркиного отца указательный палец, похожий на дуло пистолета.
– Примерно через полгода, – сказал отец Шурки.
– Вот теперь слушай, мать твоя – кочерыжка… значит, если в течение года у участника войны после демобилизации возникает инвалидность, то он считается инвалидом войны; а ты колхозник? Колхозник. Пенсия-то у тебя должна быть раза в два больше, а не двенадцать рублей. Так жить нельзя. Я тебе обещаю – я пробью ваших районных крыс! А ты делай мне мой тарантас, договорились?
Он широким жестом разлил по стаканам водку.
– Давай, рядовой Василий Любаев, грохнем за наши победы. Черт бы всех набрал!
– Подожди, – Шуркин отец взял стакан, подвинул ближе к себе, но пить не торопился. – Я был в плену, – сказал он.
– Каким образом? – как-то очень строго спросил майор, так что Шурке стало страшновато за отца.
– В тридцать восьмом забрали на срочную в Тоцкие лагеря. И закрутило. Уже в сорок втором попал в армию к Власову.
– Во вторую ударную?
– Да, так точно. В плен попал еще не получив оружия, не успел.
– А ранило где?
– Это от побоев, неудачно бежал. Правда, контузило под Выборгом, еще на финской.
– А как освободился?
– Американцы в Германии, когда соседний барак с пленными уже сгорел.
– Да, дела… – почесал затылок майор. – Власова не знал, а вот маршала Мерецкова видел, боевой.
– Мам, он откуда взялся, все знает? – удивился Шурка.
– В Москве жил до войны, приехал теперь в Куйбышев к родственникам. Говорят – герой.
– Василий! Слушай мой совет: Жукову надо писать, Георгию Константиновичу, – твердо сказал Зуев.
– Что ты говоришь, товарищ майор, об этом страшно подумать. Кто я такой? – Отец Шурки безнадежно махнул рукой. – У них просить – это все равно как требовать у попа сдачи.
– Разговорчики в строю, рядовой Любаев! – грозно сверкнул глазами майор. И уже тише и примирительно добавил: – И потом – гвардии майор, разницу улавливаешь? Гвардии…
– Не дури, Константин, я был в плену – в этом весь гвоздь, меня и так органы без конца разговорами манежат – работа идет. Нас четверо всего в живых осталось.
– Ну так не тебя же обвиняют, ты чист, в чем дело? И потом – четыре года уже нет Иосифа Виссарионовича.
– Его нет, другие остались. Покоя хочу, устал. Забыть бы все, – отозвался Шуркин отец.
– Лезь тогда на печку к своей трещине и там спокойно сиди, через нее на небушко поглядывай.
Он помолчал, глядя в стол, ладонью левой руки потер о край стола несколько раз вверх-вниз.
– Подписываемся оба: рядом с твоей фамилией будет моя. Текст я сам напишу.
…Письмо написали и отправили недели через две. Дядя Костя как-то хитро свернул его конвертом и заклеил, потом вложил в другой конверт и послал его своему другу-однополчанину в Москву с просьбой вынуть главное письмо и бросить в московский почтовый ящик.
Маслянка
В Утевке много больших красивых улиц: Крестьянская, Льва Толстого, Фрунзе. Но почему-то самые интересные события происходили все больше на маленьких и дальних улицах: в Заколюковке, Золотом конце, Тягаловке, в Исаках, Смоляновке, Лопатиновке.
На носу масленица – дни, наполненные весельем, снежными забавами. Все как бы неосознанно прощались со снегом, хоронили зиму, балуясь напоследок в преддверии весны. Радовались почти язычески солнцу, весеннему свету. Пекли блины и особенно дети радовались им, совсем не пугаясь приближающегося затем поста. Его мало кто соблюдал, больше было разговоров о нем.
Взрослые ребята во главе с Шуркиным дядей Сережей, недавно вернувшимся со срочной службы, решили сладить на самой большой, центральной улице, около Ракчеева двора, маслянку. Будет и на Шуркиной улице праздник.
Непростое это дело соорудить хорошую маслянку. Перво-наперво надо было одним концом вертикально вморозить большой лом в вырытую посредине улицы лунку. Земля была мерзлая, неподатливая. Пока сделали яму чуть не в метр глубиной, умаялись. На другой конец должно было надеваться тележное колесо. Когда таскали воду для заливки в яму, у деда Проняя Васяева выпросили хороший такой толстый лом, его и вморозили, не торопясь поливая водой. За ночь мороз сделал свое дело. Наутро лом торчал посреди улицы напротив дома Ракчеевых уверенно и требовательно. Тележное колесо нашлось у Ракчеевых, оно еще с прошлого года было припрятано у них за сельницей. Колесо надели на лом, который теперь служил осью, и осталось дело за небольшим: к колесу надо было привязать длинную жердь, а на конец жерди – хорошие крепкие салазки. Две жерди метров по пять длиной принес сам Ракчеев дядя Кузьма:
– Только верните потом. Стышные будут, но ничего, сбейте гвоздями и свяжите проволокой.
Так и сделали. Забава, но помогали и взрослые, артельно все ладилось быстро. Когда же вставили колья сверху в спицы колеса и трое добровольцев с их помощью крутанули колесо, жердь, немного провисая в середине и поднимая снежную пыль, быстро пошла, как циркуль описывая пристроенными на конце салазками окружность, что уже через несколько минут образовались две четкие снежные колеи.
– Андрюха, садись! – озорно прикрикнул Кузьма.
Давний Шуркин приятель Андрей Плаксин словно этого только и ждал. Он лег на салазки животом вниз, правой ногой уперся в дальний угол салазок, левой как можно крепче зацепился за жердину дальше от себя и затаился.
– Пошла, – скомандовал Серега, и толпа уже собравшихся взрослых и ребятишек отхлынула от вычерченного снежного санного круга. Шурка еле успел отступить, как санки с его дружком, набрав за полкруга удивительно быстро скорость, пронеслись поднимая снежную пыль.
Через три-четыре круга колесо так было раскручено, что вращавшие его сами еле за ним успевали, поддавая скорость напором на колья, вставленные в спицы.
«Разматывается Андрюха, как гирька на веревочке», – только подумал Шурка, как Андрея на его глазах сорвало с круга, и он бесформенным комом влетел в толпу зевак.
– Они чуры не знают, крутят по-бешеному, не удержишься! – сказал он отряхиваясь.
Когда еще двое тягаловских, пришедших попробовать, слетели с саней, Шурка пошел пробовать свою удачу. Он уже сообразил, как надо сопротивляться той силе, которая срывала смельчаков. Эта сила шла от колеса по прямой, по жерди через сани и навылет, за круг. «Значит, надо, – думал он, – лечь спиной к центру, ухватившись руками не за сани, а за жердь, обеими ногами упереться в дальний угол саней». Он так и сделал. И казалось, через два круга он поймал свою удачу, но ребята там, около колеса, поднажали на свои рычаги, и он не стал различать опоясывающих маслянку людей – все слилось в сплошную черную массу. Он понял, что не удержится, его стало огромной силой отрывать от жердины, руки слабели, и вдруг его обожгла мысль: он зря так сел. Важно не удержаться на круге, главное – вовремя упасть, ничего себе не сломав. Он почувствовал, что скорость стала большой, тормозов ей нет и может случиться беда с ногами. Его уже и на самом деле отрывало и переворачивало слева направо на спину. Он сжался в комок, поджав колени, и тут же неудержимая сила сорвала его и сквозь толпу, образовав в ней брешь, выбросила в сугроб.
– Ты молодец, – сказал Андрей, протягивая ему его шапку, – продержался десять кругов, столько, может, из наших никто не продержится.
– Тут никто не удержится, – ответил Шурка, выгребая снег из валенка, – силища здоровенная, очень жердь длинная – рычаг, поэтому результат.
– Гришка Варивон на любой удержится, проверено.
– А кто это такой?
– Знакомый один, с ремеслухи, в гости приезжает из Самары. В воскресенье увидишь, – сказал, немножко важничая, Андрей.
– Здоровый?
– Ловкий как зверь во всем. У него все коленки в рубцах.
– Почему? – не понял Шурка.
– Он дерется здорово, от ножей ногами обороняться умеет.
– Ну ты даешь!
– Увидишь сам, я познакомлю.
Подошел дядька Сергей и попросил:
– Как расходиться будем, надо бы полить круг водой, за ночь закостенеет. Поможете?
– Конечно, – с готовностью ответил за обоих Андрей.
– Вот уж тогда-то и твой Варивон не удержится на ледяной дорожке-то, – сказал Шурка.
– Поживем – увидим, – уклончиво ответил приятель.
Картина
Эта картина Шурке понравилась сразу. Ее повесил дедушка Иван в передней на самом видном месте, над столом. В центре был изображен скачущий на гривастом огромном коне могучий всадник, такой же могучий, как каждый из трех богатырей на картине, которая висит над Шуркиной кроватью в спальне.
Шурка заметил, что все в доме любят этого всадника с таким непривычным именем – Тарас Бульба.
Он уже знал историю про Тараса. Знал, что догоняющие его поляки, желтым пятном светлеющие в углу картины, схватят этого великана, и он погибнет. Схватят тогда, когда он остановится, чтобы поднять свою люльку. «Зачем он остановился, зачем он, такой громадный, погиб из-за какой-то неприметной трубки». Незаметно, наперекор всему, Шурка начинал верить, что Тарас так и будет скакать не останавливаясь, а то, что говорят взрослые о его гибели, неправда. «Просто они не знают всего. Вот он поскачет, поскачет, подумает и не остановится, а соберет своих казаков, и тогда они покажут этим ляхам». Привязанность Тараса к своей люльке была для Шурки мучительно непонятна.
Непонятно было и другое. Шурка давно знал, что отец его поляк, а все в доме матери и в доме деда – русские. «Но ведь Тараса Бульбу, которого все так любят в наших домах и которого я сильно люблю, погубят поляки. Так почему же все меня любят – я ведь тоже поляк? – недоумевал Шурка, рассматривая картину. – Они не должны меня любить!» И когда он подолгу глядел на скачущих всадников, ему начинало казаться, что самый первый на коне, догоняющий Тараса, его родной отец. Ему становилось жалко и Тараса, и отца, который почему-то оказался поляком, когда все вокруг русские, и себя.
«Нет, меня не любят в этом доме, а только делают вид, что любят». И он стал с болезненной подозрительностью присматриваться к своим домашним, стараясь обнаружить под их дружелюбием неприязнь. Но ее не было. И он мучился: «Как же с Тарасом, ведь его сожгли, сожгли…».
И вдруг однажды он нашел отгадку: «Если по-прежнему меня любят дома, значит, все-таки поляки не догнали Тараса, значит, он и теперь гуляет где-нибудь со своим войском по такой загадочной земле – Украине».
Речка Утевочка
Утевочка – особенная речка. Она есть и ее нет. Когда весенние воды получат вольную волю там далеко в степи, где глазу не видно конца и края равнине, где только слева далеко-далеко виднеются на горизонте поднявшиеся по светлым тучкам летнего неба домики и церковь села Покровка, объявляется речка Утевочка.
Собравшись в один могучий поток, утробно картавя, пенясь, эти воды устремляются к селу. Подойдя к околице и резко взяв в сторону Самары, он все-таки не минует Утевку, а как острым ножом отрежет от общей краюхи села несколько улиц и прорвется к стадиону, где, благоразумно вильнув влево, войдет в озеро Шамино, а там уж и рукой подать до озера Приказного. И напитает речка на своем пути все не только водой, но и оставит в подарок жирных карпов и карасей. И, запертые в озере Приказном, соберут они толпы рыбаков и рыбачек. И будут рыбаки и рыбачки, пойманные на кукан собственного азарта, топтать берега Приказного.
– Варька, ты долго еще рыбалить будешь?
– Нет, Нюра, парочку еще поймаю, чтоб уж на полную сковородку было.
Такие вот практичные рыбачки, не то что мужчины. Женщин частенько бывает больше в такие весенние дни у озера, до двух-трех десятков.
Веселым и многолюдным становится озеро Приказное весной благодаря Утевочке. Веселыми становятся женщины-рыбачки благодаря речке.
Огород Головачевых упирается в Утевочку и от нее не отгорожен.
Шуркин дед не любит шумливой рыбацкой толпы на берегу озера. Да и к чему ему это? Если он свой вентерь или кубарь всегда поставит у себя в огороде в эту пору между делом. Между делом и опорожнит его, вывалив в тазик чумазые золотистые слитки к восторгу Шурки. Он и зимой не пойдет облавой на зайца, а добудет его здесь же, в своем огороде, деловито и с легкой усмешкой над бедолагами из охотничьей артели.
В русле Утевочки растут раскидистые ветлы и высокие тополя. Есть и осанистый дуб. В огороде деда Ивана стоит старая ранетка, такая древняя, что кажется Шурке, будто она бабушка всем деревьям, всему подлеску, который скор здесь на рост. Шурка поставил опыт: вырезал полуметровый тополиный черенок и воткнул его прямо под ногами, как рука взяла. Теперь из него за два года поднялось деревце выше Шурки. Прет здесь все из земли, что ни посади. Оно и понятно: вокруг чернозем да вода. Хотя летом Утевочки как бы нет, но копни где пониже лопатой на три штыка, и вот она – живительная влага. Разве что в самый засушливый год уйдет влага поглубже, но знает все живое окрест: весна впереди, придет талая вода из Курней, да так напитает землицу, что с лихвой хватит всем и на все.
От Ветлянки, из Курней, через степные просторы, рытвины, огороды, через озеро Шамино прорывается Утевочка частью воды своей в озеро Приказное, а другой частью – в обрамленную желтыми песчаными берегами Самарку, чуть выше притягательного местечка, любимого всеми рыбаками – Платово.
Один разок Шурка рискнул проверить этот путь и больше с тех пор не решается повторить его.
Оттолкнувшись на дедовом огороде веслом от старой ранетки, он направил плоскодонку в русло Утевочки и, подхваченный потоком, совсем быстро, миновав десяток огородов, оставшихся без изгороди, оказался на озере Шамино. Все, что было слева, – залитые водой улицы края села, протока из Шамино в Приказное – ему было известно. Вот то, что бурлило и пенилось справа, – манило непреодолимо, и он поддался собственному порыву. Загребая вправо крепким веслом, Шурка устремился пока еще по довольно спокойной водной глади к Искровской рытвине – в русло Прыгалки.
Как только лодка оказалась на гребне потока, рвущегося через Прыгалку на простор к Самарке, неистово желавшего, очевидно, соединиться с другим основным потоком – самарским и, обнявшись неразрывно, прорваться к матушке Волге, чтобы там, где-то далеко-далеко, выплеснуться в Каспий, Шурка понял: сопротивляться этому желанию невозможно и гибельно.
Грозный и мощный водяной вал, похоже, мог утихомириться, только попав в Волгу.
Пенящаяся, рвущаяся масса воды, несущая в себе доски, бревна, очевидно, сорванные с мостов в верховье, вывороченные с корнем дубы, осокори и всякая другая мелочь и совсем не мелочь – вот что представляло собой русло Самарки. Надо было суметь не попасть под встающие на дыбы в воде осокори, торпедами мчащиеся бревна, не налететь на угрюмый многопудовый топляк. Вокруг все картавило, бурлило и угрожало.
Шурке все-таки удалось уйти с ревущего потока на обочину в осинник на Платово, где, отдышавшись, он устремился через огромное водное пространство назад, в Утевку.
Уже смеркалось, когда его, обессилевшего, но не потерявшего духа, подобрал бывалый Митяга Коршунов, который испытывал в тот день свою самодельную моторку.
– Чудеса, паря, – удивился скорее сам себе Митяга, – я ведь вчера хотел опробовать мотор-то, да бензина не было, сегодня, вот, получилось, едренте.
Шурка смотрел на Митягу и молчал. У него, кажется, не было сил даже говорить. Руки жгло от мозолей: вода и отсутствие варежек сделали свое дело.
Шурка впервые видел моторку. И теперь работающий мотор, Митяга, привязывающий его плоскодонку к своей лодке, голос Митяги откуда-то издалека, глуховатый и, как у деда, ласковый – все было как во сне…
«Чего он суетится, ведь я же доплыл уже», – усмехнулся Шурка и начал терять сознание.
– Чудеса, паря… ек-макарек!
Чуть позже он вновь услышал ворчание Митяги и вяло удивился:
«Где это я, и почему кругом вода?»
…Такая вот речка, Утевочка.
Сейчас зима, и речки как бы нет. Есть маленькие островочки льда.
Но это пока…
В дебрях Уссурийского края
Шурка лежал в темноте на деревянной кровати в закутке за голландкой, и лицо его было в слезах. Жуткие грабители: Морган, Флинт, его бывший соратник отвратительный одноногий моряк Джон Сильвер со своим попугаем из «Острова сокровищ» – все они забылись, стали неинтересные. Бедный наивный дикарь из уссурийских дебрей гольд Узала, дитя природы, далекой и красивой, – он стоял перед глазами. Уже вторую неделю вечерами в дедовой избе читали эту чудесную книгу «Дерсу Узала».
Шурка убегал ночевать к деду, и мама на него сердилась. Но он не мог пропустить эти чтения вслух, когда все в избе, затаив дыхание, ловили каждое слово читающего, боясь пошевелиться.
С первых страниц этой удивительной книги он растворился в ней, как растворились в дебрях Уссурийского края Арсеньев и Дерсу Узала, органично слившись с его обитателями. Этот край манил своим бесчисленным множеством людей, рек, зверей и птиц. Ошеломляли новые слова: изюбр, рассомаха, хунхузы, вепрь, кабарга… Одних названий рек Шурка насчитал около десятка и сбился: река Кумуху, река Витухе, Улэнгоу, Дунгоу, Лефу, Сакхома, Алчан, Кулумбе, Амагу, Пия, Кусун…
Летом он прочитал «Всадника без головы», с начала зимы чуть не всего Майна Рида, озадачив своим темпом чтения библиотекаршу тетю Валю Богатыреву. Но такое с ним впервые. Амба! Уссурийский тигр! Вызывало восхищение отношение гольда к властному хозяину тайги. Поражал мир, незнакомый и манящий, в котором растворены все люди, изображенные в книге, и в который влекло и манило Шурку. «Дебри Уссурийского края». Он и раньше слышал это слово «дебри», оно всегда будоражило его воображение: «и в дебрях бури бушевали» – так часто пели в песне о Ермаке. Было в этом слове что-то необузданное и холодное. А Дерсу Узала был с Арсеньевым в дебрях как дома. Чудесно! Мощь и величие Уссурийского края покоряли.
И вдруг такой конец:
«Часа через полтора могила была готова. Рабочие подошли к Дерсу и сняли с него рогожку. Прорвавшийся сквозь густую хвою солнечный луч упал на землю и озарил лицо покойного. Оно почти не изменилось. Раскрытые глаза смотрели в небо. Выражение их было такое, как будто Дерсу что-то забыл и теперь силился вспомнить. Рабочие перенесли его в могилу и стали засыпать землей.
– Прощай, Дерсу! – сказал я тихо. – В лесу ты родился, в лесу и покончил счеты с жизнью».
Первой пришла в себя баба Груня, она всхлипнула, по-детски икнула и промолвила:
– Вот ведь везде бандиты найдутся на хорошего человека.
А Николай Большак, который приехал из Покровки за овчинами, да так и застрял из-за книги у Головачевых, заключил философски:
– Важнее человека и природы в жизни ничего нет. Писатель все правильно рассказал.
Шурка ничего не мог сказать, у него в горле ком, и он боялся разрыдаться. Хорошо, что закуток отгорожен от общей комнаты цветастой занавеской и его никто не видел.
«Ведь неверно, что Дерсу покончил счеты с жизнью, не он покончил, а его убили. За это кто-то должен отвечать», – эта мысль не давала ему спокойно лежать. «И как же так в жизни получается? Людей убивают, и никто за это не наказан. Пушкина убил Дантес, все знают, и он не наказан. Дерсу убили, сколько лет прошло – никто не знает, кто его убил».
Душа разрывалась у Шурки от несправедливости, и он не знал, что с этим делать.
– Я вам другое чтение привез, тоже очень интересное, как обещал, но это толстая книга, – громко сказал Большаков.
Он шумно поднялся с пола и пошел в сени, оттуда быстро возвратился, читая на ходу:
– Александр Дюма. «Граф Монте Кристо». Эх и история!
– Нам твоя Элиза Ожешко понравилась, хоть и полька.
– А это француз, баб Грунь!
Шурка продолжает лежать молча. Ему казалось странным: как можно так быстро переключаться и говорить совсем о другом. Только все узнали, что убили Дерсу, о котором, правда, еще недели две назад никто ничего не знал, но теперь-то совсем другое дело. Ему страшно жалко Дерсу, обидно за поведение своих, которые говорят уже совсем о другом, а не об этой удивительной книге.
Но дядька Сережа и Большаков берут стоявшую у стены огромную в два метра картину и кладут на два специально для этого поставленных стола. Шурке не утерпеть, он встает и идет к ним. На картине развеселые и разухабистые казаки пишут письмо турецкому султану.
Два Шуркиных дядьки, Алексей и Сергей, вместе с Большаком рисуют ее масляными красками по клеточкам. Рядом лежит то, с чего рисуют: репродукция, вырезанная из какого-то журнала. Прошлый раз дорисовали голого по пояс казака, развалившегося в центре картины, огромного и мускулистого, похожего на тигра Амбу. Чудно: теперь, когда Шурка смотрел на него, он казался совсем иным, чем в последний раз, еще не просохший, зависимый от движения кисточки. Чужой и необузданный, он жил своею жизнью, и она ему была важнее всего.
«Он мог бы убить Дерсу? – задал себе вопрос Шурка и вначале засомневался с ответом, а потом успокоился. – Нет, конечно же, нет: в книжке тигр Амба и Дерсу разошлись мирно, они уважали друг друга».







