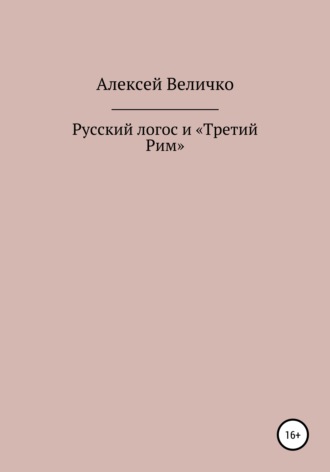
Алексей Михайлович Величко
Русский логос и «Третий Рим»
II
Справедливо утверждают, что государство – высший человеческий союз, пребывая в котором, человек не только поднимается над личными и семейными интересами, осознает себя частью нации и познает идею «общего блага», но и создает верховную власть, возвышающуюся над групповым эгоизмом и частными амбициями, защищающую его от внешних и внутренних угроз и опасностей. Приняв вместе с соотечественниками единый для всего народа нравственный идеал, человек укрепляется духовно как личность, и, находясь под патронажем государственного закона – дитя правды и справедливости, становится «правовым человеком». Общеизвестно, что принадлежность к государственному бытию, способность жить в государстве и по закону – важнейшие качества, свидетельствующие об уровне культуры народа.
Легко убедиться в том, что этнические общности, не сумевшие создать собственной государственности, в нравственном, культурном, бытовом, научном и многих иных отношениях заметно уступают «государственным» народам. Даже языческое античное государство, не познавшее Христа и отождествлявшее понятия «гражданин» и «личность», дало невероятно мощный толчок для духовного, научного и социального развития человека. После же рождения христианской Церкви, принявшей формы Римской империи, промыслительно предуготованной Богом для этой высшей цели, все прежние таланты заиграли с новой силой10.
Но можем ли мы отнести себя к исконным «государственникам»? Оставив даже в стороне дискуссионную «варяжскую» теорию и допустив, что создание первого государства на территории нашего Отечества происходило за счет собственных сил, мы вынуждены констатировать тот неприятный для себя факт, что государственное бытие вовсе не имплицитно русскому человеку. Более того, за свою тысячелетнюю историю мы так и не сумели сравняться с другими христианскими народами по уровню правосознания и не смогли создать личность как повсеместный общественный элемент, а не индивидуальное исключение.
Церкви известно, что власть земная имеет своим источником Власть Небесную, а всякий земной правитель есть прообраз Бога. Властям нужно повиноваться – это частая тема увещеваний со стороны Христа и Его апостолов. «Несть власти, аще не от Бога; сущая же власти от Бога учинены» (Рим. 13:1). Однако едва ли кто-нибудь будет оспаривать тот факт, что для русского человека характерно негативное отношение к власти. Власть боятся, ей покоряются или с ней борются, но кто скажет, что она дана Богом и служит народу?! Да, царя русский человек уважает и на него лишь надеется. Он и есть от Бога, чего нельзя сказать об других управляющих.
«Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится», «при Солнце – тепло, а при государе – добро», «близ царя – близ чести», «народ тело, а царь – голова». Но, вот, вся «остальная» власть – не «его»: «Жалует царь, а не жалует псарь», «царь милостив, да милости его проходят сквозь боярское решето»11. Справедливости ради отметим, что, действительно, в закромах русской истории очень сложно найти положительные примеры, позволяющие нашу государственную власть назвать народной.
Юный А.С. Пушкин (1799-1837) с негодованием восклицал:
«Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть…» (Ода «Вольность», 1817 г.).
Вслед ему сетовал Ю.Ф. Самарин (1819-1876): «Весь наш официальный мир, начиная от станового пристава до министров, все наши учреждения, одним словом – все, что имеет форму учреждения, в глазах народа заподозрено. Это – ложь, обман; ничего и никому он не верит. Ко всей официальной Руси он относится чисто сострадательно, точно как к явлениям природы – к засухе, саранче и т.п. Над всем этим носится в его представлении личность разлученного с ними царя, что-то вроде воплощенного Промысла; но это вовсе не тот царь, который назначает губернаторов, издает высочайшие повеления и передвигает войска, а какой-то другой, самозданный, мифический образ»12.
С ним соглашалась баронесса Эдита фон Раден (1823-1885), близкая к императрице и «в лицах» знавшая высший свет: «Действия нашего правительства за малым исключением ограничиваются глухими интригами, мелкими победами, фальшивыми триумфами»13.
Позднее, уже в предреволюционные годы, «правительство народного доверия» требовали создать представители либеральных партий. Что из этого получилось – известно. «Народное» Временное правительство в считанные месяцы вдруг стало «антинародным». И в дальнейшем, уже при смене советских элит и в постперестроечное время, надежды на преодоление векового разобщения между власть предержащими и обычными гражданами связывались в основном с поиском «настоящих» и «честных» людей, способных направить всю мощь государственной власти не на личные интересы, а на удовлетворение народных нужд. Но как бы ни менялся субъектный состав лиц, вошедших во власть, характер отношений между правящими кругами и подданными всегда по существу оставался прежним: «Власть боится народа, народ боится власти»14.
Вывод отсюда очевиден: бессмысленно винить в отсутствии чувства «общего блага» какую-то одну конкретную группу; все наше российское общество из века в век демонстрировало своеобразное, мягко говоря, понимание власти, как универсальный способ решения собственных проблем. И как бы ни менялись составы правительств и представительных органов различных уровней, но так выходило, что всегда вчерашние «пасомые», садясь во властное кресло, начинали вести точно также, как их ненавидимые и критикуемые предшественники. Осознанно или нет, но мы твердо знаем, что общественной властью пользуются для себя, а вовсе не для народа и Отечества в целом.
Власть, если она противостоит «мне» – плоха, если эта власть – «моя», она хороша. Иными словами, власть не любят и чернят до тех пор, пока она не оказалась в «моих» руках. Очень показательно эта двойственность оценок проявилось в постреволюционное время, когда бывшие красноармейцы «из простых» оказались в «креслах». Они искренне были убеждены, что народная власть в том и заключается, чтобы отодвинуть от кормушки «буржуев» и самим пользоваться благами. Для соответствующих примеров можно обратиться к пьесе В.В. Маяковского (1893-1930) «Клоп».
Отсюда – наше отношение к государству. Никому в голову не придет мысль о том, что высший политический союз является детищем некоего «общественного договора», как полагали, например, Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) и его современники. Когда читаешь строки: «Что есть государство? Союз свободных нравственных существ, соединяющихся между собой, с пожертвованием частью своей свободы для охранения и утверждения общими силами закона нравственности, который составляет необходимость их бытия»15, невольно думаешь: про нас ли они написаны?!
Действительно, для русского человека государство – не система общественных отношений, не особый склад построения общества, а персонифицированный в группу правящей бюрократии левиафан, нечто враждебное ему и во всяком случае – чужое. Государство – это власть, ломающая всех, кто ему не желает починяться, а не союз свободных лиц со своими правами и гарантиями.
Потому В.В. Розанов (1856-1919) и утверждал: «Государство ломает кости тому, кто перед ним не сгибается или не встречает его с любовью, как невеста жениха. Государство есть сила. Это – его главное. Поэтому единственная порочность государства – это его слабость. «Слабое государство» – contradiction in adjecto. Поэтому «слабое государство» не есть уже государство, а просто нет16. Надо полагать, это – хрестоматийное отношение русского человека к государству; причем – не самое негативное.
И нет никакой странности в том, что в России вовсе не обязательно быть «государственником» или «законником», чтобы слыть приличным человеком. Никто не удивлялся, что казнокрады, взяточники, мошенники в обычной жизни являются милыми, честными, добрыми людьми, любящими свою Родину и готовыми отдать за нее жизнь. «Вот почему, – писал К.Н. Леонтьев (1831-1891), чьи слова мы сейчас кратко привели, – я не люблю «гражданских» обличений»»17.
Не права и свободы, ни внешняя безопасность и защита от посягательств на здоровье, имущество и саму жизнь ассоциируются для русского человеком с понятием «государство», а именно власть, как способность одного лица принудить другого под угрозой наказания выполнить его волю. Да, власть может обезопасить, защитить, но за это она потребует «меня» всего – и уже для удовлетворения своих собственных нужд. Даст на рубль, возьмет на пять.
И, как легко убедиться, это восприятие власти играет в сознании русского человека доминирующую роль, все окрашено в ее цвет. Поэтому, государство для нас не res publica, а символ власти. Церковь – не символ милосердия, не общество братьев и сестер во Христе (это как раз характерно для русских сектантов, обособившихся от остального мира; они «сестры» и «братья», пусть и избирательно, для себя), а властная иерархия, (патриарх – епископ – священник – прихожанин). Личность признается таковой («уважаемый человек!») не в силу ее божественного подобия, а лишь потому и тогда, когда она имеет власть, неважно какую, хотя бы в виде «начальника шлагбаума».
Быть может, в силу бесполезности попыток изменить жизнь к лучшему (если, разумеется, ты не «во власти»), может, по иным причинам, но русскому человеку присуще некоторое «социальное монофизитство»: социальная среда ему безынтересна. «Общее благо», если и есть у кого-то на слуху, имеет характер не более чем «мистификации». А потому наш общественный быт издревле был покрыт трещинами личного интереса, питавшего центростремительный процесс разложения единого общественного тела. Разве может в таких условиях естественным путем образоваться народность? Ведь она «состоит не в личных свойствах, а в общей идее, т.е. в принадлежности к общей духовной сущности, связывающей отдельные лица не только между собой, но и с отдаленными предками; от этого люди говорят: наш язык, наша история, наша литература, наше отечество. Тут есть общее духовное состояние, которое каждый признает своим»18.
Имели ли его мы? Едва ли. Как свидетельствует история, до монголов единого государства, которое можно назвать «Великой Русью» попросту не существовало, а после татар все вообще раздробилось на обособленные княжества, каждое из которых жило своей удельной жизнью. И далеко не всегда для рязанцев, например, москвичи или новгородцы казались роднее литовцев или германцев. И потому главным созидателем нации и ее главным защитником явилась именно нелюбимая народом власть в лице государства, как группа управляющей элиты. При самом деятельном участии Церкви в лице священноначалия – об этом мы скажем ниже.
Именно ненавистное государство, как персонифицированный властный, жестокий и беспощадный рок, стало для России той скрепляющей силой, которая не давала нашему Отечеству развалиться на атомы и создало русскую нацию. И.Л. Солоневич (1891-1953) доказывал, что Русское государство росло естественным путем по мере присоединения отдельными разбойными ватагами и шайками лихих людей новых территорий. Что-де строгановым и демидовым, ермакам и хабаровым и в голову не приходило создать, например, в Сибири или на Камчатке «свое» государство19. Потому и не приходила, что они от государства бежали, а власть настигала их, постепенно силой включая в свою орбиту новые земли и людей, не позволяя им раствориться в безбрежных сибирских лесах. Самим же Строгановым и Демидовым не было никакого резона бежать от власти, они к ней принадлежали, пусть и не в высших эшелонах.
Мы любим говорить о том, что вернее всякого закона русского человека держат христианская совесть и нравственность, братский дух соработничества и соборности. А К.Н. Леонтьев утверждал обратное: «Нет, не мораль призвание русских! Какая может быть мораль у беспутного, бесхарактерно, ленивого и легкомысленного племени? А государственность – да, ибо тут действуют палка, Сибирь, виселица, тюрьма, штрафы и т.д.»20.
Несложно убедиться, что создание Московского государства сопровождалось не желанием восстановить некогда единую политическую целостность Русской земли (таковой, попросту говоря, никогда не существовало), и не обеспечить «общее благо» для всех русских живущих в разных удельных княжествах, а идеей приумножения Великим князем (равно как и его конкурентами) своих земель за счет соседей. В духовных грамотах Московских князей с древних лет нет и намека на государя, осознававшего себя верховным представителем всего общества. Есть лишь забота князя-отца о своих сыновьях и супруге, чтобы каждый из наследников по завещанию (иными словами, по его личной воле) был наделен достаточным имуществом. Поэтому, в духовных грамотах устанавливаются отношения сугубо семейные, родственные, гражданско-правовые. «Спрашиваем теперь: есть ли во всем этом какая-нибудь государственная мысль?», – задается справедливый вопрос.







