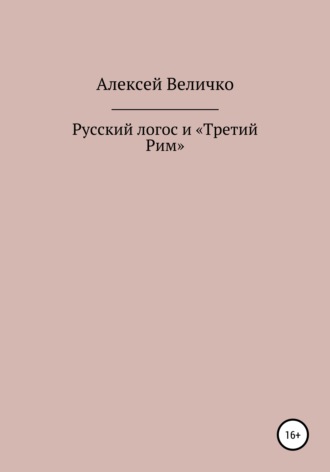
Алексей Михайлович Величко
Русский логос и «Третий Рим»
Наконец, существовало наказание в форме групповой поголовной ответственности по процентам, за убийство должностного лица, неуплату налогов и т.д., когда наказанию подвергался каждый десятый или даже каждый пятый из определенной группы32.
И, возможно, не так уж и не прав был К.Н. Леонтьев, писавший более 130 лет назад: «Род наших пороков таков, что равноправная легальность едва ли у нас привьется…»33.
IV
О русском человеке можно многое сказать. Что он – чрезвычайно стоек, легок к самопожертвованию ради ближнего и высокой идеи, но вполне способен разменять жизнь на пустяки и вовсе не дорожит ею («жизнь – копейка!»), как своей, так и чужой, смиренен по отношению к властям, но не лишен и бунтарского духа, который часто выдается за стремление обеспечить торжество справедливости хотя бы и путем ломки существующего порядка, склонен к коллективистским формам бытия (не индивидуалист, одним словом), но едва ли может считаться умелым организатором общественного быта, добр и незлопамятен, но иногда жесток до невероятности, непрактичен и наивен, но если практичен – то до ничтожных мелочей, консервативен до ретроградности и уже потому, хотя бы, религиозен. Иными словами, он весь соткан из крайностей: в одних случаях – фаталист, в других – активен до полного отрицания своего прошлого и настоящего во имя счастливого будущего («мы наш, мы новый мир построим…»). Если верит в Бога – то до святости, аналогов которой трудно найти вовне, а разуверился – так до неистового безбожия, вводящего в изумление даже бесов.
Едва ли все это следует отнести к каким-то врожденным чертам характера, скорее следует согласиться с тем, что русское «единство крайностей» обусловлено другой причиной, о которой говорил некогда С.С. Глаголев (1865-1937): «Наш народ ни на чем исторически не воспитался, у него нет глубоких и крепких навыков»34. И действительно, укорененной в народе многовековой культурой мы едва ли может похвастаться.
Уже не один год автора этих строк занимает неприятный вопрос: в силу каких причин наш человек, попадая на постоянное место жительства за границу, максимум во втором поколении перестает быть русским, а чаще всего уже и в первом, прожив несколько десятков лет на чужбине? Причем, это касается не только европейских стран, но даже стран «второго» и «третьего» мира. Ведь, по законам социологии высшая культура поглощает в себя низшие: славяне на Балканах ассимилировали завоевавшее их землю болгарское племя, римо-галлы – германцев (франков), расселившихся на территории нынешней Франции, византийцы – остготов, а англосаксы культурно переродили в англичан своих захватчиков норманнов. И вдруг – такое исключение из правил в нашем лице!
В крайнем случае, можно было бы ожидать, что, пребывая в изгнании, русские люди организуют на чужбине свое мини-общество наподобие тому, как это устрояют немцы, китайцы, евреи, ирландцы, итальянцы, армяне; и те веками существуют, строго охраняя свою культуру, национальные обычаи и традиции. А получается– наоборот! Тогда следует признать что-то одно: или культура не настолько глубоко и прочно сидит в русском человеке, либо дифирамбы в ее честь явно незаслуженные, или, наконец, русская культура, которой восторгается мир, существует, однако ее носителем является сравнительно небольшая группа лиц. Иными словами, что она – не общенародна и покрывает собой лишь относительно немногочисленные социальные группы.
И в самом деле, оценки людей, которых никто не упрекнет в отсутствии любви к России, в этом отношении нелицеприятны:
«Как племя, как мораль мы гораздо ниже европейцев», – без обиняков констатировал К.Н. Леонтьев35.
«Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден», – писал А.И. Герцен (1812-1870)36. А, следовательно, добавим мы, масштабен по своему распространению, заливая собой всю страну.
П.Я. Чаадаев утверждал: «Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили»37.
«Что у нас творится! – горевал Ю.Ф. Самарин. – Катастрофа в области идей, разложение всех нравственных убеждений, тщедушное бессилие и дряблость воли под этим истерическим хохотом, криком и свистом, заглушающим всякую мысль, – все это не ново, не неожиданно, а все-таки приводит в отчаяние»38.
Можно, конечно, доказывать (и вполне убедительно), что поверхностность нашей великой культуры, вовлеченность в нее только отдельных социальных групп и лиц обусловлена вековыми тяжелейшими проблемами выживания, которые история ставила перед нашими предками39. Это и в самом деле многое объясняет, но никак не дает нам повода утверждать, будто бы Россия всегда являлась культурным оппонентом Западу, впрочем, как и Востоку.
Для кого-то окажется неприятным этот факт, но при всей изоляции Руси связь с Западом существовала всегда. Так, уже наши первые «Уставы» князей св. Владимира Равноапостольного (978-1015) и св. Ярослава Мудрого (1016-1054) содержат множество прямых заимствований из римо-католического канонического права. В частности, положение о церковной десятине, которая не была в то время узаконена на Востоке в форме прямого правила, а также отнесение к области церковного суда странноприимных домов и вопросы обеспечения точности мер и весов. Конечно же, этими двумя примера влияние церковного Запада на Древнюю Русь не ограничивалось, оно весьма значительно. Через Польшу и Болгарию русские князья и епископы имели возможность узнать западную церковную жизнь и принять лучшие ее аналоги. Они же неоднократно вступали в переписку и прямое общение в Римскими понтификами40.
Но и в дальнейшем ситуация не изменилась. После приезда в Москву Софьи Палеолог (1472-1503) – воспитанницы, к слову сказать, Римского епископа – в Москве отмечается сильнейшее увлечение западной культурой. Что, впрочем, вполне объяснимо на фоне нашего тотального бескультурья тех лет. И в последующем масса католических идей грела сердца наших иерархов и была положена в основу тех или иных соборных решений. Так, еще в начале XVI столетия в России появилось сочинение, составленное по поручению русских архиереев, абсолютная компиляция католических богословских и канонических трудов, доказывающее превосходство священства над царством, дабы подтвердить тем самым неотчуждаемость от Церкви (вернее, священноначалия) вещных прав на церковное имущество41.
Уже неудобно напоминать (в очередной раз), что «Константинов дар» – известная фальшивка VIII века, к тому времени повсеместно на Западе признанный таковым, почитался в Москве среди архиереев как догмат Церкви. И патриарх Никон (1652-1666) даже включил его в состав «Кормчей книги» – самой современной редакции к тому времени русского номоканона. Он же искренне полагал справедливым учение Римского папы Иннокентия III (1198-1216) «О двух мечах». Если бы речь шла только о Никоне – не беда, однако проблема заключалась в том, что его мнение разделял весь русский епископат из поколения в поколение.
Нельзя, разумеется, отрицать, что почти всю свою историю Русское государство существовало под духовным окормлением Христовой Церкви. Тем удивительнее тот факт, что именно в части духовной культуры нами создано поразительно мало: философия в России началось с сочинений В.С. Соловьева, каноническое право – работ Н.С. Суворова (1848-1909), т.е. со второй половины XIX столетия, труды Святых отец и Учителей Церкви также начали систематически издавать лишь с середины того же века, богословие родилось благодаря святителю Филарету (Дроздову) – память 19 ноября и святителю Игнатию (Брянчанинову) – память 30 апреля. При всем кипении духовной жизни в России, при многочисленных монастырях и духоносных старцах, аскетах и прозорливцах мы не создали ничего своего в каноническом праве, механически применяя то одни византийские или католические правила прежних эпох, то другие.
«Просматривая десятки громадных томов, наполненных канонами национальных Соборов разных западных стран, не считая даже папских декретов, и не видя в истории России до конца XVI в. почти никаких соборных канонов, невольно приходишь к альтернативе: или русский народ по свойствам своей натуры не нуждался в дисциплине, потребность в которой ощущалась в Западной Европе, или же им слишком мало занимались»42.
Но отсутствие собственных национальных канонических правил, которые должны были образоваться для регулирования нашей, русской церковной жизни, еще полбеды. Показательна в этом отношении «Кормчая книга», изданная в 1650 г. от имени царя Алексея Михайловича (1645-1676) патриархом Никоном. В себя она механически включает правила Вселенских и некоторых Поместных Соборов, Святых Отец, разные «археологические» правовые сборники вроде «Эклоги», «Закона судного царя Константина Великого», «Прохирона» Византийского императора Василия Македонянина (867-886), различные акты императора св. Юстиниана Великого (527-565), компиляции из законодательства Моисея и т.д. Но не содержит ни единого сугубо русского канонического акта!
Крепко держась за «старину», которая в массе своей заимствована от греков и католиков, но выдавая ее за свою, исконно русскую, мы пребывали в вечном испуге перед переменами. «Все боятся культуры, т.е. различения, оценки, анализа, без которого культура невозможна. Отсюда всегда пугливая оглядка на прошлое, потребность «возврата», а не движения вперед. Все всех зовут куда-то и к чему-то «возвращаться», причем возврат этот оказывается, одновременно, и концом, завершением истории посредством апофеоза России»43.
Отсюда – множество негативных явлений, которые мы не любим афишировать. Например, нам слабо присуща свобода слова и вообще право иметь собственное мнение. «Говорят, в Западной Европе за мысли, считавшиеся еретическими, сжигали. Это правда, но надо заметить, что сжигали обыкновенно после публичных диспутов, после опубликования идей, которые потом провозглашались преступными. Мысли давали родиться и высказаться, а не душили ее в потемках так, чтобы она оставалась никому неизвестною»44.
Наша культура, безусловно, возникала из родников народной жизни, но насыщалась силой, идеями и содержанием из западных аналогов в неменьшей степени, чем из отечественных или греческих. Поэтому, и говорить о нашей «исключительной самобытности» едва ли уместно. «Насчет созидания, насчет творчества, самобытного устроения, прочности и т.п. Россия остается еще сфинксом; способна ли она ко всему этому – еще вопрос, и очень горький даже»45.
Хуже того, что, став достоянием очень незначительной на фоне остального населения группы лиц, русская культура не орошала собой человека. Отсюда – наше вопиющее и неистребимое по сей день бескультурье, особенно в быту и в труде…







