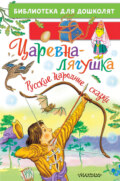Алексей Толстой
Повесть смутного времени
Московские наезжие купчишки кричали на торгу воровские слова про царя Бориса. На Петров день стольник Мясев, наш воевода, велел одного купчишку схватить, его схватили, и били на площади кнутом, и пол-языка ему отрезали.
Но народ не унимался. И вот пошли слухи про царевича Димитрия, что не зарезан-де он в Угличе, а скрыт был князьями Черкасскими и увезён в Литву, и ныне, войдя в возраст, собирает войско в Самборе – итти воевать отцов престол и опоганенную православную веру.
Помню, великим постом вышел я за ворота послушать, как звонят у Николая Чудотворца, – звонили хорошо, унывно. Денёк, – тоже помню, – был серый. За рекой галки летали: поднимались под небо и тучей падали вниз, на чёрные избы, – птиц этих было видимо-невидимо. Думаю: «К чему бы столько птиц над слободой!»
В это время проходит мимо нашего двора странный человек в сермяге, в лохмотьях, а сам гладкий, румяный. Идёт, руками болтает, – прямо к площади, где толчётся народ на навозе у возов. Остановился этот человек, засмеялся и стал указывать на птиц: «Глядите, – кричит, – воронья-то, воронья!… Не простые птицы – вороны… Народ православный! – шапку с себя, войлочный колпак, содрал. – Народ православный!… Кто в бога верует, читайте истинного царя нашего грамоту!…»
Кинулся этот человек к столбу, у которого у нас на торгу воров казнили, и на гвоздь нацепил грамоту – в полполотенца, внизу на ней печать – на шнуре. Народ побросал воза, лотки, зашумел, сбился кучей к столбу, и дьячок Константинов стал читать…
«Во имя отца и сына и святого духа. Не погиб я воровским промыслом злодея Годунова, ангел божий отвёл руку убийцы, зарезали иного отрока, не меня. Ныне я собрал несчётные полки… После Петрова дня выйду из Поляков на русскую землю воевать отцов престол… А вам, всем православным, крепко стоять за истинную веру и за Бориса не стоять, а кто захочет – бегите к казакам на Дон».
Тут все сразу увидели, что прелестная грамота была от царевича Димитрия. В народе закричали: «Постоим, не выдадим!» – и шапки кверху начали кидать. И шапки летят, и вороны летают, – жуть!
В то же время приезжает на площадь воевода, стольник Мясев. Стегнул плетью по жеребцу, прелестную грамоту со столба рукой сорвал и велит стрельцам народ разогнать. Началась великая теснота. Стрельцы ударили на крикунов, стали рвать одежду, а народ знай лезет к воеводину коню.
«Говори, – кричат, – правду: кто истинный царь – Годунов или Димитрий?… Животы хотим положить за истинного царя».
Дьяка Грязного стащили за ногу с верха, и били безвинно топтунками, и волокли по навозу, – хотели топить в полынье под мостом. Воевода воровства не унял, – ни с чем уехал на свой двор, велел затворить ворота.
Так шумел народ на торгу до сумерек. А ночью занялась слобода, загорелась сразу с двух концов. Забил набат. Говорили потом, – колокола сами звонили на колокольнях.
Весь город проснулся, вышел на стены. Видели – снег был красный, как кровь. Птицы – вороны тучей поднимались над пожарищем, над великим огнём. И ещё видели в небе, над дымом, над тучей птиц, простоволосую женщину: волосы у неё торчали дыбом, на руке держала она мёртвого младенца.