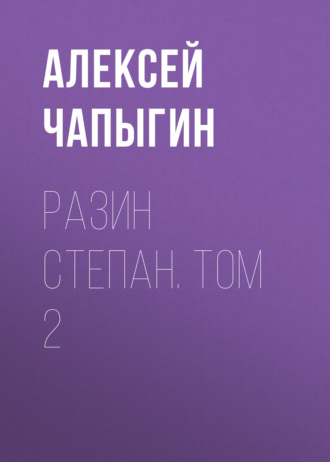
Алексей Чапыгин
Разин Степан. Том 2
Отъезжая с атаманом в город, Чикмаз сказал:
– Батько, надо ба у Васьки Уса в дому пошарить Шпыня. Сдается мне, лютой пес убил есаула!
– Где был караул в тое время, Григорий?
– Да караул, батько, все время был и на чутку расскочился, дуван какой-то делили.
– И я знаю тоже… Шпынь! Искать его не здесь и не теперь, будет место! Подите все на дело… Я же, коли увижу надобное в сыске, позову.
Есаулы уехали. Чикмаза Разин остановил:
– Григорий, все ж тех, кто был в карауле, опроси строго.
– Опрошу и приведу к тебе их, батько.
Чикмаз поехал догонять есаулов; Разин подъехал, слез, привязал белого коня Лазунки у крыльца дома Васьки Уса. Есаул в бархатном красном кафтане, в желтых чедыгах, шитых шелками, вышел на крыльцо без шапки, низко кланяясь, сказал:
– Гости, дорогой гость!
– Удумал вот! На свадьбе не был, дай, мыслю, заеду с похорон. И дивно! Всех есаулов на могиле друга в лицо видал, а тебя, брат, не приметил!
– Ох, знаю, Степан Тимофеевич! Поруха большая, да, вишь, недужен я, и болесть моя людям опасна… Оттого в кругу твоем не был, когда ты суд-расправу чинил… И жену себе взял не по жребью, а так охотна к тому нашлась.
– Что ж за болесть, Василий?
Васька Ус переходами и лесенками привел атамана в большую горницу, где был накрыт стол, поставлены меды хмельные в серебряных золоченых братинах. В блюдах таких же мясо жареное, виноград с дынями в сахаре на тарелках. Сели за стол, есаул сказал, наливая в чашу мед:
– А ну-ка, гость дорогой, испей, да судить, о чем хошь, будем!
– Без хозяина не пью, таков мой норов.
– Мне, вишь, лекарь претит пить.
– И я не буду!
– В измене зришь меня? Зато боишься, Степан Тимофеевич?
– Оно на то схоже.
– А, ну коли! Запрет ради тебя кину, изопью мало…
Есаул налил себе кубок меду, выпил, чокнувшись с атаманской чашей, стоявшей нетронутой. Разин чаши не поднял, глядел упорно в лицо есаулу. Ус налил кубок из другой братины и также, позвонив о край чаши, выпил. Разин поднял чашу, сказал:
– Налей из третьей, пей со мной!
Есаул налил из третьей и, чокнувшись с Разиным, выпил.
– За здоровье твое, брат! Что ж за болесть у тебя, даве спросил, да умолчал ты?
– Болесть моя от коня! Завез ее ту с ордынских степей башкир, поставил в ряд с моим конем одра гнойного. Конь от башкиров болесть принял. Я же на том коне путь держал, и теперь по мне чирьи кинуло, гной потек, из носу сукровица пошла, и нос, видишь, спух… Спасибо лекарю, задержал болесть. Чирьи на мне палит каленым железом, поит отваром коей травы с живой ртутью и антимонией…
– Страшная болесть!.. Ты мне скажи, Василий, кто убил Лазунку?
– Должно, Степан, Хфедька Шпынь, сатана нечистая, – то его работа!
– Где ж дьявол кроется?
– Да уж не думаешь ли, атаман, что в моем дому всякой худой собаке я даю сугреву?
– А думал я так, Василий! И мекал, что за княжну ясырку ты доселе зол на меня… в измене тебя считал.
– Вот ладно! Да нешто моя шея петли просит, что я на ближних людей убойцов навожу, обчее дело топлю, будто худой рыбак старую лодку?
– Какая корысть Шпыню от себя убить Лазунку?
– Корысть, брат Степан, молышь? У дикого человека нет корысти, а вот послышал я от татар, кои гоняют на Москву, что Лазунка, когда был от тебя послом, скрывался на Москве. Шпынь же за то, как ты его под Астраханью на буграх в шатре тяпнул в рожу, измену к тебе затаил… Сам он несусветно злой человек… падучей болестью бьется порой. А таковые завсегда дики, и глаз их недоброй, обиду сколь годов носят в себе.
– То правда, Василий! Был хмелен – он же мне говорил обидное, и я бил Шпыня.
– И вот, Степан Тимофеевич, Шпынь заварил злое дело. Проехать ему хошь по облакам не страшно, коней прибирает таких, от которых ездоки отступились, пути не боится – татары, горцы знают его. Проехал он на Москву да бояр, как доводили мне татары, оповестил… от царя ему корм шел, а Лазунка стрелся с ним и его как изменника нашему делу из пистоля ладил кончить, да, вишь, не добил черта! Шпынь же погнал следом… и в отместку убил…
– То правда! Лазунка говорил, что бил. И не добил, должно? Эх, Лазунка, Лазунка!.. А ну – пью!
– Пей во здравие… не опасись. Тебе был я братом и буду таковым впредь…
– Василий, дай руку!
– Вот моя рука, Степан!
– Камень ты с моей души отвалил, Василий. Тяжко было думать мне, что под боком свой брат сидит и на меня точит ножик. Теперь вот! Завтра или день сгодя уйду с Астрахани, время зовет! Тебя же оставлю атаманить, и ты, Василий, тех людей, кого не кончил я в день расправы, не убей… Паси и не губи князь Семена, да старика митрополита не надо убивать… Эх, не сдымается рука моя на древних людей! Он и ворчлив, все почести не мы ему дали – царь… льготы – торг и тамга монастырская… учуги тож. А век его недолгий, пущай помрет своей смертью!
– Буду хранить твой запрет, брат Степан!
– Где ж, думаешь ты, Василий, тот Шпынь теперь?
– А думаю я вот, Степан Тимофеевич: те же татары, кои были здесь и под Синбиреск шли, сказывали: «Обещался быть к нам козак – Шпынь». И, должно, ушел под Синбиреск. Татарва ему свой брат… Конину он жрет из-под седла сырую, как сыроядцы, и ты его, Шпыня, опасись под Синбиреском…
– Черт его середь татарских улусов сыщет!
– Да чтоб коло тебя не объявился, дьявол!
– Прощай, Василий! Лечись и не загинь.
– Прощай, Степан Тимофеевич, дай бог пути!
Атаман спустился по лестницам. Васька Ус поглядел на отъезжающего в окно, походил по горнице, заложив за спину руки, подошел к тому же окну, сказал:
– Эх, незабвенна ты, память о Зейнеб персицкой! И я тебе за то, Степан Тимофеевич, перестал быть слугой и братом! Кипит кровь!
Вошла девушка служанка со свечой зажженной в руке, в другой держала железный прут.
– Тебе чего? С огнем среди бела дня!
– Лекарь, Василий Лавреич, указал печь развести.
– Топи, справь дело да зови лекаря!
Изразцовая печь потрескивала, за дверями скрипел пол, и голос спросил:
– Можно ли к хозяину?
– Иди, старик, велел я.
Вошел с киноварным большим кувшином под пазухой старик с прямой узкой бородой, в черном колпаке и белом, как его борода, кафтане, долгорукавом и длиннополом. Поклонился низко.
– Что зачнешь чинить?
– Лечить да жилы сучить, есаул батюшко! Вот перво пей-ко из моей посудины… Кафтан-то я сброшу, там у меня подкафтанье. Те с узорочьем посудинки пошто? Сказывал, от хмельного держись, надобно гнилую кровь в тебе убить… Хмельное же гнилую кровь по телу разгоняет, и загнивает она там, где ей гнить не след…
– Пил мало, старик! Нельзя… Хмельное вражду утишило: гость пришел, не хотел пригубить моего, покуда я не пил.
– Не приказывай таких гостей.
– Не звал и не желал – сам наехал.
– Сам? Ну, уж тут двери не запрешь, коли щеколда завалилась.
Старик налил коричневой жижи в чашу с наговором:
– «Цвет полевой растет на сугорах… Кровь очищает, хворь гонит вон из тела… Жабы ли квачут, беси ли скачут в человече – все вон!.. Все вон!.. Без щипоты, ломоты в костяк раба Василия – ни в белом теле его… ни в ретивом сердце… хворь, гниль не держись! Аминь!» Пей, батюшко!
Васька Ус выпил чару жидкости.
– Ух, пошло по телу!
– Тут я девке, коя печь разжигала, дал жилизину малую, указал ей кинуть в огонь, – чай, накалилась? Ты, родной, нынче как терпеньем-то? Буду чирьи жечь.
– Мне, дедко, хоть шкуру с живого дери, не охну.
– Скидывай кафтанишко, рубаху тож до гола тела. Тело бело, мясо ело… – бормотал старик, пока Васька Ус раздевался.
На бронзового цвета теле, непомерно широком в плечах, под лопатками зияли глубокие, с синими кромками две гнойные язвы, третья, пониже, засохла и сузилась.
– Вот вишь, Васильюшко! Огню-то спужалась, прижгли – она и зачахла.
– Дуже гарно, дид!
– А говори ты по-нашински! Годи, я ветошкой гной-то сниму да на огне спалю. После потерпи.
– Ладно.
Старик, таща из печки железный прут с концом, накаленным добела, ворчал:
– Паскудница… нажгла братой конец, что держать не можно… Ну, благослови, Господи!..
Подпаленное в язвах тело начало трещать.
– Трещи, сатана!.. Вылезай из окна – чур, чур… Не крепко ли подпекает, родной? Можно дух перевести – печь добрая, жилизину подогрею.
– Пали, дид! Ништо, мало кусает.
– Крепок ты, Василий, бог с тобой. И телом каменной. Оттого справимся с окаянной привязухой… Иного уж в гроб загнала бы в един месяц – до новца месяца не дожил бы.
– Жги! Едино, что муха бродит.
Тело затрещало снова. Язвы стали черными.
– Ну, и одежься! Низ твой чистой – идет сверху, проклятая. А наверху мы ее поуняли мало. Только хмельного пасись! Пить будешь – врачеба моя не поможет.
– Спасибо, бородатый. Деньги бери у жены.
– Теперь прости-кось!
– Испей меду, старик!
– Хмельной-то пакости? Нет, сынок. На угощенье окаянном благодарствую.
Старик ушел. Васька Ус продолжал так же, как до того, спокойно и мерно ходить по горнице, иногда лишь останавливался у стола и косил глазами. Потом крякнул громко, решительно шагнул и, нагнувшись, понюхал запах крепкого меда. Оглянулся и, взяв братину, налил через край большую чашу, выпил.
«Э, да все люди, окромя чертей, сдохнут!..»
Налил другую и снова жадно выпил. Походил по горнице, налил третью, поднес ко рту. Рука дрогнула. Есаул взмахнул рукой, выплеснул на пол хмельное, крикнул:
– Эй, девка! Убери погибель мою!
6
Барабанным боем в кремль призывались есаулы и были все с Васькой Усом. Разин уезжал из Астрахани на Лазункиной лошади, свою вороную отдал Чикмазу.
– Слушайте, есаулы. Оставляю в атаманах Василия Лавреича Уса…
Есаулы слушали, сняв шапки. Разин передал Усу атаманский чекан:
– Суди, чини суд-расправу! Будь, Василий, справедлив, бедных не тесни налогой и тех, кто с нами идет – дворян, дьяков, сотников, десятников стрелецких, – не обижай, не черни моего лица неправдой!
– Буду чинить, Степан Тимофеевич, по правилам!
Есаулы проводили Разина за слободу и вернулись. Один Чикмаз дольше всех ехал на вороном коне, опустив к гриве лошади сивую бороду.
– Не ладно, батько, учинил! Изверился я в Ваську Уса – не бывать правде на Астрахани.
Разин пожал руку Чикмазу:
– Гляди за ним, Григорий! И, сколь можно, доводи мне, как атаманит Лавреев. Прощай!
Через неделю власти над Астраханью Васька Ус, в синем бархатном кафтане, в запорожской шапке, в сапогах красных, расшитых золотом и шелком, сильно хмельной, стоял среди воеводина двора. Поодаль вкруг стрельцы с бердышами в красных кафтанах. По бокам два накрачея с воеводскими накрами.
Двор воеводы обнесен высоким тыном наподобие острожка; снаружи до половины стояков тын осыпан землей. Кругом всего тына копаны рвы до ворот широких двора. К воротам Васька Ус поставил караул из двух стрельцов с самопалами и бердышами. Накрачеи забили в накры, собрались есаулы, встали близ атамана. Васька Ус, высоко подняв большую руку с атаманским чеканом, крикнул:
– Гой, стрельцы, подите на двор к князю Семену Львову, волоките его сюда!.. Закуем да пытать будем! Сколь у него казны и добра с народа грабленного есть?!
Опустив чекан и проводив цыганскими глазами уходящих по приказу стрельцов, атаман пошел в воеводский дом; есаулы, кроме Чикмаза, провожали его. Счищая с сапог о ступени грязь, Васька Ус прибавил громко:
– А там будет черед и его преподобию! Голова митрополичья трясется направо, а мы ее наладим налево трястись.
Стал подыматься на лестницу.
Есаулы молча шли за ним.
У Самарской луки
Высоко над Волгой, на третьей ступени Девичьей горы, среди редких елей раскинут шатер атамана. На ступенях горы до шатра рубленые сходни в толстых бревнах. Книзу по Волге, в бухте за Девичьей горой, стоят струги и боевые челны атамана. На стругах на железных козах-подкладках горят огни. На палубах говор, шум хмельной и песни под звон домры. Звонче других и чище голосом поет круглолицый, матерый, с пухом черной бороды брат атамана – Фролка.
Шатер атаманский из парусов; под парусами, лицом в шатер, ковры натянуты. Раскинуты ковры и по земле до половины шатра. У дверей разложен огонь. Пламя огня поддерживает атаманский бахарь и песенник, старик Вологженин. Иногда пространной невидимой грудью вздохнет горный ветер, зашумят ели, засвищут их ветки, шевельнет ветром полотнища шатра, вставшего на дороге, но сдвинуть стен шатра не может волжский ветер – покрутит пламя, широкими горстями кинет золото гаснущее искр на ковры, тогда ярче зеленеют сапоги атамана да блещут на них подковки. Черный кафтан на атамане подбит лисицей, оторочен по подолу и вороту бобром, правая пола отогнута, под кафтаном кроваво-красный кармазинный полукафтан, за кушаком пистолеты. Атаман лежит на подушках, облокотился на толстый низкий пень срубленного дерева, глядит в широкий разрез дверей, и видно ему берег дальний, слитую в туман землю с небом при свете как будто накаленного добела месяца. Не пьет атаман, думает, сдвинув на лоб красную бархатную шапку. Думает свое старик бахарь у дверей шатра и заговорить с батькой не смеет. Видит атаман, как старый сказочник прячет от припека огня свою домру за ковер, чтоб не портились струны.
– Что ж ты, дид, играть закинул? Песня мне не мешает…
– Аль не чуешь, атаманушко, как брателко твой Фрол Тимофеевич взыгрался? Чай, до Самары гуд идет! Я же к тому гуду тож причуиваюсь…
– На черта мне игра Фролки! Саблей играть не горазд. На домре старикам играть ладно – козаку не время нынче… Играй ты.
Выволок старик бахарь домру, потренькал, настраивая, и, припевая, стал подыгрывать:
Гей ты, синелучистое небо над маткой рекой!
На тебе ли пылают-горят угольки твоих звезд вековечные…
Твоим звездам под лад
Под горою огни меж утесами, камнями старыми…
Прозывается место прохожее «Яблочный квас».
А те звезды – огни все поемных людей,
Из-за Волги-реки приноровленных.
То огни у костров ерзи-мокши людей со товарищи…
Кто не чует – я чую огни, голоса,
Кобылиц чую ржание!
Да огни у нагайцев, идет татарва,
Со улусы башкирия многая…
А к огням у своих – мужики прибрели,
Русаки к русаку присуседились.
С головой на плече супротивных своих
Не одна и не две, много, много боярских головушек
Принесли мужики к заповедным огням.
С головами боярскими – заступы,
Принесли топоры, вилы, косы с собой.
Пробудилась, знать, Русь беспортошная!
Эх, гори, полыхай злою кровью, холопское зарево!
На лихих воевод, что побором теснят
Да тюрьмой голодят, бьют ослопами до смерти…
Мы пришли вызволять свои вольности
С атаманом с Стенькою Разиным
От судей, от дьяков, от подьячих лихих,
Подавайте нам деньги и бархаты,
Нашим жонкам вертайте убрусы-шитье
Да тканье золотое со вираньем!
Не дадите, пойдете, как пес, меж дворы
Со детьми да роднею шататися,
Божьей милостью – с нашей мужицкой казны
И убоги и нищи кормитися.
Подадим, коль простим,
Не простим, так подохнете с голоду…
– Хорошо, дид, играешь! В песне бахвалить нелишне.
– Пошто бахвалить, атаманушко? А глянь, сколь огней кругом и силы народов разных там в долине да на сугробах и меж щелопы…[140]
– Много силы, старик, знаю я… Но вот что, ежели бы ты ехал в упряжи да конь твой зачал бить задом да понес бы тебя и ты слез и загнал коня в болото ли альбо в стену, – кнутьем бить зачал, да?
– Да уж как, атаманушко батюшко! Ужели дать неразумной животине голову мне сломить сдуру?
– Так вот: народ – конь, седок – боярин аль выборной большой дворянин – жилец. За спиной боярина ездока – седок! Шапка на седоке в жемчугах, видом шлык, на шлыке крест. А зовется тот седок царем.
– Вот ты куда меня завел, старого.
– Вышел я с народом платить лихом за лихо: по отце моем и брате панафиду править и всю голую Русь, битую, попранную в грязь воеводами, поставить. И радошно мне, мой бахарь, как орлу, наклеваться рваного мяса. Но чтоб бояра меж дворы пошли кусочничать, в то я не верю… Не верю, не пришло время. Оно придет!
– Ой, атаманушко, придет же то времечко?
– Придет… в то я верю! Пущай нынче боярство не отдаст свои вольности, и не то дорого! Пущай подумает: «Не век-де мне верховодить, когда так мою власть тряхнули»…
Атаман умолк и еще больше надвинул на глаза шапку. Заговорил старик, теперь не боясь нарушить думы атамана:
– Вижу я, батюшко Степан Тимофеевич, стал ты сугорбиться. Великий груз пал тебе на сердце!
– То, дид, правда.
– А ты бойся с тем грузом тамашиться… Утихомирься, и надо верить: худо – будет худо; добро – оно завсегда добро… Ино и больших человеков, как ты, тот груз ране времени в сыру землю гнетет… зор свой соколий не мути. Замутится зор, и груз окаящий калеными щипцами охапит сердце.
Атаман поднял голову и сел.
– Вот, дид, удумал я! Скинь-ка ты этот размахай козацкой, дам тебе полушубок да сапоги крепкие и вот на дорогу.
Атаман протянул бахарю кожаный мешок с деньгами:
– Бери!
– Ой, батюшко! А и денег тут! Чем я заслужил такое?
– Бери и молчи! Пробирайся, старичище, на Москву хлебопросом, и никто тебя, нищего, не тронет… В Москву зайдешь, сыщи в Стрелецкой слободе на пожарище дом. Там, сказал мне Лазунка, памятной мой, нынче выведены анбары каменны. За анбарами тот дом, до крыши врос в землю… В ем жонку сыщи, Ириньицей кличут. Скажешь от меня, и сын там мой… Тебя замест родного примут… А буду на Москве, увидишь и узнаешь, как быть…
– Чую, батюшко! Сапоги не надоть, полушубченко, не новой только, будет нелишним, в лапотцах убреду, онучи лишь приберу суконные.
– Добро! Иди да, где можно, бренчи песни. Последняя ты моя забава в пути, и не расстался бы, да время движется боевое, быть тебе со мной негде…
– Так уж и идти?
– Ночь проспи, може, еще сыграешь альбо сказку скажешь. В утре пойдут струги вверх до ровного места, снимут тебя от гор… и иди!
Разин встал, шагнул к обрыву, загудело в горах и на реке от громкого голоса:
– Фролка, дьявол, буде песни играть, зову-у!
– …у-у-у-у… – гремело кругом.
Внизу зашумели. Затопали, заговорили.
– Батько!..
– Батько!..
Вверх по сходням к атаманскому шатру полезло бойко зеленовато-синее пятно. Атаман вернулся в шатер и лег, как лежал прежде. На звездном небе в разрезе шатра стояла высокая фигура в казацком жупане, круглое лицо вспыхнуло пятнами огненных отсветов.
– Что потребно брату-атаману?
– Бери, Фролко, из сотни Черноусенки пятьдесят лучших козаков да Федьку самарца, есаула, переправьтесь в Самару. В Самаре новой воевода кончен, а старой, вишь, жив… Царь его на суд хотел звать и пас, велел ему жить до зова в Самаре, а мы того Хабарова к суду возьмем народному, нашему, и боярыню его толстобрюхую тож… Жалобились мне самарцы, когда я ихним берегом шел, что-де «нового воеводу порешили, а старой лютее был и еще живет за посадом в своем дому нетронутой». Так вы с Федьком (там его невеста есть, и я ту невесту ему много раз обещал, пускай ее сыщет, возьмет да едет на Дон в Кагальник, и я туда нынче буду, чтоб послать к бою Степана Наумова да с матерыми козаками за голутьбу посчитаться) воеводу Хабарова повесьте за ноги на ближней колокольне альбо за ребро на крюк… и чтоб не сорвался! Боярыню, жену Хабариху, изнабейте порохом в непоказуемое место, фитиль приладьте, пущай на потеху народу из ее хорошо стрелит. Пыж забейте потуже, чтоб крепко рвануло…
– Справим по указу, брателко Степан!
– Оттуда, отпустив Федьку на Дон с невестой, поезжай ты с козаками вверх под Желтоводский Макарьев… Пошел туда с хоперскими ребятами есаул Осипов. Соединись с ним – пугните святых отцов. Чул я, в монастырь тот бояра да купцы большие казну свою попрятали и многой харч. Гоже будет взять то на нас. Иди!
Фролка будто провалился беззвучно за дверями шатра.
Атаман приказал:
– А ну же, дид, скажи мне потешное что-либо… надвигаются большие дела… Сошелся мой мног народ, воеводские люди тож не дремлют, их полки наперед нас под Синбирск налажены. И малы дни, не до сказок будет. Голоса твоего, кой любил я, не услышу… Кто знает, гляди, последний раз сидишь ты, мудрой, в моих очах?!
– Да пошто так, атаманушко? Захоти, и я с тобой поеду, коло боя буду. А изведусь, то пожил на свете, не жаль мне помереть близ тебя…
– Нет! Идти со мной тебе не надо, а делай так, как указал я. Теперь же сказывай.
– Так сказку?.. «А был, видишь ли, батюшко атаманушко, поп глупой да попадья неразумна тож. Удумал тот поп, со своего ли ума аль же из пришлого, на гарбузе жеребенка высидеть…»
– Добро придумал!
– Да-а… «Куря-де цыпляток высиживает из яйца малого, я же из такой большой местаковины безоблыжно усижу большое» – и засел на печи… Попадья тому много рада: «Уж коли попу этакое дело задастся, так разведем мы коней; за попом и я сяду!» Сидит поп; рясой оболокшись, день, два сидит и за неминучей, чтоб гарбуз не застудить, с печи не лезет… Много ли прошло с той поры, как сел поп, неведомо, только в избе стал дух непереносимой… Терпела, терпела попадья – невмоготу стало, на изгаду тянет. Словами донимать была не мастерица, зато на руку скора. Нажгла попадья до калена железа крюк в печи и с челесника[141] попу сует.
– Бес ты, не поп!
И выгнала попа каленым крюком. Сама на брюхо пала, в избу дверь распахнула от нехорошего духу. Поп завернул тое место, батюшко, в полу да нашел себе усохут[142] с гарбузом на задворках у угла в соломке… Сидит и радуется: «Вишь-де, зачало подо мной шевелиться, – скоро, чай, жеребчик загогочет!» А оно шевельнулось спуста, оттого что гарбуз промзгнул[143]. Думая, поп во сладости вольной поветери вздремнул мало… А и выскочи на тую пору из-за угла небольшенький жеребеночек – матку, вишь, потерял – и загогочи. Скочил поп, примстилось ему, что проспал цыплятя жеребячьего: «Сам-де, неладной, кожуру копытцем исклевал, из-под меня вывернулся да сгогатыват!» Как положено, у попа под рясой порток не было, ряса в соломке завалилась – время не терпит, и ну за жеребеночком по полю ноги удергивать, аж зад меледит! Рысистой был поп-от… сам голос подает:
– И-и-го-го! Я – твоя матка и батько…
Увидали попа с жеребенком мужики… С тех пор повелось у народа прозвище – поп жеребячья порода».
Рассмеялся атаман, подумав, сказал:
– Попов не люблю!.. А вот поди ж ты, поп сытой да поп голодной тоже разнят: сытой коло царя, бояр сидит, голодной сам замест мужика пашет и тягло несет, и те попы, что от народа, говорят: «Едино что в руках держать: топор ли, Еванделье…» Те попы за нас, вольной народ, в церквах молят. И больше того: нынче у гонца имали наши воеводчну цедулу. Воевода царю доводит: «Заводчики бунтов пущие – козаки, стрельцы дa попы с горожанами», – и списывает попов поименно.
– Многих попов, знаю я, батюшко, воеводы на правеж ставят едино, что и мужика тяглого.
– Вот то! Я же никого не тесню, кто идет со мной. Ты подремли, я пожду поры, и, може, мы с тобой на остатках пировать будем.
Старик приладился в заветренную сторону шатра к огню. Атаман задумался и смолк.
Немало протянулось часов, уже дальше полнеба пробрела луна, почти догорел костер в шатре атамана, еще лишь пылали большие головешки, и те покрывало пеплом. Тишина легла на Волгу. Только кто-то один на стругах, разухабисто посвистывая, стучал пляской резвых ног по деревянному настилу с припевом:
Эх, тешшу грех!
И невестку грех!
Ну, а братнину жену-у…
И этот последний затих. Атаман, сутулясь, поднялся, сверкнули под зеленым от блеска огня подковки на сапогах. Шагнул. Встал за шатром на обрыве.
Около Самарской луки серебряным измятым полукругом бежала Волга. В ее мелких волнах, вспыхивающих белыми огоньками на камнях, горели – так показалось атаману – бесчисленные жадные глаза и раскрывались рты.
Подумав, Разин глянул вниз реки, вправо. Там меж холмами и горными утесами горели сотни костров, теснились у огней люди в мохнатых одеждах, сверкали топоры, копья и рогатины, отдаленно ржали лошади.
– То моя сила. Ну же, воеводы, опытки дадим друг другу… И безоружны мы, да ненавистью к вам богаты, и воля вольная повалит на вас стеной многоголовой!
Кое-где на косах отмелей – на серебре – чернели смоляные груды застрявших стругов, желтели расшивы, кинутые купцами. Бока расшив заворочены, закиданы песком, растрепанные упорной работой богатырской реки. Через реку, кидая по бокам жемчуг, плыли две темных будары на веслах, мотались головы лошадей, и мерно двигались взад-вперед рыжие шапки гребцов.
– Фролка с товарищи в путь…
Покосился атаман вбок на угрюмую зубчато-косматую тень Девичьей горы, далеко кверху реки замутившей ясную ширь. Нагнулся к обрыву, дрогнули тишина и заволжская поемная даль от страшного голоса:
– Гей, моя удалая сарынь! Поволил атаман гулять!..
По воде вниз брызнули желтые искры; по стругам затопали ноги:
– Батько кличет!..
– Эй, не вешай зад, не ходи пузат!
– Вина Степану Тимофеевичу, гей!..
Плеснуло по воде. Еще и еще – широко запрыгали, мешаясь с лунным отсветом, желтые огни.
– Дер-жи-и!
По сходням сонной горы вверх полезли люди.
Атаман с сизым отсветом по черному, сверкнув подковами сапог, повернул в шатер. На развешанных темных коврах, спиной к Волге, встала его большая неясная, как тень, фигура. Под кромкой красной шапки седеющие кудри казались золотистыми в свете бродячих огоньков.




