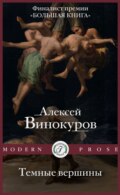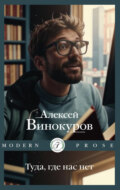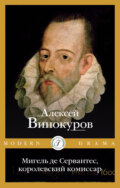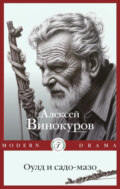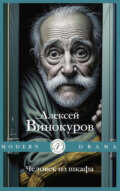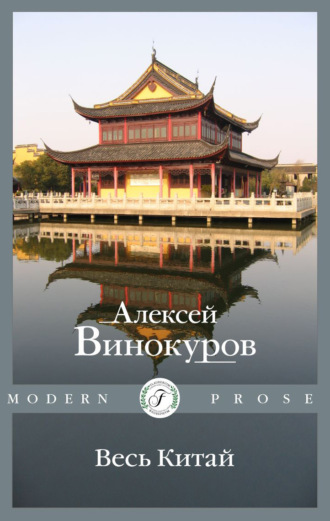
Алексей Винокуров
Весь Китай
* * *
Первый раз с китайским отношением к воде я столкнулся еще на родине.
Как-то раз в Москве я зашел в гости к знакомому китайцу. Решил после улицы помыть руки, пошел в ванную. Помыв руки, увидел два маленьких полотенца, висящих на вешалке. Взял одно – оно было влажным, взял другое – оно тоже оказалось влажным. Вытереть руки после мытья так и не удалось.
Тогда я еще толком не знал китайских обычаев, не знал, что моются они редко, а в целях гигиены просто протирают себя влажными полотенцами.
До сих пор, кстати, во многих китайских домах не предусмотрены не только ванны, но даже душ. А те, кто хочет помыться, могут протянуть шланг от раковины к бельевому тазику, а еще лучше – сходить в баню.
Но это, так сказать, традиции, о причинах которых мы говорили выше.
Гораздо интереснее, что и вообще китайцы в большинстве своем воду не любят, воды боятся и даже плавать не умеют.
Когда мы с женой приехали на китайский курорт Санья, в первый же день, выйдя на улицу, мы увидели компанию взрослых китайских мужчин, которые, надев на себя спасательные пояса, «плавали» в лягушатнике метровой глубины. Они фыркали, как киты, вопили, таращили глаза и явно были горды своей отвагой.
По нашим наблюдениям, китаец, приехавший на курорт, старается не заходить в воду выше колена. Если вода достигает бедер – это уже серьезный риск, а если поднимается до груди – просто безумство.
Бывают, конечно, отважные «спортсмены», которые специально тренируются, а, попав на морской берег, бросают вызов стихии, и не просто стоят в воде, но даже подпрыгивают в ней, и, страшно подумать, плавают. Но и тут они не заходят слишком далеко и плавают отнюдь не к горизонту, а исключительно вдоль береговой линии, на метровой глубине.
Хотя, если китайцы за что-то берутся, они в это часто вкладывают все силы души и сердца и занимаются делом, пока не свалятся с ног. На том же Хайнане мы видели женщину, которая так вот плавала вдоль берега, и доплавалась до того, что ее просто вынесло набежавшей волной на песок лицом вниз. После этого она минут двадцать лежала на песке ничком, как выброшенная черепаха, не в силах подняться или даже переползти хотя бы на метр вперед – а жестокое море заливало ее волнами.
Ясно, что при таком отношении к воде человек, который умеет хорошо плавать, воспринимается либо как опасный сумасшедший, либо как полубог. И, опять же, можно понять, почему китайцы так восхищались Мао Цзэдуном, который неоднократно переплывал реку Янцзы, пусть даже и не в самой широкой ее части.
Справедливости ради заметим, что примерно с пятидесятых годов прошлого века в Китае стали появляться отдельные очаги моржевания. Видимо, китайцы решили, что если уж плавать, то в ледяной воде. Во-первых, польза для здоровья, во-вторых, издалека видно, что ты настоящий революционер.
Как правило, такие заплывы собирают целую толпу зрителей, которые усердно пялятся на это представление.
* * *
Попадая в толпу китайских зевак, понимаешь, что слово «пялиться» было придумано в первую очередь именно для китайцев.
Больше всего на свете китаец любит развлечения, вар-вар. В число развлечений входит множество занятий, начиная от еды и кончая (кое-где) привычкой выть волком. Обычай глазеть и пялиться стоит у китайцев на одном из первых мест, уступая, может быть, только еде.
Я это понял еще в начале девяностых годов прошлого века, когда впервые приехал в Шанхай. Если я отрывался от основной группы, вокруг сразу же скапливалась кучка зевак, которые совершенно добровольно сопровождали меня повсюду.
Уже много позже, в двухтысячные, мы с женой как-то зашли в небольшой ресторанчик на окраине Пекина и заказали еду. Мимо проходило несколько китайцев. Увидев нас через окно, они застыли на месте, раскрыв рты.
(Когда я говорю «раскрыв рты» применительно к китайцам, это следует понимать буквально. Многие китайцы, если видят что-то необычное, редкое, удивительное или просто интересное, на самом деле раскрывают рты. А некоторые так и ходят все время – с раскрытыми ртами).
Итак, китайцы увидели нас в ресторанчике – явно семейном, небольшом – и раскрыли рты. Но на этом они не остановились, потому что тут безусловно намечалось зрелище.
Не говоря худого слова, китайцы вошли в ресторан, уселись за соседний столик и стали разглядывать нас с необыкновенной откровенностью, присущей только китайцам. Так они глазели на нас несколько минут, потом к ним подошла хозяйка и сурово сказала:
– Нечего сидеть просто так. Хотите смотреть на иностранцев, платите по юаню с носа.
К нашему величайшему удивлению, китайцы безропотно вытащили деньги и отдали хозяйке. Теперь они разглядывали нас уже на законных основаниях.
– Слушай, – сказал я жене, – да ведь так можно бесплатно обедать. Приходим в какой-нибудь ресторан, договариваемся с хозяином, он нас кормит бесплатно, а сам собирает юани с любопытных, которые пришли на нас посмотреть.
– Нет, – сказала жена, – не выйдет.
– Почему?
– Во-первых, мне это не нравится.
– А во-вторых?
– Во-вторых, скоро наши физиономии примелькаются и народ перестанет на нас ходить.
Она, как всегда, оказалась права. Мы даже в этот раз серьезно разочаровали зрителей.
Они вероятно, ждали, что мы начнем прыгать, ходить по стенам, танцевать и вообще вести себя, как дикие, каковыми мы являемся по своей иностранной сути. Но мы сидели спокойно, ели палочками, пили пиво и никаких увлекательных коленцев не выкидывали.
Посидев еще минут десять, обманутые в лучших ожиданиях китайцы горько вздохнули и двинулись на выход.
* * *
Чем объяснить неутолимую страсть китайцев к зрелищам? Думаю, ответ на этот вопрос кроется отчасти в национальной психологии, а отчасти – в исторических обстоятельствах.
Испокон веку зрелища являлись одним из немногих доступных простому народу развлечений. Чтение книг было мало кому по силам: грамотность давалась долгими годами упорнейших занятий, да и денег стоила. Наслаждаться живописью или другими видами традиционных искусств тоже было нельзя – все это находилось в домах богатых людей, куда кого попало не пускали. Даже уличные цирковые представления или доступные спектакли китайской оперы случались далеко не каждый день. Таким образом, если зрелищ недоставало, китаец устраивал себе зрелище сам – из ближнего своего.
Обычно таким зрелищем становился любой чужак. И это понятно – какой смысл смотреть на соседа по хутуну, которого и так видел тысячу раз. К тому же он и обидеться может. Чего, скажет, смотришь? Не узнал?
Но идеальным объектом разглядывания, конечно, становится иностранец. Он не просто чужак, он и выглядит по-другому, говорит иначе, приехал невесть откуда, и вдобавок ответить тебе не может.
Учитывая количество китайцев, живущих в Китае, непривычному человеку переносить все эти взгляды довольно затруднительно. Бывает, идешь как сквозь строй: под градом взглядов – любопытных, заинтересованных, нарочито безразличных, неприязненных или откровенно презрительных.
Со временем, конечно, привыкаешь. Да и сами китайцы со временем все меньше и меньше пялятся на иностранцев.
Однако, если вас слишком беспокоит взгляд незнакомого китайца и деваться вам некуда, открою вам способ мирно разрешить проблему. Надо просто подойти к нему, и спросить, например, который час. А если не можете, то просто скажите: «Ни хао!» Скорее всего, китаец разулыбается, и вы можете считать себя уже почти друзьями. Почему? Потому что у вас возникли связи – гуаньси.
Нет, конечно, они еще не завязались, они едва наметились, как тончайшая возможность, которую может сдуть любой случайный ветерок, но все же, все же… А вдруг вы сможете быть полезным новому знакомому, вдруг у вас завяжется деловое партнерство, вдруг он благодаря вам разбогатеет? То есть реализуется пресловутый цзихуй, он же китайский шанс.
Но даже если ничего этого не случится, все равно человеку будет приятно, что вы выделили его из полутора миллиардов других китайцев. И конечно, он перестанет смотреть на вас волком, а при случае даже и поможет.
* * *
Надо сказать, что от нахальной привычки глазеть и пялиться страдают не только иностранцы. Страдают от этого и сами китайцы.
Дело в том, что история двадцатого века в Китае – это история чужеземной оккупации, переворотов, войн, революций и общего хаоса. В такие времена, как известно, первыми погибают представители образованного сословия. Так же случилось и в Китае.
Ситуацию усугубило еще и то, что во время правления Мао Цзэдуна за образованными людьми охотились целенаправленно: их подвергали унижениям, пыткам, выселению из городов в деревни на перевоспитание, разлучали детей с родителями, наконец, просто казнили и убивали без суда и следствия. В результате к концу двадцатого века окультуренное городское сословие было вытеснено необразованными крестьянами.
Представление этих людей о цивилизованности было самое поверхностное, а чаще всего его просто не было. Но именно они стали олицетворять собой образ типичного жителя Поднебесной. Становится понятно, почему дурные манеры китайцев сделались притчей во языцех.
Однако в середине семидесятых к власти в Китае пришел Дэн Сяопин. Он тоже не был ангелом, каким его иной раз рисуют, но все же при нем состоялись важные экономические и социальные реформы, страна немного вздохнула, простой народ перестал умирать с голоду.
Понемногу восстанавливалась система образования и культуры, начисто уничтоженная при Мао, люди стали ездить за границу. В начале третьего тысячелетия Китай и вовсе стал одним из лидеров по части применения компьютерных технологий, границы сделались прозрачными, появился общедоступный интернет. В результате городская цивилизация мало-помалу стала восстанавливаться. И вместе с ней стали меняться люди.
У молодого поколения сейчас уже другое мироощущение, другое представление о норме, чем у их дедов. Они уже не чувствуют себя деклассированными крестьянами, захватившими брошенные квартиры – нахальными и плохо воспитанными. Молодому китайцу уже не так нравится, когда при нем громко кричат, плюются, рыгают. Еще меньше ему нравится, когда на него пялятся, как на обезьяну в зоопарке.
И молодежь придумала свое противоядие от старинной китайской привычки. Если кто-то глядит на человека слишком пристально, тот подскакивает на месте, округляет глаза, открывает рот и смотрит на любопытного с выражением, которое можно передать словами: «Ух ты, братишка! Сколько лет, сколько зим!»
Помогает ли это? Чаще да, чем нет. Признаюсь, этим способом пользовался даже я сам. Правда, визави в таких случаях бывает недоволен: зачем иностранец помешал ему глазеть на себя и лишил законного развлечения?
Глава 4, в которой появляются хитрые рикши и поддельные грибы бессмертия, а китаянки делают иностранцам лавстори
Иностранец, как уже говорилось, является неотъемлемой частью животного мира в Китае. Тут он легко обгоняет кошек и вполне успешно конкурирует с собаками.
Хотя к собакам и иностранцам у китайцев отношение сложное. С одной стороны, и те, и другие достаточно понятливы, идут на окрик «хэлло», в целом добродушны и едят любую дрянь, какую им ни подсунешь. С другой стороны, и те, и другие – дикие, волосатые, по-человечески не говорят, а если разозлятся, могут и укусить.
Из собаки можно сварить суп – очень полезно для здоровья, особенно в зимнее время. Полезен ли для здоровья иностранец – вопрос до сих пор открытый.
* * *
Разделение на своих и чужих в Китае – вещь не такая простая, как может показаться. Граница тут довольно зыбкая, и не всегда она проходит по государственному или национальному признаку.
Китаец для китайца тоже может быть чужим. Если, например, он приехал из другой провинции, другого города, уезда или села.
Туристы это разделение чувствуют в первую очередь, когда хотят что-то купить. Тут, действительно, китайским торговцам есть, где развернуться.
* * *
Пытаясь продать товар туристу, китаец обычно несусветно задирает цену. Турист смотрит на него и не понимает: то ли китаец идиот, то ли его самого держат за идиота. Обычно людям не нравится, когда их считают идиотами. Значит, идиот все-таки китаец? Но это вдвойне обидно. Получается, что этот идиот считает идиотом меня…
Да, туриста часто пытаются обмануть. И даже не потому, что он иностранец, а просто он чужак и не разбирается в местной жизни. Так же точно китайцы обманывают китайцев из других городов.
Вот вам примеры, которые мы наблюдали лично.
* * *
Два скандинава из нашего отели взяли рикшу – прокатиться по кварталу. Пришло время рассчитываться.
– Договаривались на двадцать юаней? – спрашивают туристы.
– Двадцать – это на одного, – уточняет рикша, – а вас двое. Значит, сорок.
– Хорошо, – со вздохом соглашаются туристы, вытаскивая деньги.
Но разговор еще не закончен.
– Двадцать – это на одного и в один конец. А вас двое, и вы съездили туда и сюда. Значит, восемьдесят.
Туристы уже недовольны, но что делать – их никто насильно не заставлял.
Однако шоу продолжается.
– Мы, – говорит рикша, – договаривались на двадцать юаней (эрши куай). Но это были американские юани (мэйкуай). Значит, с вас восемьдесят долларов.
Таким образом, туристы оказались должны рикше за десятиминутную прогулку в двадцать четыре раза больше, чем рассчитывали сначала.
* * *
Другая история, где жертвой оказывается свой же брат китаец.
Идем мы по торговой улице, слышим разговор продавца и покупателя.
– Гриб линчжи! Покупайте гриб бессмертия линжчи! – кричит торговец.
– Это тот самый линчжи? – нерешительно спрашивает покупатель, подходя.
– Конечно, тот самый, – уверенно говорит продавец.
– Но ведь это миф. Его не существует.
– Как не существует? Вот же он!
– И он действует?
– Конечно, действует. Покупайте!
– А вдруг не подействует?
– Через сто лет, если не подействует, приходите – верну деньги, – уверенно говорит продавец.
Понятно, что грибами бессмертия, даже если бы таковые существовали на свете, просто так посреди улицы никто не торгует. Однако перед торговцем клиент и, более того, чужак и поэтому в уши ему можно вдувать любую чепуху. Даже такую, которая в других обстоятельствах выглядела бы очень обидно.
Хотя, конечно, линчжи существует и даже стоит у нас на кухне в баночке. Но одно дело наш линчжи, проверенный, и совсем другое – жульнический гриб от уличного торговца.
* * *
Русские туристы часто считают, что китайцы у себя на родине имеют перед иностранцами разные преимущества. Это не совсем так.
В общественном транспорте, например, иностранец и китаец едут за одни и те же деньги. Если в музей вход бесплатный, он бесплатный и для китайца, и для иностранца. В Пекине иностранец, как и любой горожанин, может за несколько юаней купить месячный абонемент в парк, а не платить за каждый проход. В ресторанах одна и та же цена на блюда для всех.
Хотя бывают и исключения. Так, в одном ресторане, куда мы изредка заходили, нам подсунули «лаовайское» меню с повышенными ценами. Но поскольку мы знали расценки, то указали официанту на эту грустную ошибку, и он тут же поменял меню, пока мы не подняли скандал и не появилась полиция. Но это так сказать, была «частная инициатива» хозяев заведения. В целом же что китайский турист, что иностранный – разницы нет.
* * *
Даже если речь идет о стандартах поведения, то и тут иностранцев не ущемляют.
Вот вам пример.
Как-то мы с женой сидели в одном пекинском ресторане. Кроме нас там никого больше не было. Спустя минут десять зашли двое китайцев и сели за соседний стол.
И сразу стащили с себя майки – немного охладиться.
Тут надо сказать, что есть старая пекинская традиция – мужчины в жару задирают футболки и оголяют живот. Таким образом часть внутреннего жара уходит наружу через кожу.
Эти же пошли еще дальше – сняли майки совсем.
Вид среднего китайца без майки, прямо скажем, пищеварению не способствует. И хотя об этой их привычке мы знали и относились к ней с пониманием, я решил немного порезвиться.
Подзываю официантку и громко, чтобы и соседи слышали, говорю:
– Это что такое? Тут что – баня?
Официантка хлопает ресницами, растерянно изогнувшись в мою сторону.
– Почему они разделись? – указываю на китайцев.
Официантка с некоторым смущением говорит:
– Они тяжело трудились, им надо отдохнуть.
Вот еще одно универсальное китайское объяснение на все случаи жизни. Что бы ни случилось – от мелкого недомогания до глобальных катаклизмов – все оттого, что кто-то тяжело трудился. Есть, правда, еще одно: «У меня дела». Но тут это объяснение не очень-то проходило: «Почему они голые? – Потому что у них дела!» Так что да, тяжело трудились. Чего никак нельзя было сказать по их хитрым рожам.
– Хорошо, – говорю, – я тоже тяжело трудился. Могу я снять футболку?
– Конечно, – говорит официантка.
Жена, уже догадавшаяся, что будет дальше, дергает меня за рукав. Но русского писателя не остановить.
– А штаны? – говорю я. – Я очень тяжело трудился – могу я снять штаны?
Официантка, помирая со смеху, замахала руками – нет-нет! Китайцы рядом с нами, обеспокоившись, вцепились в свои футболки…
Как видим, и тут мне позволили все то же самое, что и коренным пекинцам. Им можно снять майку – и мне тоже. Мне нельзя снять штаны – но и им не рекомендуется.
* * *
Правда, несмотря на равенство де-юре, иностранных туристов все-таки обманывают чуть чаще, чем китайских. Однако происходит это обычно в специально отведенных для жульничества местах – торговых лавках и на туристических улицах.
Да, за какие-нибудь сувенирные безделушки цены заламывают непомерные – в пять, десять, двадцать раз больше положенного. Но ведь вы можете торговаться, и ничего зазорного в этом нет. Никто же вас не заставляет покупать именно за эту цену. Не обижайтесь, и не думайте, что эта диверсия направлена лично против вас.
Конечно, есть люди, которым все равно, сколько платить. Явственно представляю себе – кого бы представить-то? – ну, например, Романа Абрамовича, на личном самолете прилетевшего в Пекин и мелкой трусцой бегущего на рынок Панцзяюань скупать разную китайскую мелочевку. Да, вот ему, пожалуй, торговаться как-то не с руки.
Но вы же не Абрамович, вы никогда не были чукотским губернатором. Так что торгуйтесь и не принимайте китайские хитрости на свой счет.
* * *
Правда, торговаться получается не везде. Обычно это возможно в частных магазинчиках или лавочках. Если цена написана от руки или показана вам на калькуляторе – значит, можно торговаться. Если она проставлена заранее, то, скорее всего сбить ее не удастся. В крупных китайских магазинах, как и у нас, торговля не предусмотрена.
* * *
Что касается попыток сбить цену, тут наши отечественные негоцианты не мелочатся, действуют широко. И если, например, китаец говорит, что товар стоит сто юаней, русский клиент сразу предлагает за него раз в десять дешевле.
– А то смотри, косой, сейчас куплю у другого вообще за копейки, – по-доброму говорит он торговцу.
* * *
В мой первый приезд в Шанхай в 1992 году я вместе с соседом по каюте пошел на вещевой рынок. Сосед мой работал пожарным инспектором и характер имел самый решительный.
– За свой кровный миллион убью любого! – часто говаривал он.
– А у тебя он есть, этот миллион? – наконец не выдержал я.
– Пока нет, но обязательно будет, ответствовал пожарник оптимистически.
Кажется, миллионером он так и не стал. Видимо, одного желания убивать для этого не всегда достаточно.
Так вот, отправились мы с утра на вещевой оптовый рынок. Сосед собирался, среди прочего, купить партию слаксов. Если кто не знает, были такие широкие штаны, очень модные в начале девяностых годов прошлого века.
Сам я ничего там покупать не собирался, но пожарник мой попросил меня быть переводчиком, поскольку я знал английский. Впрочем, от английского в тогдашнем Шанхае толку было примерно столько же, сколько, например, от бурятского, по-английски там почти никто не разговаривал – во всяком случае, на вещевом рынке. Однако сосед этого еще не знал, вот мы и двинулись на рынок вдвоем.
Мы шли вдоль торговых рядов, пожарник мой приценивался к товарам и вообще резвился.
– Слышь, косой (почему-то всех китайцев он звал косыми, видно, знал о них что-то такое, что было неведомо мне), почем тряпки?
Китаец называл цену. В ответ пожарник предлагал свою: в десять, а то и в пятнадцать раз меньше.
– Чем меньше предложишь в начале, тем дешевле возьмешь, – объяснял он мне свою торговую тактику.
Как ни странно, тактика эта иногда приносила свои плоды. Растерявшиеся от такой наглости китайцы давали слабину и уступали товар за совсем ничтожные деньги.
Но вот, наконец, мы дошли до одного немолодого уже, лысого, но крепкого еще китайца.
– Слышь, дед, почем слаксы? – обратился к нему пожарник.
– Хау мач? – перевел я. На всякий случай, чтобы торговец не решил, что мы подошли к нему побеседовать о философии или живописи гохуа.
– Тридцать, – хмуро отвечал «дед» на вполне приличном русском языке.
До этого, надо сказать, объяснялись мы в основном жестами и с помощью калькулятора.
– Да ты что, дед? – возмутился пожарник. – Им же красная цена – два юаня в базарный день.
Дед не счел нужным даже отвечать на такое заявление.
– Ну, хорошо, три юаня, и забираю всю партию оптом, – не отставал пожарник.
– Нет.
– Уговорил, три с половиной – только из уважения к тебе.
– Нет.
– Дед, обидеть хочешь? Нет, реально? Четыре юаня – последняя цена.
– Пошел в ж…
Когда пару минут спустя мы ловили возле рынка такси, пожарник мой сказал с уважением:
– Сразу видно, опытный… И характер русского бизнесмена понимает хорошо.
* * *
Впрочем, если кто и не понимает характер русского бизнесмена, русский бизнесмен ему быстро объяснит.
Где-то уже в середине двухтысячных группа знакомых русских туристов попросила отвезти их на антикварный пекинский рынок Панцзяюань. В то время там уже торговали разной туристической дребеденью, но иногда, особенно утром, можно было найти и что-нибудь стоящее.
Мы с женой отвезли знакомых на рынок, а сами поехали по своим делам.
Спустя пару дней пересеклись с одним из этих ребят – жили с ними в одной гостинице.
– Ну, что, – спрашиваем, – как сходили на рынок?
– Да не очень, – говорит. – В первый день только приценивались, как, чего, торговались немножко.
Я сразу почувствовал неладное.
– И как же вы торговались? – говорю.
– Ну, как обычно торгуются… Сначала сбиваешь до минимума, потом потихоньку поднимаешься, пока он не согласится.
– И купили что-нибудь?
– Нет.
– А зачем торговались?
– Ну, так, по приколу. Развлечься.
– Понятно. И что дальше было?
– А ничего не было. Приезжаем на следующий день, а с нами никто даже разговаривать не хочет. А, говорят, это те русские, которые по полчаса торгуются, но ничего не покупают? Идите лесом!
– И вы пошли?
– А что делать…
Мы сочувственно посмотрели на понурого негоцианта. Он жаловался нам на жестокосердие и глупость китайцев, а сам так ничего и не понял. То, что было для него развлечением, для торговца было тяжелой работой. Турист ведь знал, что ничего не купит, но все равно торговался, отнимая у продавца время, силы и возможность поработать с другими клиентами.
* * *
Каждый первый русский турист, конечно, ощущает себя и свою страну в центре мира.
– Раша, Раша, – стучит он себя в грудь, объясняя свое место в системе космических координат.
И очень удивляется иной раз, что великую нашу страну знают далеко не везде.
Казалось бы, к Китаю это относиться не должно. Все-таки мы соседи, одних тапочек и джинсов ежегодно вывозим оттуда на многие миллионы. В пояс нам должны кланяться. А они не только не кланяются, а иной раз даже не знают о нашем существовании.
Мы с женой в Пекине обычно останавливаемся в одной из сетевых гостиниц. На этот раз мест там не было, мы поехали в другую. Подаем портье паспорта, он смотрит на них, морщит лоб:
– Раша? Что это? – спрашивает он.
Мы объясняем, что это Элосы, Россия.
– Элосы? А где это? – спрашивает портье.
Мы немножко удивились, но объяснили, где.
И тут портье что-то вспомнил.
– А-а, – воскликнул он, – понял, понял! Были у нас ваши туристы. Только ваша страна называется не Элосы, а Бай-Элосы (Белоруссия). Вы это запомните и впредь не путайте.
Мы обещали запомнить и впредь не путать.
Скажете, смешной казус? Но подобные казусы повторяются довольно часто. Современная китайская молодежь о России не знает, да и знать не особенно хочет. США, Канада, Европа, в крайнем случае – Австралия: вот страны, которые привлекают молодых китайцев.
Что-то о России знают лишь те, кто живет в приграничных районах или ведет с русскими бизнес. Даже пожилым китайцам иногда приходится объяснять, что Элосы – это бывший Сулянь, Советский Союз.
* * *
Как ни печально, но Россия в глазах китайцев давно перестала быть старшим братом, как ее льстиво называл Мао Цзэдун при Сталине. Это отразилось даже в названии нашей страны по-китайски.
Есть ряд стран, в названии которых на китайском языке имеется слово «го» – государство: Мэйго – Америка, Фаго – Франция, Дего – Германия, Инго – Великобритания, и, конечно, Чжунго – Китай. Но это «го» на практике означает не просто «государство». Го – это могущественная держава. И далеко не всякая, даже высокоразвитая страна с точки зрения китайца может претендовать на иероглиф «го» в своем названии. Например, Италия – просто Идали, Испания – Сибанья, Португалия – Путаоя, Канада – Цзянада.
В нашем случае ситуация промежуточная. Официально Россия называется Эго, то есть вроде бы тоже держава. Но в быту такого названия не встретишь, даже в телевизионных новостях нас зовут просто Элосы, без всяких там держав. И это название, увы, вполне отражает нынешнее отношение китайцев к нашей стране.
* * *
Впрочем, отношение к иностранцам – дело не такое постоянное, как можно подумать. Со временем оно меняется даже в Китае.
Когда-то считалось, что все иностранцы априори богатые, что само по себе поднимает их почти в поднебесье. Потом выяснилось, что не такие уж они и богатые, появилось много китайцев, накоплениями ничем не уступающих обычному европейцу. Не говоря уже про тех китайцев, которые ничем не уступают обычному иностранному миллионеру (миллиардеру).
Кроме того, выяснилось, что от иностранного богатства конкретному китайцу не так уж много пользы. Иностранцы известны своей прижимистостью, если смотреть с китайской точки зрения, и разумной расчетливостью – если смотреть с иностранной.
Помню, как в начале двухтысячных в лобби гостиницы мы стояли в очередь на обмен валюты. Все стоявшие перед нами европейцы разменивали по пять, шесть, семь долларов, и только мы разменяли сразу сто.
Понятно, что с прижимистого иностранца, который питается одним рисом, много не слупишь.
* * *
Иностранная прижимистость приводит и к более печальным последствиям, когда страдает не только кошелек, но и любовь. В китайских ресторанах мы неоднократно были свидетелями, как милые китайские барышни – именно барышни, без всякого профессионального уклона – коротали время с иностранными юношами.
Знакомились они обычно через интернет. Механизм в этом случае был довольно простой.
Богатый иностранец, не желая тратить деньги на экскурсовода, заводил знакомство с англоязычными китайскими студентками, надеясь, что те будут бесплатно водить его по достопримечательностям, и он таким образом сэкономит на экскурсоводе. Если повезет, то и дома у них можно поселиться, да и питаться тут же. А он взамен был готов принимать их у себя в Инострани или откуда он там приехал.
Однако китайские девушки, введенные в заблуждение любовными европейскими романами, где описаны учтивые кавалеры и рыцари, на все готовые ради дамы сердца, ждали большего. Возможно, они ждали искренности, фейерверка чувств, любви до гроба и вообще аттракциона неслыханной щедрости. Трудно их в этом упрекнуть: во все времена во всех странах девушки всегда настроены романтично.
Но не на тех напали. Хитроумные иностранцы вовсе не затем приехали, чтобы швыряться деньгами налево и направо – они наоборот, хотели сэкономить. Поэтому в ресторане девушки и юноши брали себе на обед по маленькой бутылочке «Кока-колы», за которую каждый платил сам и уныло глядели друг на друга. Юноши ждали, когда же их поведут смотреть достопримечательности, а девушки – когда начнется фейерверк.
Иногда, поняв, что от робких иностранцев решительного шага не дождешься, влюбленные девушки сами берут быка за рога. Как-то мимо нашего номера, неспешно беседуя, прошли высокий иностранец и китайская девушка в два раз ниже его ростом.
– Так ты думаешь, это лавстори? – хмуро говорил иностранец.
– Конечно! – непререкаемым тоном отвечала китаянка. – Именно лавстори. Неужели не видно, что мы с тобой просто созданы друг для друга?!
* * *
Но мы, однако, отвлеклись от сравнения положительных и отрицательных свойств иностранца.
Как уже говорилось, заморские черти порочны и упадочны. Это не подлежит никакому сомнению. Тем не менее, еще в девятнадцатом веке во время опиумных войн китайцы, будучи не в силах разрешить какой-нибудь спорный вопрос, возникший при заключении коммерческой сделки, обращались к иностранцам, как к третейским судьям. Считалось почему-то, что порочный и упадочный иностранец будет судить честно и беспристрастно.
Хотя тут, скорее всего, имелась в виду не его нравственная чистота, а тот факт, что он не был вовлечен в сложную систему китайских связей-гуаньси. Попросту говоря, не принадлежал ни к какому клану и, вдобавок, не продавался.
* * *
Китай – это страна, где простой турист, если он один, обычно чувствует себя беспомощным. Языка, истории, культуры, психологии, традиций китайцев он не знает, и поэтому не в силах понять даже элементарных вещей.
Вы, наверное, скажете, что есть некие общечеловеческие ценности, которые способны объединить всех, независимо от языка и цвета кожи. Но что считается общечеловеческой ценностью у нас? В первую очередь заповеди и представления, которые нам достались от христианства и отчасти – от греко-римской традиции.
Некоторые из этих ценностей признают и китайцы. Например, так называемое золотое правило этики: «Относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». Это правило признают и Конфуций, и другие китайские философы и даже простые китайцы – хотя далеко не всегда ему следуют.
А вот, скажем, максиму: «Отвечать на зло добром», которая нам известна из Евангелия, тот же Конфуций подверг критике за пять столетий до появления Иисуса Христа.
Ученики задали Конфуцию вопрос: «Говорят, что на зло нужно отвечать добром? Так ли это?»
«Если на зло отвечать добром, чем тогда отвечать на добро?» – спросил у них Конфуций. И сам же ответил: «На добро нужно отвечать добром, а на зло – справедливостью».
Но этот случай еще из самых простых и ясных. Очень часто вещи, которые западному туристу представляются само собой разумеющимися, китайцу таковыми вовсе не кажутся. Это справедливо и в зеркальном отображении.