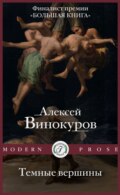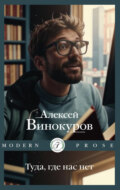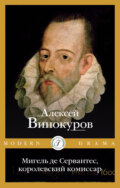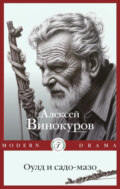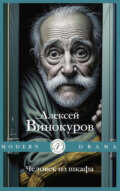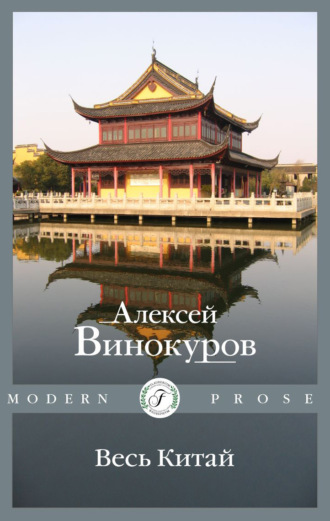
Алексей Винокуров
Весь Китай
При этом каждый почему-то думает, что у другого – такая же система координат, как у него самого. Это видно даже из простых бытовых ситуаций.
Вот, например, в первый наш приезд в Пекин нам нужно было узнать дорогу до музея Изящных искусств Мэйшугуань. Карта у нас была, но карты китайские по неточности и неясности могут соперничать только с советскими. Так что в некоторых случаях дорогу все-таки приходилось спрашивать.
Я подошел к охраннику на автостоянке и задал ему вопрос. Тот прислонил ладонь к уху и сказал: «Бу цинчу» (не разобрал). Я повторил вопрос громче. Он снова прислонил ладонь к уху и снова сказал: «Бу цинчу». Я переформулировал вопрос, думая, что он не ухватил какого-то слова. Он снова, уже с возрастающим раздражением, прислонил руку к уху и снова сказал свое: «Бу цинчу».
И только с третьего раза я понял, что охранник просто не знает, где находится нужная мне улица. Но признаться в этом он не может по причине пресловутого китайского стыда (он же – потеря лица). И тогда он использовал ритуальную формулу, которую на его малой родине (а он, судя по всему, не был пекинцем), наверное, знает стар и млад. И, конечно, я сразу должен был догадаться, что он не представляет, куда идти, и не мучить его попусту. Ведь я же говорю по-китайски, следовательно, знаком с основами цивилизованности-вэньмин. А если даже и незнаком, то должен был почувствовать, что вопрос ставит его в неловкое положение. Это же так понятно!
Но понятно-то для него, а для меня – совсем наоборот.
Другая неловкая ситуация часто возникает именно потому, что китайцы почитают свою систему координат всеобщей, единой для всех.
Так, проходя по торговым рядам на туристической улице, иностранец вдруг видит симпатичный сувенир и хочет узнать его цену. Он может спросить у продавца: «Дошао?», или «Хау мач?», или «Сколько?» Ответ может быть самый неожиданный. Торговец поднимает руку и показывает ему, например, два скрещенных пальца. Или крючок на указательном. Или отогнутые большой и мизинец. Или отогнутые большой и указательный. Так китайцы показывают цифры на пальцах. Что означают все эти фигуры? В первом случае это будет десятка. Во втором – девятка. В третьем – шестерка. В четвертом – восьмерка. И так далее.
Таким образом китайцы показывают иностранцу цифры на пальцах. Но зачем они это делают, ведь не зная этой системы, понять ее невозможно?
Продавец руководствуется простой логикой. Китайского языка иностранец не знает. Значит, говорить ему бесполезно. Но ведь язык знаков – он же общий, он же понятен всем. То, что где-то цифры показывают иначе, простому торговцу и в голову прийти не может. И начинается танец с пальцами.
Единственное, пожалуй, что не грозит увидеть туристу в ответ на свой вопрос, так это кулак, который означает ноль. Потому что где это видано, чтобы товар стоил ноль юаней? Таким образом, в нос кулаком при расчетах вам никто тыкать не станет.
* * *
Рассказывая историю про «бу цинчу», я обмолвился, что, даже не зная обычая, должен был почувствовать ситуацию. Это общекитайское правило, связанное с китайской психологией и, я бы даже сказал, физиологией мозга.
Дело в том, что китайцы по сравнению со средним европейцем необыкновенно чувствительны. Они, словно антенна, постоянно улавливают изменения в обстановке и настроении других людей. Чувствительность эта отражается и в языке.
Одно из самых часто употребляемых китайцем выражений: «Во ганьцзюэ» или «Во цзюэдэ» (Я чувствую). Даже в тех случаях, когда иностранец скажет: «Я думаю» или «я считаю» китаец скажет: «Я чувствую».
Легко представить себе, например, такой разговор китайского учителя с учеником.
– Урока не знаешь, садись!
– Но я чувствую, что выучил урок, – сопротивляется ученик.
– А я вот чувствую, что ты его не учил, – ехидно отвечает учитель.
Так или иначе, чувствительность китайцев очень высока, они легко улавливают настроение других людей или их отношение к себе, даже если не понимают, что именно говорится.
Наверное, это в какой-то степени связано с психологией китайцев, но лично я вижу другую причину. Китайский язык не только очень сложен, но и весьма однообразен в звуковом смысле. Там огромное количество одинаково звучащих слов, омофонов. Именно из-за этих одинаково звучащих слов иной раз сложно понять, что говорит тебе собеседник – особенно, если неясен контекст. И это при том, что вы разговариваете на одном диалекте. Если же диалекты различаются даже незначительно, трудности общения возрастают многократно.
Поэтому китайцы выбрали манеру не разбирать то, что им говорят в точности, а догадываться, схватывать на лету. Дело усугубляется еще и сложностью отношений между людьми, когда очень важно понять статус человека, а внешних показателей нет. Тут тоже ориентироваться придется только на свою чувствительность.
И это не говоря уже о том, что на протяжении тысячелетий в Китае сама жизнь нижестоящего напрямую зависела от отношения к нему вышестоящего. И если ты неверно уловил его настрой или движение мыслей, судьба твоя будет плачевна.
Вот отсюда и проистекает знаменитое китайское «я чувствую».
Глава 5, в которой говорится о китайских эльфах, секретных методах и разрывании купюр
Те, кто смотрел репортажи с пекинской Олимпиады-2008, наверняка обратили внимание на несколько странное поведение наших спортсменов. Когда они говорили, казалось, что они возбуждены чуть больше, чем обычно, как будто слегка подшофе.
Дело тут, конечно, не в том, что китайцы чем-то опаивали наших олимпийцев. Дело в общей китайской атмосфере. Сложно сказать, как она действовала на иностранцев с Запада, но россиянина эта атмосфера просто пьянила. Удивительное сочетание вкусной еды и красивых пейзажей, ощущение свободы и открытости мира, разлитое тогда в воздухе – все это действовало на человека непривычного самым ошеломляющим образом.
И плюс к тому – сами китайцы, милые, приветливые, маленькие, похожие на детей или на сказочных эльфов. После довольно угрюмой атмосферы отечества это тоже казалось нам почти сказкой.
Конечно, не все так просто, и китайцы далеко не эльфы. Об этом вам могут рассказать сами спортсмены, которые помнят, как некоторые приставленные к ним волонтеры регулярно выводили их из себя. Вот, например, наш спортсмен дает интервью российскому телеканалу. Рядом стоит китайская девушка и беспрерывно дергает его за рукав: нам надо идти! Идти, конечно, никуда не надо, но важно вывести человека из душевного равновесия, чтобы на соревновании он выступил похуже. «Отстань от меня, – еле сдерживаясь, говорит ей спортсмен, – ты видишь, я занят». Но она продолжает его дергать – надо идти.
Вы скажете, что это некорректно? В спорте, как и на войне все средства хороши, ответят вам китайцы, а победителей не судят.
* * *
Вообще, душевному равновесию и в спорте, и в жизни китайцы придают первостепенное значение.
Был у меня знакомый китаец по фамилии Лю. В Китае он торговал кондиционерами, а в России стал преподавать ушу и сделался уважаемым человеком. Он давно жил в Москве, поэтому разговаривали мы с ним по-русски. Так вот, как-то раз я спросил его: скажи, Лю, есть ли у тебя цель?
– У жизни усё спокойно, – сказал он, поглаживая себя по груди. – Это цель.
Таким образом, если ты вывел противника из равновесия, считай, он уже проиграл. Применительно к китайцам это на самом деле так – особенно, если учитывать ту самую чувствительность, о которой мы уже говорили.
Тот, кто знает эту их особенность, может обыгрывать китайцев на любом поле. Достаточно просто вывести их из равновесия, лишить уверенности в себе – и любой чемпион окажется беспомощным, как первоклассник.
Кто-то, возможно, скажет: подумаешь, какой бином Ньютона! Это у всех так.
Может быть, и у всех. Но китайцев это касается особенно – из-за их пресловутой чувствительности. Выведенный из равновесия китаец способен только на беспорядочную и бессмысленную суету.
Другой вопрос – как этого добиться, как вывести китайца из равновесия?
Об этом, пожалуй, мы говорить не будем. Это, с вашего позволения, пусть останется нашим общим с китайцами секретом.
* * *
Между прочим, больше всего на свете китайцы любят именно секреты и тайны. Но это не из-за мистического характера их натуры, как думают некоторые – китайцы, вообще говоря, весьма прагматичны.
Любовь к секретам объясняется жизненной необходимостью. В старом Китае, как и в других патриархальных обществах, ремесло переходило от отца к сыну, от одного родственника к другому. Это касалось всех областей – будь то врачевание, кулинария или боевые искусства.
Чтобы выдерживать жесткую конкуренцию, надо было чем-то отличаться от других представителей своей профессии, в чем-то их превосходить. Хитроумные китайцы постоянно изобретали профессиональные секреты, тайные методы, которые не должны были уходить из семьи, чтобы не достаться конкуренту. И некоторые из этих методов, надо признать, представляли собой настоящие открытия.
Однако, как известно, жизнь складывается по-разному. Далеко не у всех мастеров были сыновья, да и не все наследники способны были продолжать дело предков. Так или иначе, приходилось брать помощников, подмастерьев, учеников.
На этот счет в старом Китае бытовала пословица: беря ученика, готовишь себе убийцу.
Понять эту фразу очень просто: ученик рано или поздно переймет твое мастерство, узнает все твои секреты и станет тебе конкурентом. И дело тут не в какой-то особенной подлости ученика, а в естественном течении жизни. Рано или поздно ученик вырастает и сам хочет стать мастером, отделиться от учителя. А, скажем, два сапожника на одной улице – это уже конкуренция.
Правило это самым забавным образом подтвердилось на примере России. В девяностые годы, когда был бум китайского ушу, наши люди приглашали из Китая мастеров или тех, кого они почему-то считали мастерами – чтобы те учили их боевому искусству. Позанимавшись с мастером год или даже меньше, ученики решали, что постигли уже все тайны и начинали открывать свои школы и зарабатывать на этом деньги. А китайского учителя под каким-нибудь предлогом отправляли назад – торговать тапочками.
Именно поэтому уже в старом Китае у каждого мастера были свои секреты, которые он даже близким ученикам открывал весьма неохотно. Считалось, что самый главный, самый секретный секрет мастер не говорит никому, а передает его только на смертном одре наиболее достойному из учеников (обычно родственнику). А иногда и не передает – если считает, что нет достойных, и секрет может причинить людям вред.
Что тут правда, а что фантазии, предоставим судить самим читателям. Одно можно сказать точно: китайцы до сих пор придают чрезвычайное значение всяким секретам и тайным методам.
* * *
В тайные методы, по-китайски – мифа, китайцы очень верят. Особенно это касается боевых искусств. Многие считают, что можно учиться десятилетиями, но, не зная мифа, так ничему и не научишься. Если же знаешь мифа, то овладеешь высочайшим мастерством в кратчайший срок.
Есть, впрочем, и другое мнение – что метод неважен, важно только долго и упорно тренироваться. В качестве доказательства приводят разнообразие тех же самых стилей ушу: бывает, что методы одних стилей прямо противоположны методам других, но и те, и другие приносят результат. Адепты такого подхода говорят, что надо тренироваться много десятилетий и, может быть, к пенсии достигнешь мастерства.
Из своего опыта тренировок в ушу могу сказать, что истина где-то посередине. Самый тайный, самый эффективный метод будет бесполезен, если человек не устоялся в базовых принципах, не сделал их своей натурой. Это все равно, что учить первоклассника высшей математике – при том, что он и таблицы умножения толком не знает.
В то же время, тренировки должны быть очень интенсивными, чтобы даже простой метод реализовался в теле и определенным образом изменил его, сделал орудием и оружием. Для этого в каждом стиле ушу есть базовые принципы тренировки, которые являются альфой и омегой мастерства.
Конечно, мастерство можно наращивать и развивать десятилетиями. Но хорошего навыка в ушу человек должен достигать быстро, за три-пять лет. Уровень его за эти годы должен вырасти так, чтобы ему не был страшен никакой враг или даже несколько врагов.
Китайцы верят, что тело тесно связано с сознанием. Тело, тренируемое особенным образом, становится очень сильным, почти неуязвимым для любого воздействия извне (кроме оружия, конечно). Сигнал об этом тело посылает сознанию, и сознание тоже становится бесстрашным, неуязвимым. Причем бесстрашие это проявляется не только в бою, но и в быту: человек не боится ни бандитов, ни начальства, ни любых угроз, реальных или воображаемых, и не беспокоится ни о чем.
Почему китайское ушу предполагает все-таки довольно быстрое овладение его основными приемами? Ответ прост. В старом Китае от твоего умения защищаться – голыми руками или используя оружие – часто зависела твоя жизнь и жизнь близких. Знатоков ушу приглашали охранять торговые караваны, которые подвергались набегам разбойников. В этих обстоятельствах ни у кого не было времени ждать, пока ты будешь двадцать, тридцать или сорок лет тренировать свое гунфу, волшебное мастерство. Ты или можешь сразить врага прямо здесь и сейчас, или ты покойник.
Если говорить о сегодняшнем дне, то в этом смысле преподавание ушу серьезно деградировало. Ты можешь позволить себе хоть всю жизнь тренироваться, и при этом в реальной драке так и не побывать.
Более того, ты можешь называть, и даже считать себя мастером, и собрать вокруг себя фанатов своего «мастерства», но при этом ровным счетом ничего из себя не представлять. К сожалению, такова сейчас ситуация не только в мире в целом, но и в самом Китае. Старые мастера тихо уходят, им на смену приходят в лучшем случае ремесленники, в худшем – просто жулики.
* * *
Справедливости ради скажем, что жульничество и некомпетентность существуют не только в ушу. Жульничество традиционно встречается во всех сферах жизни. Другое дело – насколько сильно оно распространено.
Выдающийся русский китаист Иакинф Бичурин, бывший в XIX веке главой Русской духовной миссии в Пекине, писал следующее:
«В Китае много хорошего. Есть и плохое. Но благодаря закону хорошее побеждает».
Благодаря закону или, точнее, страху перед законом, который в Китае всегда был суров, можно сказать, что хорошее действительно побеждает чаще, чем плохое. Это справедливо даже для сегодняшнего дня. Однако и длинные руки закона в Китае дотягиваются не до всех.
В начале двухтысячных, когда мы с женой только начинали свое бесконечное путешествие по Китаю и не были искушены в тонкостях языка, официантка в ресторане спросила нас, нужен ли нам фапяо? На слух, если разбирать по ближайшим значениям, это звучало как «законный билет». Мы не поняли и на всякий случай отказались.
Однако когда в других ресторанах нам предложили фапяо еще раз, а потом еще, нас разобрало любопытство, и мы попросили все-таки принести этот загадочный «законный билет». Разгадка оказалась очень простой – это был всего-навсего чек.
Кстати, вместе с чеком принесли и лотерейный билет – совершенно бесплатно. Раздача таких билетов оказалась не частной благотворительностью, а политикой китайского правительства.
Дело в том, что чеки в китайских ресторанах выдавали клиентам далеко не всегда – так хозяева пытались скрыть выручку от налогов. Чтобы побудить клиентов требовать чек, государство выдавало ресторанам лотерейные билеты. Но получить его клиент мог, только если спрашивал чек. Таким образом, если ты хотел обзавестись лотерейным билетом, и, в перспективе, выиграть кругленькую сумму, ты должен был требовать у официанта также и чек.
С течением времени, надо сказать, официанты все реже и реже предлагали принести чек, а обходились написанным от руки счетом-майдань.
* * *
Между прочим, китайский владелец ресторана борется с двумя противоположными страстями: желанием скрыть от налогов выручку и желанием рассказать всем, как много он заработал за день. Но не будешь же хватать за рукав каждого клиента и объяснять, какой он, хозяин, ушлый коммерсант.
И тут на помощь всем честолюбцам пришло блестящее китайское изобретение – говорящий калькулятор. Поскольку мы с женой регулярно засиживались в китайских ресторанах допоздна, мы частенько становились свидетелями следующей картины.
Хозяин заведения выходит в почти пустой общий зал, кладет калькулятор и счета перед собой и начинает их складывать. Калькулятор при этом на весь зал озвучивает получающиеся внушительные суммы, а хозяин горделиво посматривает по сторонам, и сердце у него явно тает от восторга.
* * *
В прошлые годы счета в ресторанах часто писали от руки и обычно очень неразборчиво. И это понятно. Если счет написан неразборчиво, в него можно вписать, например, блюдо, которого вы не заказывали. Или даже блюдо, которое вы заказали, но не ели, потому что вам забыли его подать.
Вообще говоря, понимание иероглифов, написанных от руки – это особая наука, которую надо изучать отдельно. Далеко не каждый китаец может понять такое письмо, тем более, если написано незнакомой рукой. (Правда, и печатные иероглифы разберет далеко не каждый китаец, но об этом в другой раз). Именно поэтому счета пишутся так неразборчиво. Подзывать официанта и спрашивать, что это тут написано, решится далеко не всякий китаец, чтобы, опять же, не потерять лица. На него могут посмотреть насмешливо: что же это ты, дикий, что ли, читать не умеешь?
Однако, к счастью, квалификации моей жены хватает и на то, чтобы читать написанное от руки, поэтому мы платим ровно столько, на сколько наели.
Впрочем, хочу успокоить иностранного туриста. Во-первых, лишние блюда в счет вписывают все-таки нечасто, ограничиваются палочками для еды, зубочистками и влажными салфетками. Во-вторых, в счет, как правило, вписывают не самое дорогое блюдо, например, порцию риса.
Но даже если что-то и проскочит лишнее – не расстраивайтесь. Честное слово, оно того не стоит. Куда важнее хорошее настроение.
* * *
Конечно, жульничество жульничеству рознь и случаи бывают разные. Как и сферы, где это жульничество распространено.
Как-то раз в городе Цзинань поздно ночью сели мы в такси, чтобы добраться от вокзала до гостиницы.
А надо сказать, что, когда вы садитесь в такси и отъезжаете, таксист обязан включить счетчик. О том что счетчик включен, пассажира информирует страшное тарахтение и механический голос, обычно женский. И вот, значит, сели мы в такси, а привычного тарахтения нет. Мы с женой переглянулись, но промолчали. Едем. Счетчик молчит.
Вскоре доехали до места, надо расплачиваться.
– Семьдесят юаней, – легко объявляет водитель.
Мы снова переглядываемся. Учитывая, что один километр стоит два юаня, цифра выходит совершенно несуразная. Выходит, что мы за пятнадцать минут проехали тридцать пять километров, что, пожалуй, под силу только вертолету или какому-нибудь стритрейсеру на МКАД.
– А где счет? – спрашиваю я.
Водитель, еще не чуя опасности, говорит, что счетчик сломался.
– Вы не имеете права ездить со сломанным счетчиком, – говорим мы ему.
На лице водителя мелькает глубокое разочарование: лаоваи оказались не в меру хитроумными. Но денег терять ему не хочется, и он начинает кричать и размахивать руками, требуя, чтобы мы заплатили.
Мы, однако, прекрасно знаем, что китайский крик по отношению к иностранцу не значит ровным счетом ничего и ничем ему не угрожает. И поэтому на чистом путунхуа спокойно объясняем наглецу, что мы сейчас позвоним в его контору и расскажем о его жульничестве.
Угроза эта оказывается, во-первых, легко реализуемой, во-вторых, по-настоящему страшной. Дело в том, что на приборной панели каждого таксиста стоит табличка с его фотографией, именем и номером машины. Здесь же крупно написан телефон круглосуточной поддержки, куда следует звонить в случае любых проблем.
И таксист пугается. Ездя с выключенным счетчиком, он обманывает не только нас, но и свою фирму, и государство в целом – потому что с чего тогда платить налоги? И хотя в Китае очень много таксомоторов, но желающих стать таксистом еще больше.
Конечно, если бы перед таксистом оказался обычный лаовайский лаовай, который двух слов не может связать по-китайски, он бы заплатил, как миленький. Но таксисту не повезло, судьба подкинула ему двух борзых янгуйцзы, которые не только говорят по-китайски, но и знают местные порядки и законы.
Надо сказать, что такие истории в столице случаются редко, скорее уж в провинции, потому что, чем дальше от Пекина, тем, в общем-то, свободнее нравы.
Признаться, попадая изредка в подобные ситуации, мы сами не всегда идем на принцип. Если счет по нашим прикидкам не сильно отличается от официального, мы все-таки платим.
Как в таких случаях поступать туристу, не знающему языка? В принципе, если вы не боитесь скандала, можете показать рукой на счетчик и выйти, не заплатив. Тут возможны два варианта. Первый – таксист, чуя за собой вину, не побежит за вами. Второй вариант – побежит и будет требовать оплаты. Если на крики появится полицейский, по идее, он должен взять вашу сторону. Однако объясняться одними знаками вам будет нелегко. Поэтому, если вы не любитель острых ощущений и не хотите, чтобы перед вами кричал, махал руками и подпрыгивал малознакомый китаец, лучше все-таки заплатить. А еще лучше брать такси в отеле. Хотя это выйдет и с надбавкой, но меньше шансов нарваться на неприятности.
Не сомневаюсь, что ушлый русский турист найдет и третий путь. Например, знаками предложит «договориться» и заплатить проштрафившемуся водителю половину от объявленной суммы: дескать, и волки сыты, и овцы целы. Но я бы все-таки не рекомендовал вступать с жуликами в сговор – совершенно неизвестно, чем может закончиться такое предприятие.
* * *
Раз уж мы заговорили о такси, можно вспомнить, конечно, старый анекдот, когда таксист в Москве везет провинциала с Ярославского на Казанский вокзал целый час, хотя там пешком пройти пять минут.
Возможна ли такая ситуация в Китае? В принципе, да. Мы с женой, например, хорошо знаем Китай и потому контролируем процесс. Но даже нас изредка возят по не самым ближним маршрутам. Но объяснение этому есть вполне правдоподобное – пробки или ремонтные работы. Тут уж, как говорится, ничего не поделаешь.
* * *
В Китае мы застали еще старые таксомоторы, где водителя от пассажиров отделяла железная решетка. Вызвано это было тяжелой криминальной ситуацией в стране. Грабители, в основном приезжие, садились в такси, заезжали куда-нибудь в глухое место, а потом, угрожая ножом, забирали у таксиста выручку. Бывало, что его при этом даже убивали.
Надо сказать, что ячейки в этих решетках делались довольно широкими, и через них вполне можно было просунуть руку с ножом и ударить водителя. Но до денег сквозь решетку все равно было не добраться, так что, видимо, предполагалось, что и убивать таксиста незачем.
Однако уже во второй половине двухтысячных такси с решетками стало гораздо меньше. И дело было не столько в ужесточении законов, сколько в улучшении экономической ситуации.
* * *
Иностранцы, приезжавшие в Китай в двухтысячные, расплачиваясь в магазинах стоюаневыми купюрами, становились свидетелями удивительного зрелища. Кассирша брала вашу купюру двумя руками и специальным хлопающим движением пыталась разорвать ее на части. Однако, если купюру давал китаец, ее разорвать почему-то не пытались.
Странная история, не так ли?
А все дело было в том, что незадолго до этого в Пекине накрыли банду фальшивомонетчиков, в которую затесался студент из Африки. Он, в частности, помогал сбывать поддельные купюры.
Из всей истории китайцы обратили внимание только на то, что в банде был порочный и упадочный иностранец, который, видимо, все дело и затеял. Понятно, что это именно он сбил с пути истинного наивных китайских граждан – помните «неприличное западное поведение»? Тот факт, что африканец был не с запада, а скорее с юга, никого не смутил: под подозрением оказались все иностранцы.
Но при чем тут разрывание купюры, скажете вы? Очень просто. Кто-то написал, что фальшивые купюры, в отличие от настоящих, сделаны на плохой бумаге, а потому, если дернуть ее особым образом, она разорвется. Чего, конечно, никогда не произойдет с купюрой настоящей.
Признаюсь, это было волнующее зрелище: смотреть, как кассирша пытается разодрать твою купюру. Ведь, если рука дрогнет, и ей удастся, ты не только денег лишишься, но и можешь в полицию загреметь как фальшивомонетчик.
Однажды я стал свидетелем забавного разговора. Какой-то англичанин, пришедший в магазин с сопровождающим, увидел, что его купюру пытается порвать на части незнакомая женщина. Видимо, ситуация его озадачила.
– Зачем она так делает? – спросил он у гида.
– Нравится, – коротко отвечал тот.
Впрочем, о китайских гидах у нас будет отдельный разговор.