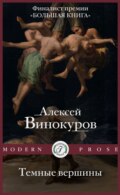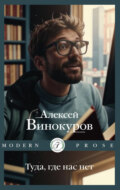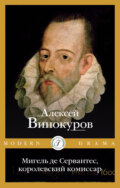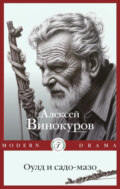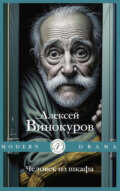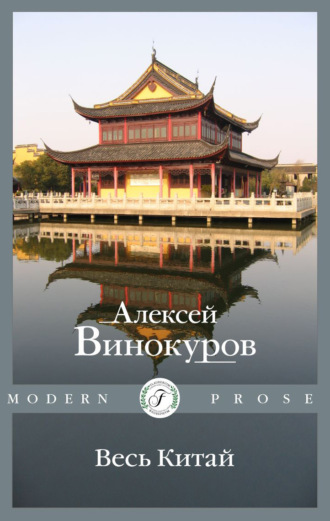
Алексей Винокуров
Весь Китай
Глава 6, в которой Будда считает деньги, пьяные креветки куролесят, а император Пу И оказывается нехорошим человеком
Конечно, мы сами услугами гидов давным-давно не пользуемся. Но в первые пару приездов в Китай гидов мы на всякий случай все-таки заказывали – во всех городах Поднебесной, куда ездили. Само собой, люди это были разные, но некоторые цеховые – и очень странные, надо сказать – черты их объединяли.
* * *
Китай, как уже говорилось, не другая страна, и даже не другая цивилизация, а просто другая планета. И многие иностранцы, случайно попав сюда, подчас вывозят о ней самые дикие представления. Виноваты в этом не только дикие иностранцы, но и китайцы тоже, в первую очередь – здешние гиды.
Главная отличительная черта китайского гида состоит в том, что он слабо владеет иностранными языками (хотя бывают исключения).
Другая отличительная черта гида: он почти ничего не знает о предмете, о котором должен рассказывать. И вообще мало что знает о своей стране, ее культуре и истории. С него довольно того, что он владеет (точнее, думает, что владеет) иностранным языком.
* * *
В первый раз в знаменитом пекинском парке Ихэюань, бывшей резиденции императрицы Цыси, мы оказались в сопровождении гида.
Среди прочих достопримечательностей в парке имеется старинная библиотека. Но, как часто бывает в Китае, такие места закрыты для посещения, любоваться ими можно только через стекло – надо сказать, довольно мутное.
Исследовав, насколько возможно, библиотеку вприглядку, жена моя увидела раздел, тематика которого была ей неясна.
– А там что такое? – спросила она у гида, простодушно полагая, что, раз уж он нас сюда привел, то библиотеку должен знать, как свои пять пальцев.
Но тут ее ждало космическое разочарование. На библиотеке, конечно, написано, что это библиотека. Но, поскольку написано это по-китайски, никто этого не читает, в том числе и гид. И выяснилось это тут же.
– Что там такое? – спросила жена.
– Там? – Гид пригляделся повнимательнее к старым свиткам и табличкам. – Там подушки.
То есть гид не только не взял на себя труд понять, что перед ним библиотека, он даже не знал, как выглядят старые китайские книги и принял их за подушки. Больше того, он не знал, как выглядят старинные подушки. Одним словом, он не знал вообще ничего. А на вопрос отвечал первое, что в голову пришло.
И это третья особенность китайских гидов.
* * *
Впрочем, гид, о котором я рассказывал, был еще молодой человек, студент. Но в Сиане с нами работал уже вполне великовозрастный дядя. Первым делом он объявил нам, что он тут, в Сиане, единственный, кто говорит по-русски.
Нас это заявление позабавило. Мы знали, что в Сиане с 1952 года действует знаменитый Университет иностранных языков с очень хорошей кафедрой русского языка. И что же, за пять десятилетий он подготовил только одного человека, говорящего по-русски? Нет, конечно, просто гид наш безудержно фантазировал – по старой привычке всех китайских гидов.
Вместо того, чтобы рассказывать нам о достопримечательностях, он долго распинался о том, какой плохой был человек император Пу И, причем говорил так уверенно, как будто знал покойного императора лично. Исчерпав императорскую тему, он счел своим долгом уведомить нас, что зарабатывает огромные деньги и всегда покупает только самые дорогие продукты. Можно представить, насколько нам все это было интересно.
Под конец своей речи гид показал нам бутылку местной водки и заявил, что это лучшая водка в Китае.
Нужно заметить, что говорил он очень медленно, выдавливал по слову в минуту, и слушать его было сущим мучением. Меня утомила его глупая похвальба.
– Почему вы считаете, что это лучшая водка? – спросил я раздраженно.
– Потому что я ее пью, – простодушно отвечал он.
Не стоит, я думаю, объяснять, что все его последующие экскурсии тоже имели анекдотический характер.
Так, например, показав в храме на статую Будды, который сложил пальцы в мудру, он сказал, что Будда не просто так держит пальцы.
– А для чего? – спросил я, уже предчувствуя сногсшибательную трактовку.
– Это он считает, – объяснил гид.
– Что считает?
– Деньги, конечно.
Все это гид говорит не для того, чтобы посмеяться над туристом или поставить его в глупое положение (хотя изредка и такое случается). Просто гид не знает ответа, а не ответить на вопрос – значит опять-таки потерять лицо или, говоря по-русски, осрамиться.
Надо сказать, что это относится не только к гидам, но и к рядовым китайцам. Китаец лучше придумает что-нибудь с ходу, чем скажет: я не знаю. А если он говорит: «Я не знаю», вместо того, чтобы напустить пурги – это человек принципиальный, твердый в убеждениях, лишенный предрассудков. Или, как минимум, честный. Такой человек заслуживает уважения. Но среди гидов, увы, такие люди почти не встречаются.
* * *
Следующий гид у нас был в городе Гуйлине, том самом, где, как известно, царит вечная весна. Надо сказать, что в Китае есть некоторое количество мест, где, по уверениям самих китайцев, царит вечная весна. Правда, весна эта везде разная. Например, в Гуйлине она влажная и жаркая, а в Гуйяне, напротив – влажная и холодная. Мы были в Гуйяне в сентябре и у нас зуб на зуб не попадал от такой «весны». Зато грибы там растут отлично – с длиннейшими ножками, похожие на бледные поганки. Ну, или, если вам не нравятся поганки, то на опята.
Да, так вот в Гуйлине нам попался довольно оригинальный молодой человек. Русское имя его было Петр, что, надо сказать, почти непроизносимо для обычного китайца.
– Гид с таким именем должен прилично знать русский язык, – шепнула мне жена.
И действительно, первым делом Петр нам сообщил, что он прочитал всего Достоевского в оригинале. Видимо, поэтому он вел себя очень странно и поминутно разражался беспокойным смехом.
– Хорошо, что я не читал всего Достоевского в оригинале, – шепнул я жене.
– Как тебе не стыдно, – сказала она.
Но мне было не стыдно, потому что Достоевский за свою жизнь написал тридцать толстых томов. Кроме того, я устал от фантазий и врак китайских гидов, от их непрофессионализма и лени. Я понял, что если хочешь что-нибудь тут узнать, надо готовиться заранее и готовиться самому.
Как собственно, всегда и делает моя жена – лучший на свете гид.
* * *
Теоретически, если группа у вас большая, вам может попасться и вполне приличный экскурсовод. Во всяком случае, он будет более-менее разборчиво говорить по-русски. Однако на содержательную экскурсию я бы все же не рассчитывал.
С другой стороны, что считать содержательной экскурсией? Как-то я подслушал, как гид, ведущий русских туристов по художественной галерее, объяснял им смысл выставленных свитков.
– Это тигра, – говорил он, подходя к первой картине. Дождавшись, пока русские налюбуются неизвестной в России тигрой, он переходил к следующему свитку. – А это медведя.
Он сдвинулся к очередной картине и открыл было рот, чтобы сделать еще одно искусствоведческое замечание, но ему не дали.
– А это – петуха! – воскликнул лысый дядя в майке с надписью «Не кантовать!» и захохотал в восторге от своей эрудиции.
Засмеялись и все вокруг, похоже, очень довольные такой экскурсией.
Даже если у достопримечательности есть свой, специализирующийся на ней гид, уровень его компетентности порой вызывает большие сомнения. Довольно и того, что он худо-бедно говорит на вашем языке. Это почти автоматически переводит его в элитарное сословие китайских гидов.
– У жизни усё свободно, – вслед за моим знакомым торговцем Лю может повторить такой гид.
* * *
Когда мы плыли на теплоходе по реке Лицзян в город Яншо, где, по уверением нашего гида Петра нас должны были накормить необыкновенно вкусными змеями, за нашим столиком оказалась пожилая американская пара – учителя колледжа.
– Ужасная страна! – все время восклицала американка. – Здесь никто не говорит по-английски…
Мы пытались возражать в том смысле, что нет, мы же вот говорим, но она нас не слушала.
– Этот гид у нас четвертый, – продолжала она. – И это просто подарок: мы хотя бы понимаем, что он говорит. Остальные разговаривали на неизвестных нам диалектах.
Она остановилась на миг, ища сочувствия в наших глазах и, видимо, не найдя его, воскликнула с жаром:
– А что здесь за еда? Я не могу есть эту еду! Она вся из каких-то кусочков. Я не понимаю, из кого эти кусочки? Кого они мне подсовывают: змею, собаку, кошку? Я хочу нормальную курицу целиком. Но здесь нельзя увидеть целой курицы и тем более нельзя ее съесть.
Пожилая американская дама негодовала, рядом нервно хихикал Петр, прочитавший всего Достоевского в оригинале, за соседним столиком горланили китайцы, за бортом плескались воды реки Лицзян. Жизнь была прекрасна.
Внезапно на верхней палубе поднялся какой-то шум. Мы воспользовались предлогом, чтобы улизнуть от словоохотливой американки и двинули прямо на палубу.
Здесь нам представилось эпическое зрелище. Несколько узких пирог с аборигенами окружили нас и медленно нагоняли. Аборигены размахивали руками и требовали остановиться.
– Похоже, нас будут брать на абордаж, – сказала жена.
Но это оказались мирные рыбаки, которые предлагали выловленную тут же, в реке Лицзян, рыбу. После недолгого торга (рыбаки изнемогали, стараясь не отстать от нас) матросы нашего теплохода спустили вниз на веревке деньги в корзине, а взамен получили несколько симпатичных рыбин.
* * *
К слову о кошках, собаках, змеях и других кулинарных радостях. Наша знакомая американка совершенно напрасно боялась, что под видом курицы или свинины ей подсунут собаку или змею. Дело в том, что мясо собаки – и уж подавно мясо змеи – стоит существенно дороже, чем привычная китайцам свинина. И никакой китаец в своем уме не станет подменивать курицу змеей, а свинину – собакой. Так что экзотические по нашим понятиям блюда вы получите только в том случае, если закажете именно их.
Кстати, змею мы в тот раз так и не попробовали, хотя она у нас и значилась в программе. Жена сказала, что ей жалко змею, и что змея, по ее мнению, не затем на свет родилась, чтобы ее съели два заезжих туриста. Я пытался возражать в том смысле, что змею все равно съедят, не мы – так другие иностранцы.
– Пусть тогда это останется на их совести, – сказала жена.
Так мы змею в тот раз и не попробовали. Однако и без змеи в Яншо было полно очень симпатичных блюд. Мне, например, чрезвычайно понравились местные улитки.
За небольшие, в общем-то, деньги, нам подали огромное блюдо этих улиток – уже, разумеется, приготовленных, а не сырых. Их надо было выковыривать из раковины зубочисткой, двумя пальцами проводить вдоль, счищая лишнее и отправлять мясо в рот. Очень вкусные оказались улитки. Будете в Яншо – непременно попробуйте.
* * *
Кстати, традиционная китайская кухня в отличие, скажем, от японской предпочитает почти все продукты обрабатывать термически. Дело тут не столько в гигиене (китайская гигиена – это отдельная история), а в яншэне – науке вскармливания жизни. Во-первых, обработанные продукты лучше усваиваются организмом, во-вторых, приготовленное просто вкуснее.
Вообще, традиция эта восходит к легендарному императору Шэнь-нуну, он же – Божественный земледелец. Среди главных его изобретений значатся сельскохозяйственная обработка земли и сосуды для приготовления пищи. Считается, что до этого китайцы просто срывали случайно выросшие злаки, а овощи и фрукты ели сырыми.
Таким образом, обработка пищи – это не просто кулинария. В глазах китайцев это – культура, та самая особенность, которая отличает диких людей от цивилизованных. Именно поэтому о древних китайцы говорили так: те, кто покрыт шерстью и пьет кровь.
Впрочем, справедливости ради заметим, что некоторые китайские племена сохранили старые привычки.
Так, представители народности мяо в Гуйчжоу до сих пор любят сырое мясо. В Дунбэе, жаря мясо, традиционно не дожаривают его, потому что хорошо прожаренное мясо кажется им невкусным. В том же Дунбэе народ хэчжэ любит сырую рыбу, особенно – замороженную, вроде нашей строганины.
Но это все нацменьшинства. Ханьцы, как уже говорилось, уважают термическую обработку.
Хотя и в традиционной ханьской кухне есть исключения. Например, помидоры черри подают сырыми – в качестве десерта. Есть сырое блюдо из огурцов – «Да ди хуй чунь» («на землю возвращается весна»). Сырыми часто подают также и фрукты.
Кроме того, китайцы считают, что это именно они изобрели сасими, которые до сих пор можно попробовать в провинции Фуцзян и Гуандун. А японцы, дескать, эту традицию у китайцев только позаимствовали, как, впрочем, и многое другое.
Отдельная история – продукты не только сырые, но и живые. Наиболее типичный случай тут – так называемые пьяные креветки и крабы. Мы с женой пробовали их в ресторанах города Ханчжоу. Готовится это блюдо следующим образом.
Креветки (или маленькие крабы) живьем заливаются смесью из шаосинского вина и специй. Благодаря этой смеси они очень быстро пьянеют и начинают скакать и куролесить в специально предназначенной для этого прозрачной посуде, крепко накрытой тяжелой крышкой. Посудину эту приносят клиенту, чтобы он вволю полюбовался креветочным весельем. Постепенно креветки пьянеют все больше и больше, наконец, успокаиваются и засыпают. Вот тут уже можно открывать крышку и приниматься за угощение.
Признаюсь, мы этим блюдом не злоупотребляли по двум причинам. Первая – все-таки есть в этом некоторое живодерство. И вторая – чрезвычайно интенсивный вкус блюда. Вкус этот настолько яркий, что много все равно не съешь.
Россиянину, конечно, сложно такое понять. Но поверьте на слово – есть вещи вкусные настолько, что съесть их много будет затруднительно.
* * *
А змей в Яншо мы так и не попробовали.
Наш гид Петр, узнав об этом, ничего не сказал, только вежливо заметил, что теперь змей специально выращивают, а раньше просто ловили в здешних горах, которые кишмя ими кишели.
– Но сейчас змей осталось совсем мало, – сказал он.
– Почему? – удивились мы.
– Вкусные очень, – отвечал Петр, облизываясь.
* * *
Возвращаясь к привычкам китайских гидов, можно сказать следующее.
Те функции, которые выполняют китайские экскурсоводы, в Европе обычно называются сопровождением. Настоящей культурной школы гидов в Китае пока нет. Точнее сказать, не было в первой половине двухтысячных, когда мы пользовались их услугами. В последние годы, как уверяют китайцы, ситуация все-таки меняется к лучшему.
Тем не менее, собираясь в Китай, почитайте справочную литературу о тех местах, где вы будете. Если расспрашивать китайского гида о достопримечательностях, он, скорее всего, просто переведет вам текст на указателе, который обычно дублирован на английском. Если на указателе ничего не написано, вам могут ответить «не знаю», но, может быть, придется выслушать какую-нибудь фантастическую историю, которую тут же, не сходя с места, сочинит гид.
Так что, получая сведения «из первых рук», помните, что к действительности они могут не иметь никакого отношения.
* * *
Как уже говорилось, среди гидов попадаются совершенно одиозные персонажи. Сианьский гид развлекал нас похабными анекдотами. Гид в Шанхае отгородилась путеводителем и смотрела на нас с неприкрытым ужасом (позже она призналась, что ей было очень страшно, потому что она уже имела дело с русскими туристами). Гид в Циндао, напротив, глядела поверх наших голов и не считала нужным отвечать на вопросы. Один из пекинских гидов на вопрос, как называется павильон, ответил: «Как? Иди посмотри!»
Вообще говоря, этот гид бил рекорды глупости. Русский он понимал едва-едва, пришлось общаться с ним по-китайски. Но и тут возникали проблемы. Он почти ничего не соображал, но не потому, что был умственно отсталым, а просто не давал себе труда подумать. Часто мы втроем вместе с шофером втолковывали гиду, что от него требуется.
Кстати, если у вас в Китае личный водитель, он может знать о городе гораздо больше, чем гиды. Среди гидов попадается довольно много молодых людей с очень низким уровнем культуры и никуда не годным знанием языка. Нам, правда, рассказывали про старых гидов, которые якобы очень хорошо говорят по-русски. Но нам такие не встречались.
* * *
Вообще, у китайцев свое представление о языке. Человек, выучив пять слов, считает, что знает английский. И, главное, не боится начинать беседу с этим количеством слов. Подойдя на улице, он смело скажет вам: «хэлло», «вот из ё нэйм», «май нэйм из Майкл» (хотя какой он Майкл, просто у них мода на иностранные имена, на самом деле его зовут как-нибудь вроде Ли Лонэн).
Но если вы попытаетесь продолжить разговор, он, скорее всего, просто перейдет на китайский язык. И уйдет в полной убежденности, что вы славно побеседовали по-английски.
* * *
Впрочем, и в Китае попадаются люди, знающие иностранные языки. Одного из них мы видели своими глазами. Он работал экскурсоводом в музее глиняных фигур в Сиане. Гид говорил по-английски со скоростью и чистотой, которая сделала бы честь чистокровному британцу. Непонятно только, что он делает с таким языком на такой, мягко говоря, малоинтересной работе в заброшенной дыре. Наверное, то же самое, что и дедушка-вахтер на нефритовой фабрике в окрестностях Пекина. Который, увидев нас, бросил свое рабочее место и, улыбаясь во весь свой беззубый рот, кинулся вести экскурсию на весьма приличном русском.
Думается, такие гиды – из числа тех, которые бывшими не бывают. Так сказать, гиды с погонами.
Но это – скорее исключение из правил. Средняя четырехзвездочная гостиница может похвастаться от силы одним-двумя служащими, которые худо-бедно могут сказать по-английски несколько слов. Американцы и англичане, приехавшие в Китай в полной уверенности, что их тут все поймут и они поймут всех, обычно садятся в глубокую лужу. Максимум, что может иностранец в Китае, это ткнуть в предмет, который ему нравится или в то место на карте, куда ему надо добраться. Ни на один иностранный язык рассчитывать здесь не приходится.
Хотя, конечно, для покупок вам достаточно будет родного языка. Если вы с китайцем оба заинтересованы в покупке, то можно говорить хоть на суахили – вас всегда поймут.
* * *
Впрочем, даже и от китайских гидов есть польза для человечества. Один из них объяснил нам базовые китайские понятия «не любит» и «нравится». Поскольку мы разговаривали с ним по-русски, перевести их на китайский будет затруднительно. То есть, если переводить их буквально «бу ай» и «сихуань», боюсь, это будет не совсем то, что он имел в виду.
Итак, мы едем с гидом на машине, видим китайского велосипедиста. Велосипедист этот усердно пилит по левой стороне дороги прямо в лоб встречным автомобилям. Спрашиваем у гида: «Почему он едет по встречной?» Ответ: «Нравится». Вопрос: «А почему не едет вместе со всеми?» Ответ: «Не любит».
И так все. Почему музей закрылся в четыре часа, когда должен закрыться только в пять? Не любит. Почему народ в городе Циндао на улицах воет в голос по-волчьи? Нравится. Почему таксист не повез нас, куда мы просили? Не любит. Кого не любит – нас, свою работу, или то место, куда надо ехать? Нет. Просто – не любит. А, может, просто нравится.
И так, в принципе, можно отвечать на любой вопрос, даже метафизический. Почему день сменяет ночь? Нравится. Почему человек смертен? Не любит. И так далее…
Дихотомия «не любит – нравится» иногда заменяет современному китайцу основные положения конфуцианства, такие, как человеколюбие, соблюдение ритуала и сыновней почтительности «сяо». И это понятно. Не нужно мучительно доискиваться таинственных причин поведения того или иного человека. Почему так, а не этак? Не любит. Или – нравится. Тем более, когда речь идет о разговоре с иностранцем. Что можно объяснить человеку, который не может прочитать «Мама мыла раму» по-китайски?
* * *
Еще одна универсальная китайская фраза: «у меня (срочное) дело».
Эта фраза, с одной стороны, поднимает ваш статус в глазах окружающих: вы не какой-то там босяк и бездельник, у вас есть важные дела. С другой стороны, она позволяет увернуться от настоящего дела, которое вам почему-то делать не хочется или просто от неприятного разговора. С третьей стороны, она дает возможность влезть куда-нибудь без очереди, что в Китае тоже является одним из любимых развлечений.
В первые годы наших путешествий мы много раз были свидетелями того, как местные жители всюду лезли без очереди. Очередь при этом обычно не сопротивлялась. Очевидно, каждый китаец думал про себя: «У него дела, вот он и лезет без очереди. В другой раз будут дела у меня, я тоже полезу без очереди». Может быть, привычка пускать всех без очереди осталась еще с тяжелых времен, когда правил Мао. Тогда, уж если человек лез без очереди, значит, имел на это полное право.
Особенно китайцы любят пролезать без очереди перед иностранцами. И это понятно. Во-первых, иностранец по-китайски не говорит и вряд ли сможет возразить. Во-вторых, проскочить перед лаоваем ушастым – в этом есть определенный разгул и лихость.
Первый раз передо мной пытались пролезть без очереди в Гугуне. Но не на таковского напали. Русский писатель не позволит проходить без очереди. Русский писатель сам где угодно пройдет без очереди.
Я остановил нахала и выразительно указал ему рукой назад:
– Пайдуй! В очередь!
Тот, чтобы не уронить лица, безразлично отошел в сторону, как будто ему вообще ничего тут не нужно. Еще не хватало, чтобы иностранец указывал ему, стоять в очереди или не стоять.
Надо сказать, что в подобных случаях китайцы обычно не спорят и не нарываются. Они, в отличие от русского человека, понимают, что нарушают порядок, да и связываться лишний раз с иностранцами не хотят – вдруг полицейский появится.
Но был у меня случай, когда китаец заартачился.
– В очередь, – сказал я очередному хитровану, пытавшемуся обойти нас на повороте.
– Но у меня дела! – возмутился он.
– У меня тоже дела, – отвечал я. – И мои дела важнее твоих. В очередь!
Я лично считаю, что так и следует поступать во всех подобных случаях. А если кому-то очень надо без очереди пройти, пусть идет в другую очередь, где стоят одни дураки.
Хотя, конечно, в последние годы китайцы стали менее толерантны и уже не пропускают так просто разных ловкачей. Не верите? Попробуйте пролезть без очереди хотя бы в автобус.
* * *
Но среди всех китайских любовей и привычек все-таки рулит привычка к деньгам.
В курортном городе Циндао у нас с гидом зашел разговор о религии.
– Религия – это все ерунда, – объяснял гид. – Вообще-то мы, китайцы, не верим ни в какого бога. Мы верим только в деньги. Деньги и есть наш бог.
Знаменитой фразы Христа о том, что верблюду легче пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в рай китайцы не знают. Так что богатым тут быть не стыдно, а большинство китайцев именно в богатстве видят смысл жизни.
Нам такое понять трудно. Представляю себе, как бы разозлился русский человек, если бы другой русский сказал, что у нас, русских, нет никакого бога, и что наш единственный бог – это деньги. Наверняка бы стал возмущаться, а то и в драку бы полез. Хотя, если задуматься, что-то в этом есть… Но уж больно обидно звучит для русского человека, всегда такого духовного и возвышенного.
А вот с точки зрения китайской ничего такого уж неприличного в этом заявлении нет. Всякий китаец хочет стать богатым, у большинства это становится единственной жизненной целью. И китайцы говорят об этом честно, потому что кто же их осудит?
Однако не следует понимать сказанную нашим гидом фразу буквально. Есть в Китае и другие боги, кроме бога богатства Цайшэня. В Китае есть даже христиане, в основном католики и протестанты. И численность их довольно внушительна – несколько десятков миллионов.
Кроме того, даже в китайской традиции есть мотив пренебрежительного отношения к богачам. Например, Конфуций весьма критически высказывался о торговцах.
Так что деньги, конечно, важный элемент жизни китайца, может быть, даже главный. Но не единственный.
* * *
Когда-то, еще в прошлом тысячелетии, я работал программным директором на казахстанском телеканале «Тан». Мы объявили конкурс среди зрителей на лучшую концепцию телепередачи. Предложений пришло много, но особенное внимание привлекла идея передачи: «Каждый хочет жить в роскоши».
Это название, хоть и придуманное казахом, вполне может стать девизом любого китайца. Каждый китаец хочет жить в роскоши. Вкусная еда, шикарные машины, стремительные яхты, красивые девушки – это же просто мечта.
Помните, я рассказывал вам про торговца кондиционерами Лю и его цель в жизни? Он тогда ответил, что его цель звучит так: «У жизни усё спокойно». Иными словами, ты никого не боишься и сам себе хозяин. Но это была лишь вторая цель в жизни Лю.
– А первая? – спросил я.
– У жизни усё свободно, – важно отвечал мне Лю.
Конечно, речь тут не шла о гражданских, религиозных или еще каких-то свободах – упаси Будда! Речь шла именно о той самой роскоши, о которой мы говорили выше.
А какой наиболее прямой путь к роскоши? Верно, деньги. Впрочем, в Китае деньги решают хоть и многое, но не все. Все вопросы способна решить только власть.