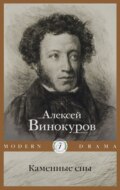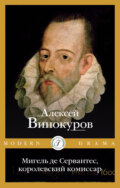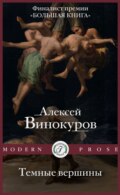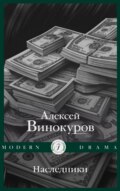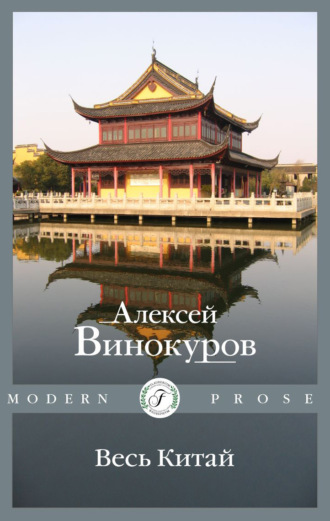
Алексей Винокуров
Весь Китай
Глава 7, в которой буйствуют патриоты, китайцы строят железную дорогу, а черти скупают всю недвижимость
Еще Конфуций говорил, что народ гнется под волей властителя, как трава под ветром. Правда, у фразы этой есть и другой перевод, согласно которой народ гнется под волей не властителя, а благородного мужа. Но, как ни посмотри, речь идет именно о власти, о том, что народ подчиняется ей беспрекословно. Просто в одном случае это власть мирская, а в другом – нравственная, духовная.
Власть и подчинение власти – понятия для китайцев ключевые. Они ярко выражены в трактате «Сяо цзин» («Канон сыновней почтительности»), авторство которого приписывают Конфуцию. Согласно сяо, ребенок должен подчиняться родителю. А поскольку китайский император считался родителем всего китайского народа (он так и назывался «жэньминь фуму», отец и мать народа), то сяо распространилось также и на отношения императора и подданных.
Правда, подчинение это не было безусловным. Сын мог указывать на ошибки отцу, а министр – государю. Более того, в китайской традиции укрепилось понятие «мандата Неба». То есть предполагалось, что мандат на правление дают человеку ни много ни мало Небеса. Если император не заботится о народе, погряз в безнравственности, то Небо может и отозвать мандат. И тогда народ имеет право восстать и свергнуть недостойного императора.
Что, собственно, и сделал простой крестьянин Чжу Юаньчжан. Он активно участвовал в Восстании красных повязок против монгольской династии, в результате чего сам стал императором и основателем династии Мин.
Вероятно, после этого и родилась китайская поговорка: «Сегодня император ты, а завтра – я», намекающая на то, что не следует слишком уж заноситься.
Однако поговорки поговорками, история историей, а на практике, конечно, власть и высокое положение всегда очень ценились в Поднебесной. Это касается и старого Китая, и современного.
«Шэй ши лаобань чжели?» («Кто тут начальник?») – вот вопрос, чрезвычайно волнующий каждого китайца. Если начальника не видно, начальником старается стать он сам – пусть даже и на самое недолгое время.
* * *
Китайская манера быть хоть чуть-чуть, но выше окружающих распространяется на самые неожиданные стороны китайской жизни. Например, на отношения гидов и туристов.
Казалось бы, какие тут могут быть нюансы? Турист платит деньги, он главный, а гид – наемный работник. Но это только вам так кажется, у китайского гида совсем другой взгляд на предмет.
Китайские гиды полагают, что главные – именно они. И всячески стараются продемонстрировать это окружающим. В конце концов, ведь иностранец, не понимающий китайского языка, почти беспомощен и во всем зависит от поступков и мнений гида. Конечно, это не совсем так, но гид предпочитает думать по-своему.
Часто можно видеть, как гордый собою гид рассекает пространство, а за ним пылят злые и уставшие туристы. Гид может назначить выход на семь утра только потому, что сам привык вставать рано, хочет побыстрее отделаться от рабочих обязанностей и предаться любимым развлечениям. Получается, что не гид при иностранцах, а иностранцы при гиде. И если есть тут начальник, то это точно не турист.
* * *
Кстати, о ранних вставаниях.
Если вы имеете дело с гидами, ранние пробуждения – дело обычное, особенно для Пекина. Летом в шесть или даже в пять утра на улицах уже полно народу. Чаша сия не минет и вас: гид явится ни свет ни заря, и потащит на экскурсию, невзирая на то, что вы еле ноги волочите.
Практика эта не такая безобидная, как может показаться на первый взгляд. После пары таких ранних вставаний и осмотра достопримечательностей турист уже к середине дня чувствует сильную усталость и неприятную дрожь в теле. А когда человек устает, ему уже никакая экскурсия не в радость.
Что делать в таких случаях?
Способ первый: не вставать рано. Если вы просыпаетесь после девяти, этого вполне достаточно, чтобы в течение дня не чувствовать себя уставшим, как собака. Однако этот способ можно реализовать, только если вы не зависите от гида. Обычный турист такую роскошь может себе позволить далеко не всегда.
Способ второй: при первой возможности как следует поесть. Конечно, это трудно устроить в семь утра, в первую очередь потому, что организм еще толком не проснулся и есть, подлец, отказывается наотрез. Но, как говорится в старом анекдоте, надо себя заставлять.
Если же как следует поесть с утра не получается, попытайтесь съесть что-нибудь по дороге. Чем плотнее вы закусите, тем легче вам будет на торных туристических путях. В крайнем случае, как следует пообедайте. При этом старайтесь не торопиться, есть медленно, получая удовольствие от еды и вообще отдыхая.
Мы с женой застали еще время, когда сами китайцы обедали по полтора-два часа и в этом не было ничего особенного, ничего, как сказал бы Веничка Ерофеев, феноменального. Сейчас такая вальяжность уже встречается редко, во всяком случае, в центре. Людям некогда обедать, люди торопятся зарабатывать деньги. Тем самым исправно поставляя клиентов многочисленным клиникам и медицинским центрам. Поскольку, как хорошо известно медицине, в том числе и китайской, заработанные впопыхах деньги плохо сочетаются с хорошим здоровьем и обычно тратятся на то, чтобы избавиться от болезней.
* * *
Немного о завтраках.
Если вы обычный турист, а не путешествуете в одиночку, или, еще хуже, не бэгпэкер какой-нибудь, скорее всего вас поселят в четырехзвездочной (или около того) гостинице. В таких гостиницах завтрак, как правило, вполне для нас привычный: есть выбор между разными блюдами, стилизованными под европейские, с виду и даже на вкус вполне симпатичными.
Однако и в таком простом деле могут быть подводные камни. Проблема в том, что «европейские» завтраки на китайский лад обладают одной странной особенностью: они могут вызывать не сильное, но явное расстройство желудка.
Сложно сказать, с чем это связано. Может быть, с манерой приготовления «европейской» еды – китайские повара до сих пор не очень хорошо понимают, в чем же прикол западной кухни и готовят иностранные блюда как бог на душу положит, в соответствии со своим чисто китайским мировоззрением.
Не исключено также, что завтрак этот, перед тем, как оказаться в буфете, побывал на полу – такое хоть и редко, но случается. Мы своими глазами видели пару раз, как официантка впопыхах опрокидывала тележку, полную судков и тарелок, еда вываливалась на пол, а она спокойно собирала все обратно. Правда, видели мы это в сетевых гостиницах, надеюсь, что в четырехзвездочных до такого не доходит. Хотя гарантию я бы не дал. Как говорил мой знакомый: «Зачем нам терять обед?» А у иностранцев, как известно, желудки луженые, съесть они могут абсолютно все.
Случается, что некоторые блюда разогревают в микроволновках – даже и в приличных ресторанах. Так вот, официант, прежде чем нести блюдо, пробует его пальцем – достаточно ли оно горячее? Может быть, вам повезет, и он до этого потрогал уже много другой еды, так что пальцы его сделались стерильными. А если нет?
Все это я говорю не для того, чтобы отвадить вас от «европейских» (а точнее, в стиле фьюжн) завтраков в китайских гостиницах – хотя и для этого тоже. Все это я говорю для того, чтобы предостеречь. И если уж вы будете завтракать в отеле, то, по крайней мере, налегайте на рис.
Вообще, завтракать в Китае лучше всего в местных забегаловках и харчевнях. Они открываются очень рано и тут всегда можно выбрать то, что вам по душе: будь то каши, лапша, пельмени всех видов, яичные блинчики с разной начинкой и тому подобное.
Справедливости ради заметим, что в собственно китайских ресторанах вопрос с гигиеной приготовления блюд остается открытым. Но при этом, как ни странно, никаких последствий для желудка это обычно не имеет. Вы скорее отравитесь в среднем российском ресторане, чем в среднем китайском.
Правда, некоторый шанс отравиться имеется при покупке еды прямо на улице. Причина в том, что приготовленная еда быстро остывает, а на теплых шашлычках или пампушках бактерии размножаются с фантастической скоростью.
Но вообще тут многое зависит от везения. Может быть и такое, что вы будете есть все подряд без всяких последствий. Тем не менее, средства от расстройства желудка все-таки лучше держать под рукой.
* * *
Довелось нам познакомиться и с традиционным китайским завтраком. Связано это было, как обычно, с небольшими китайскими хитростями.
Когда мы в первый раз прилетели в Циндао, в аэропорту нас неожиданно встретил сопровождающий, которого мы не заказывали. Он сел с нами в такси и был сама любезность. Однако, пока мы ехали, сопровождающий вдруг заявил, что в гостинице, где у нас забронированы и оплачены места, неожиданно начался ремонт, так что не возражаем ли мы, если они переведут нас в другую, тоже очень хорошую? Там пляж прямо под окнами и вообще все прекрасно, только завтрак китайский. Мы ведь не возражаем против китайского завтрака?
Мы не возражали, тем более, завтракать в гостиничной столовой мы не собирались.
Забегая вперед, скажу, что замена, конечно, была не равноценной. Нас поселили в беззвездочной гостинице, где не было даже лифта, и чемоданы свои мы тащили на третий этаж сами. Кроме того, прямо под окнами раскинулся общедоступный городской пляж, бурная китайская жизнь на котором не затихала никогда – ни глубокой ночью, ни на рассвете, ни в полдень. Кто не знает, что такое тысячи китайцев, собравшихся в три часа ночи, чтобы хорошо провести время прямо под твоим окном, тот родился под счастливой звездой. Понятно, что ни одного европейца кроме нас в этой гостинице не было. Да никто бы, кроме нас такого и не выдержал.
Именно в этой поездке мы и познакомились с традиционным китайским завтраком.
Вообще-то, как уже говорилось, в гостиничную столовую мы заходить не собирались, но нас все-таки разобрало любопытство.
– Надо посмотреть, чем живут туристические китайские массы, иначе какие мы после этого синолюбы, – сказала жена.
Китайский завтрак оказался весьма незамысловат: вареное яйцо, засохшие паровые булочки маньтоу, кусочки соленых на китайский манер овощей. Основу завтрака составила жидкая рисовая каша.
Впрочем, когда я говорю каша, это не следует понимать буквально. Кашей это может считать только китаец. Блюдо подобной консистенции у нас в России называют рисовым отваром. Однако именно такие каши чаще всего едят китайцы на завтрак.
Вызвано это одной простой причиной. Обычно за ужином китайцы наедаются всякой острой и пряной едой, которую очень любят. Острые блюда довольно сильно раздражают слизистую желудка и кишечника, и здоровья бедным едокам не добавляют. Поэтому жидкая каша, по мнению китайцев, просто спасение для их ослабшего организма. Это, если хотите, все равно, что рассол для русского человека, только борется он не с последствиями выпивки, а с последствиями еды.
Правда, в России выпивают далеко не все, а в Китае, по нашим наблюдениям, едят все абсолютно. Так что рисовый отвар тут даже популярнее, чем у нас огуречный рассол.
* * *
Начав говорить о китайской еде, трудно остановиться. Но этой теме у нас будет посвящена отдельная глава. Так что не будем торопиться. Вернемся-ка лучше к вечной теме отношений китайца с заморским чертом, он же лаовай длинноносый, он же уважаемый вайгожэнь.
В первые годы пребывания в Китае нам казалось, что китайцы очень приветливы, любопытны и гостеприимны. И это на самом деле было так. На улицах, в музеях, в самых неожиданных местах нам махали руками, кричали «ни хао!», показывали большой палец и старались расспросить о тяжелой иностранной доле.
Нам даже пару раз спасли жизнь. О первом случае, когда нас буквально вырвали из заколдованной пасти Лунгуна, я уже рассказывал.
Другой раз был в горах Сяншань рядом с Пекином. Там есть дорога, ведущая к кладбищу, где похоронен мой учитель ушу. Всякий раз, как мы бываем в Китае, мы стараемся приехать туда, чтобы отдать ему дань памяти.
В начале этой дороги есть магазин. Водитель нашего такси остановился возле него, поставил машину на ручник и пошел что-то купить для себя. Однако стояночный тормоз оказался ненадежным, отказал – и мы покатились спиной вниз по горному серпантину, набирая скорость.
Ситуация усугублялась тем, что мы сидели на задних сиденьях, прижатые передними и не могли добраться до тормозов. На наше счастье, возле магазина покуривал плотный коротко стриженный китаец.
Как бы поступили девять из десяти китайцев, увидев несущийся под откос автомобиль с двумя иностранцами? Скорее всего, только раскрыли бы рот и проводили его зачарованным взглядом. На счастье, нам попался десятый.
Не теряя хладнокровия, он бросился за машиной, благо, она еще не разогналась как следует, догнал ее, открыл двери, прыгнул внутрь и затормозил.
Так что, как видим, в первое время гостеприимство китайское не знало границ. Ощущение свободы, радости, грядущих замечательных перспектив переполняло китайцев. В значительной мере этому способствовали тогдашние экономические реформы.
Однако позже приветливости и гостеприимства заметно поубавилось. С нами уже не заговаривали на улицах, не улыбались нам, люди старшего возраста вообще старались нас не замечать, смотрели мимо.
Мы долго ломали голову, чем вызвано такое охлаждение к иностранцам.
Как всегда, объяснение мы нашли в китайской прессе. В «Жэньминь жибао» было опубликовано несколько критических статей об иностранцах в Китае. В частности, о низкой трудовой дисциплине иностранцев, которые слишком часто меняют работу. Учитывая, что рядовому китайцу приходится все время биться за место под солнцем, его, конечно, раздражает, что иностранцы совершенно не дорожат своим рабочим местом. Не говоря уже о том, что из-за таких вот иностранцев терпит урон великая китайская экономика.
Другая проблема состояла в том, что, по убеждению китайцев, именно из-за иностранцев растут цены на квартиры не только в Пекине, но и по всему Китаю.
В первой половине двухтысячных, надо сказать, цены на недвижимость были довольно щадящими – не только по сравнению с Россией, но и с Европой. Спустя некоторое время, однако, цены на квартиры в Китае пошли вверх довольно быстро.
Китайцы по старой доброй привычке решили, что во всем виноваты иностранцы. Они, мол, скупают перед Олимпиадой дешевую китайскую недвижимость, чтобы потом продавать ее за бешеные деньги.
Но, милые мои, сколько найдется иностранцев, живущих в Пекине постоянно и желающих купить там квартиры? Уверяю вас, счет вряд ли идет даже на десятки тысяч. А вот китайцев, скупающих квартиры на перепродажу, сотни тысяч, а по всему Китаю – миллионы.
Причиной такой свистопляски стала щадящая, почти благотворительная политика тогдашнего китайского правительства. В течение нескольких лет люди могли взять банковский заем под мизерный, почти условный процент. Некоторые категории граждан брали заем вообще без процента. На первых порах бывало и такое, что займы прощались должнику: главное – работай, инвестируй, развивай экономику. Ну, как тут не удержаться, как не купить квартиру и не перепродать ее с выгодой для себя? Случалось, за одним человеком числились гектары жилплощади, пока правительство, спохватившись, не стало облагать купленные квартиры серьезным налогом – все, кроме одной, в которой, по идее, и должен жить покупатель.
* * *
Однако во всех бедах, по доброй привычке, так понятной и в России, винили чужаков.
Сказывалось, помимо прочего, и общее обострение отношений с другими державами, в первую очередь, с японцами. Обострения эти периодически случаются из-за спорных островов вроде Дяоюйдао. В такие времена в китайцах пробуждается патриотизм и его старший брат, великоханьский шовинизм, на иностранцев смотрят косо – причем на всех, не разбирая роду и племени. На стенах домов, в туалетах и даже в витринах цирюлен вы можете прочитать «Дяоюйдао – наш» и другие парикмахерские лозунги.
Справедливости ради заметим, что обострения случаются не только по вине японцев. Регулярно обостряются отношения у Китая с американцами и англичанами. Причины тому разные – от торгового дисбаланса до плохих манер, которыми славятся жители Поднебесной.
Так, притчей во языцех стало поведение китайской делегации в Европе. Делегация эта встретила аплодисментами весть о террористической атаке на американские башни-близнецы. Да и вообще на китайских дипломатов поступают жалобы с самых разных сторон – в первую очередь на то, что они грубы и плохо воспитаны.
Это, однако, не совсем так. Если надо – нет человека более воспитанного и дружелюбного, чем китайский дипломат. Просто они полагают, что иногда грубостью и наглостью можно добиться от партнера большего, чем вежливым поведением.
* * *
Вообще, как известно, искусством давления китайцы овладели очень хорошо. При этом они умело используют и свою торговую гегемонию, и политику попеременной грубости и мягкости, и рассуждения о справедливости, и западную толерантность, и шантаж Запада посредством Северной Кореи, которой, как почему-то считают, управляет Китай – все идет в ход, лишь бы добиться цели.
За примерами успешности китайской политики ходить далеко не надо. Практически все последние крупные соглашения России и Китая очень выгодны для Китая и совершенно невыгодны для России. Причина этого проста – люди, которые этим занимаются, Китая не знают и не понимают, а брать консультации у знающего китаиста считают, видимо, зазорным.
Однако можно влиять даже на китайцев: такие способы существуют в разных областях, от дипломатии до торговли. Приведу только один пример.
Как известно, у британцев и канадцев есть традиция носить в петличке бутоньерки из красных маков – дань памяти погибшим в Первой мировой. Несколько лет назад Китай заявил, что этот обычай оскорбителен для китайцев, потому что, дескать, напоминает им о периоде опиумных войн. И британцы должны немедленно отказаться от такой традиции, чтобы не задевать чувства не в меру ранимых китайцев.
Сложно сказать, что послужило подлинной причиной этой эскапады. Возможно, пример некоторых мусульман, которые объявили, что их чувства ранит изображение любых христианских символов. «Мусульманам можно, а нам почему нельзя? – вероятно, подумали китайцы. – Пощупаем-ка иностранцев за вымя: как далеко заходит их толерантность?»
Тут, однако, китайское хитроумие дало серьезный сбой. Как говорит старая европейская пословица, что позволено мусульманину, то не позволено китайцу. Ответ на китайские происки пришел довольно быстро.
Англичане, которые в силу исторических причин знают китайцев очень неплохо, объявили, что вынуждены выслать из Британии всех китайских студентов. Почему? Потому, дескать, что британская система образования недостаточно хороша, чтобы заниматься обучением китайцев.
Это называется бить врага его же оружием. Заявление недвусмысленно издевательское, то есть очень понятное китайцу, но формально придраться не к чему. Самоуничижение в чисто китайском духе. Мы для вас слишком плохи, не обессудьте.
Так или иначе, шутовское британское самоуничижение нанесло по китайцам серьезный удар. Даже по официальным данным на тот момент в Британии училось больше двадцати тысяч китайских студентов. И это были, конечно, не дети крестьян и рабочих, а дети китайских миллионеров и высокопоставленных чиновников.
Реакция на такой шаг была вполне китайская: полное молчание и открытые в недоумении рты. После этого критику британцев быстро свернули и больше к таким деликатным материям не возвращались.
Британцы, надо сказать, на своем решении тоже особенно не настаивали: урок дан и усвоен, проблема решена, а совсем без китайцев в современном мире, увы, не обойдешься.
* * *
Как уже было сказано, китайцы считают, что иностранцы не в силах понять их загадочную душу и загадочную культуру.
Вам это ничего не напоминает? Мне напоминает. Более того, зная китайцев достаточно хорошо, могу сказать, что они и русские во многом близки. Правда, близость эта довольно специфическая. Близки мы в первую очередь по части недостатков.
Китайцы часто безответственны, безразличны к ближнему, жестоки, ленивы, (да-да, именно так), эгоистичны, большие демагоги, считают себя лучше всех на свете, а других – дураками, склонны жульничать, нередко бесстыдны (вот вам и разговоры о потере лица), хитры и в то же время легковерны, в массе своей невежественны, знать не хотят об остальном мире и так далее.
Но есть, однако, у нас с китайцами и общие достоинства. Китайцы общительны, ценят дружбу, способны работать на износ, верят в свою звезду, сентиментальны, деловиты, иногда способны держать данное слово и тому подобное.
Кроме того, они, как и мы, большие патриоты. Считается, что китаец никогда не рвет связей со своей родиной, между ним и Китаем – словно невидимый резиновый канат. Чем дальше китаец от отчизны, тем сильнее натягивается и тащит его назад этот невидимый канат.
Правда, патриотизм китайский иной раз приобретает такие формы, что становится непонятно, что это – достоинство или недостаток.
Вы, наверное, скажете: зачем же напирать на недостатки, если есть общие достоинства?
Достоинства есть, не спорю. Просто недостатки заметнее.
* * *
Еще чуть-чуть о патриотизме.
В Китае бытует такая поговорка: «Мы патриоты, потому что мы здесь (в Китае) как дома».
Звучит диковато. Где еще быть китайцу как дома, если не в Китае?
Однако все не так просто. Весь Китай, как таковой, вовсе не является родиной для китайца. Родина для него – это то место (провинция, город, деревня), где появились на свет его предки. Человек может родиться и всю жизнь прожить в Пекине, но родиной своей он назовет, скажем Сучжоу, потому что оттуда его прапрародичи. И это не «малая родина», как ее иногда называют у нас, для китайца это родина как таковая.
В родном городе, с которым китаец связан историческими и кровными узами, все родное, свое. В любом другом городе, а тем более в провинции, все чужое: люди, язык, порядки, обычаи. Между двумя соседними провинциями Китая разница может быть больше, чем между Францией и Германией.
Вот отсюда и лозунг, отсюда и желание руководства, чтобы китаец чувствовал себя в любом месте Китая, как дома. И, соответственно, был бы патриотом всего Китая, а не только своей деревни или города.
* * *
Несмотря на привязанность к конкретному месту, исторически так сложилось, что китайцам в поисках работы приходилось выезжать в другие провинции и города. Где, как уже говорилось, они чувствовали себя чужаками. Однако голод не тетка, так что массовая трудовая миграция по Китаю до сих пор в порядке вещей.
Эта привычка к перемещениям и сделала возможным глобальный исход китайцев в XIX веке в Америку. Потому что какая разница для какого-нибудь гуандунца, куда ехать – в провинцию Хэбэй или в США? И там, и там он чужак, и там, и там непонятный язык, и там, и там непривычная еда. Но и там, и там наверняка найдутся земляки, которые поддержат на первых порах.
Кстати, в Америке именно китайцы строили железные дороги, которыми до сих пор пользуется американский народ. Положение тех китайцев, конечно, было ужасающим. Непосильная работа, микроскопическое жалованье, чудовищные условия труда. Эпидемии, избиения, голодные бунты – всего этого они хлебнули с лихвой. Но все же устояли, и многие из потомков тех рабочих до сих пор живут в США.
К слову сказать, знаменитый американский писатель Марк Твен был одним из немногих, кто сочувствовал китайцам в Америке и всячески отстаивал их права.
* * *
Как уже говорилось, патриотизм китайский, если его разжечь, принимает иной раз довольно специфические формы. Когда у Китая возникают очередные претензии к окружающему миру, иностранцы, находящиеся в стране, сразу это чувствуют.
Вас, например, может специально толкнуть плечом молодой патриот в торговом центре. Старый патриот, едущий по дороге на велосипеде, не остановится и не уступит вам дороги, а будет норовить проехать прямо сквозь вас. Патриот средних лет подойдет к вам сзади и как бы невзначай со всей силы наступит на пятку. Юная барышня в автобусе демонстративно закроет пальцем нос, показывая, как ужасно вы воняете.
Не следует воспринимать все это слишком буквально. Просто патриоты так понимают свой патриотический долг. Такие смешные эксцессы случаются в Китае не очень часто, и уж конечно, они лучше погромов, которые устраивали иностранцам в старом Китае.
* * *
С момента появления первых иностранцев в Китае прошли века, а то и тысячелетия. Но китайцы по-прежнему считают, что заморские черти не в состоянии их понять.
И действительно, некоторые вещи понять нелегко.
Например, подлинно народным героем Китая является царь обезьян Сунь Укун. Сам себя этот Сунь Укун называет «Мудрец, равный Небу». Однако этот, с позволения, сказать, мудрец обладает вздорным и скандальным нравом, ворует все, что плохо лежит, житья не дает приличным богам и духам, постоянно лезет в драку и регулярно эти драки проигрывает, а если и побеждает, то не благодаря силе и ловкости, а благодаря волшебному оружию, обману и жульничеству. Именно этот персонаж, подробно описанный в классическом китайском романе «Путешествие на Запад», является любимым героем простых китайцев, выразителем их характера, взглядов на жизнь и вообще негласным тотемом.
Сунь Укун – типичный герой широких народных масс, которые ни во что не верят, кроме счастливого случая. При этом он – самый любимый литературный персонаж в современном Китае. О его похождениях снято множество фильмов, мультфильмов и бесконечных сериалов. Сериалы эти имеют такую популярность, что круглый год без остановки идут по разным телеканалам.
Познакомившись с Сунь Укуном поближе, можно составить некоторое представление о психотипе и жизненных установках современных китайских простолюдинов, не сдерживаемых ни воспитанием, ни образованием.
Однако надо иметь в виду, что далеко не всякий китаец является Сунь Укуном. Разумеется, далеки от этого образа люди интеллигентные, образованные, или просто стремящиеся к образованию. Совершенно другой психотип представляет собой часть китайского студенчества, для которой важна традиционная культура или, например, европейская цивилизованность. Есть множество честных китайских тружеников, которые потом и кровью зарабатывают себе на жизнь, и для них образ Сунь Укуна – всего лишь забавная карикатура, а не пример для подражания. Ну, и, наконец, образ Сунь Укуна, конечно, не очень-то монтируется с построением общества всеобщего процветания, а это в Китае до сих пор декларируется в качестве главной задачи.