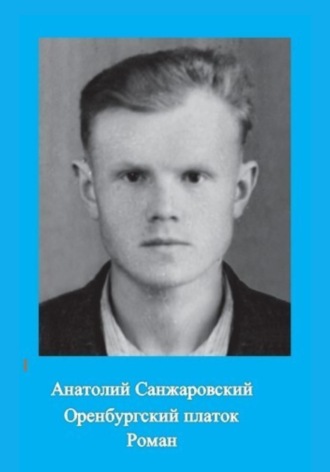
Анатолий Никифорович Санжаровский
Оренбургский платок
7
Глубину воды познаешь, а душу женщины нет.
Побыл Михаил до конца посиделок.
Молчаком идём к нам – какой гостильщик ни пустой, в ночь в дорогу не погонишь, – а моя Лушенька напрямуху и кольни:
– Жених, а жених! Жениться приехал. А шелестелок много? Невеста у нас не голёнка[45]. Вечёрку ладить будешь?
– Хватит и на вечеруху. Закатим такой разгуляй-люляй!.. Все листики на деревьях будут пьяные в пополам!.. Хватит и на свадьбу. Пятьдесят два рубляша! Золотой сезон!
Денежки эти и в сам деле королевские. Две самолучшие купишь коровы и на магарыч ещё с лихвой достанется.
Вот и наш курень.
Открыла дверь мама.
Завидела незнакомца, с испугу вальнулась к стенке.
– Кто это? – шепнула.
Я пожала плечами. Прыснула в кулак Луша.
– Ма, – успокаиваю я, – да не пугайтесь Вы так гостя! Не довеку… Пускай до утреннего побудет поезда… А я пойду к Лушке.
– Об чём речи…
Мама накинула свету лампе, мерцала у неё в руке. До крайности размахнула дверь в боковушку и подняла на Михаила приветливые глаза:
– Проходьте, проходьте, гостюшка…
Поставила на стол лампу рядом с будильником, лежал вниз лицом.
– Оно, конешно… – Мама взяла весело цокавший будильник, близоруко глянула на стрелки. – В три ночи горячими пельменями не попотчую гостюшку. Но кружка молока сыщется.
Михаил конфузливо попросил:
– Не надо… На сверхосытку ж… Я даве ел…
В ласке возразила мама:
– Я не видала, гостюшка, как Вы ели… Покажете…
Опустила будильник на ножки. Вышла.
Пала тишина.
Слышно было, как удары будильника с каждым разом всё слабели. Будто удалялись.
– Сейчас станет, – в удивленье обронил Михаил.
– Всебеспременно! Далёкого дорогого гостеньку, – сыплю с холостой подколкой, без яда, – застеснялся. Гмм… Навовсе, блажной, заснул. Только что не храпит. Разбужу…
Я пошлёпала будильник по толстым щекам.
Молчит.
Не всегда просыпается от шлепков. Одно наверно даёт ему помощь – положить вниз лицом.
Будилка у нас с припёком. Настукивает только лёжа. Вот взял моду. Всех побудит, а сам всё лежит лежнем!
Перекувыркнула – зацокал!
В близких минутах вшатнулась мама с полной крынкой вечорошней нянюки[46]. Налила доверху в кружку. Потом внесла на рушнике пышную, подъёмистую кокурку[47].
– Прошу, гостюшка, к нашему к хлебу. Всё свежьё… – Высокую уёмистую кружку с молоком мама прикрыла хорошей краюхой кокурки. – Присаживайтеся к столу… Стесняться будете опосля.
Михаил вроде как против хотения – в гостях, что в неволе, – подсел к еде.
Мама заходилась стелить ему на сундуке.
– Покойной ночи, Михал Ваныч! – рдея, пропела Луша.
– Заименно, девушки, – на вздохе откликнулся Михаил и заботливо засобирал мякушкой со стола крошки. Нападали, когда мама резала кокурку.
Мы с Лушей выходим.
На улице пусто, тихостно, темно. Нигде ни огонёшка. Только у нас смутно желтело одно окно.
Луша посмотрела на то чахоточное окошко долгим печальным взглядом. Усмехнулась.
– Луш! Ты чего?
– Чудн… Жениху стелют в доме невесты. А невеста в глухую ночь – из дому!
– Не вяжи что попыдя. Какая я невеста?
– Нюр! А не от судьбы ль от своей отступаешься? Парняга-то какой!
– Ну, какой?
– Скажешь, тупицею вытесан?
– Вот ещё…
– То-то! Чеснотный… Не гульной… Любочтительный… С лица красовитый?.. Красовитый. Есть на что глянуть. Умный?.. Умный. Не подергýлистой[48] какой… Работящой?.. Работящой. Не вавула…[49] Рукомесло при нём в наличности. Не отымешь. Штукатур на отличку! Руки у парня правильно пришиты! Сюда ж клади… Не мотущий[50]. Правда, малешко вспыльчивый, так зато обрывистый[51]. Пыль его быы-ыстро садится… Пыль присела, и он уже не кирпичится… Зла ни на кого не копит… Весёлый. Гармонист. Танцор. Обхождением ласковый… Обаюн[52]…
– Стоп, стоп, стоп! Когда ж ты всё это разглядела?
– А вот разглядела… Хорошенько сто раз подумай, чтоб не вышло как у той… Рада была дура, что ума нема, откинула от себя золотого кадревича. А потом возжалела… Сама кинулась за ним ухлёстывать, только голяшками сучит[53] Да внапрасно… Подумай, ну чем Блинов не взял?
– Я давно-о, Луша, подумала. Есть любодружный Лёня. Большь мне никого не надобе.
– Лёня да Лёня! Что в Лёне-то?
– А то, что в третьем ещё классе сидела с Лёнюшкой за одной партой!
– Хо! Стаж терять жалко?
– Жалко.
– А ты не жалей. В пенсионный срок могут и не зачесть! А что касаемо меня… Когда я в первый раз увидала его, сердечко у меня ахнуло… Вот выбирай я… Чёрные глаза – моя беда. Я б потянула руку за Михал Ваныча. У Михал у Ваныча глазочек – цветик чернобровенькой…
– Э-э, мурочка любезная! Суду кое-что ясно… Суду кое-что ясно… Повело кобылку на щавель… Похоже, потаёница, скоропалительно врезалась? Во-он чего ты светишься вся, как завидишь его! Во-он чего дерёшь на него гляделки! Стал быть, иль нравится?
– Наравится не наравится… Ох-охонюшки… Высокуще висит красно яблочко… Не дотянуться… Тут, Нюр, ни с какого боку паровой невесте[54] не пришпилиться. Да только увидь он мои кособланки…[55]
– Кончай этот придурёж! Не жужжи наговор на свои царские стройняшечки!
– И всё равно… Не приаукать мне Михал Ваныча. За тобой, за горой, никого не видит… Белонега…[56] Везучая… До тебя Боженька пальцем дотронулся… Красёнушка писаная совсемуще омутила печалика…
Где-то на дальнем порядке кипел лужок[57]. Несмело ударила гармошка, и парень запел вполсилы. Трудно, будто на вожжах, удерживал свой счастливый бас:
На паркетном на полу
Мухи танцевали.
Увидали паука –
В обморок упали.
Луша было снова поставила тоскливую пластинку про Михаила.
Я оборвала её:
– Да кончай же этот угробный трендёж! Ну, закрой свою говорилку. Не шурши… Ты только послушай, что поют!
Подгорюнисто жаловалась девушка:
Тятька с мамкой больно ловки,
Меня держат на верёвке,
На верёвке, на гужу,
Перекушу и убежу.
– Счастливица… Есть к кому бежать, – вздохнула Луша.
Парень вольней пустил гармошку.
Взял и сам громче, хвастливей:
Запрягу я кошку в дрожки,
А котёнка в тарантас.
Повезу свою Акульку
Всем ребятам напоказ.
Девушка запечалилась:
Меня маменька ругает,
Тятька больше бережёт.
Постоянно у калиточки
С поленом стережёт.
И тут же ласково, требовательно:
Барбарисова конфетка,
Что ты ходишь ко мне редко?
Приходи ко мне почаще,
Приноси чего послаще.
С весёлым, посмеятельным укором ответ кладёт парень:
Ах, девочки, что за нация!
Десять тысяч поцалуев – спекуляция!
– Кому десять тысяч… А кому ни одного… – противно нудила Лушка. – Справедливка где-тось заблудилась… Ну и блуди… Что мне, совсем край подпал уж замуж невтерпёж? А-а… Где уж нам уж выйтить замуж? Мы уж так уж как-нибудь…
И расстроенно, в печали проронила по слогам:
На узенькой на лавочке
Сидят все по парочке.
А я, горька сирота, –
На широкой, да одна…
– Это дело исправимо, плакуша. Так, значит, не видит тебя? – подворачиваю к нашему давешнему разговору. – Выше, подруженция, нос! Теперь завидит! Объяснились мы с ним нынче. По-олный дала я ему отвал.
– Не каяться б…
– Ни в жизнь!
Мы вошли в радушинскую калитку.
Из будки выскочил пёс с телка. Потянулся. Лизнул мне руку – поздоровался. Знает своих.
Снова доплескалось ло нас девичье пение. Жалобистый голосок:
– Полюбил меня и бросил,
Я теперь плыву без весёл…
Уже на порожках остановила я Лушу. Усмехнулась:
– Ну, горюешь по своим вёслам?.. А что… Раз по сердцу, чего, поспелочка, теряться? Ловкий подбежал случай… Не выпуска-а-ай, Жёлтое, такого раздушатушку!
– Ну-у… Ты, посмешница, всё с хохотошками. Всё б тебе подфигуривать[58]. А я, не пришей рукав, что, сама навяливайся? И как?.. Так и фукни в глаза: «Здрасте, Михал Ваныч! Знаете ли вы, что я выхожу за вас замуж?!»
– Чего мелешь? Иль у тебя чердак потёк? Не модничай!
– Всё одно поздно уже. Чё в пустой след лясы строчить? Впозаранок, на краснице[59], встанет, поспасибничает да и кугу-у-ук! Аля-улю на Губерлю!
– Не спорю. Встать-то он встанет. Никуда не денется. Выгостит до утра. А вот по части поезда… Это ещё как мы, подружушка, возрешим.
– Нет уж, Нюр. Ничё не надо решать.
– Понимаю… Ты не айдашка[60] какая… Не рука тебе, поскакуха, с ним первой заговаривать. Неловко самой барнаулить…[61] Так на что ж тогда я? Кто я тебе? Названая сестра иль пустое место? Шуткой, пробауткой – это уж моя печалька как! – кину про тебя словко. А там как знай…
– Не надо, Нюра. Направде. Навовсе ничего не надо.
– Да иди ты в баню тазики пинать![62] Я ж слышу, односумушка[63], не от своего сердца несёшь шелуху[64]. Тихо. Котёл свой допрежь времени не вари. Не лезь, чехоня[65], поперёд. Я старшей тебя?
– Ну?
– Не нукай, скорослушница. Отвечай.
– Ну… На месяц.
– Вот именно! Подчиняйся-ка, голуба, старшинству. Айда спатеньки. Утро вечера умнее.
Утром чем свет, наранках, бегу я назад. Сочиняю развесёлые планы, как это свергнутому я раздушатушке своему стану экивоками подпихивать Лушку, ан вижу: мама и Михаил рыщут по двору с лампой.
В серёдке у меня всё так и захолонуло.
– Чего, – насыпаюсь с расспросами, – днём с огнём в две руки ищете?[66]
– У м-ме-ня, Н-н-ню-ра… к-ко-шель… с день… га… – ми… п-п-п-про… пал… В-в-вот… Л-л-лихота какая…Всёшко о-о-обрыскали… Н-н-ну… В к-к-аких ещё в чертях по-од… з-з-заколодками[67] и-и-искать?..
Михаил сильно заикался.
Помалу я стала понимать, что спеклось что-то ужасное.
На нём не было лица… Убитый, оторопелый, белее по– лотна, стоял он на свежем, – ночью, только вот выпал, – первом молодом снегу и совсем не чувствовал холода, совсем не видал себя, совсем не видал того, что одна нога была в лаковом сапоге, а другая лишь в бумажном носке.
Где-то далече, за горой, глухо, будто со дна земли, за– слышался протягливый паровозный гудок. (Мы жили тогда от путей метрах так в полусотне. Никак не дальше.)
На ту минуту вернулась наша хозяйка.
По нашей по нужде квартирничали мы у одних моло– дых. Как-то так сложилось… Держались впрохолодь, не всхожи были с ними…[68] Никогда молодайка с лубочными глазками[69] – за кроткий нрав и смазливую внешность её звали куклёнком – никуда не носила своего кричливого мальца (детей у них больше не было). А тут притемно ушуршала с ним вроде как к своей к свекрухе и вот выщелкнулась.
Гадать нечего.
Подозрение легло на эту большеухую лису.
– Пеняй на свою на доблестну невестушку! – окусилась смиренная кукла. А самой злой румянец в лицо плесканул. – Эт она, твоя сродная любимушка, твой жа капиталец по – родственному подгýндорила[70] с большого доброчестия. Тепере и не жалае за тебя. Приспосо – о – обчивая курёнка!
– Мерзавица! – открикнул Михаил. – Нечеуху[71] горо дишь, кощуница! Иль ты пердунца[72] хватила? Мор бы тебя взял, кружная овца![73] Не верю твоим клеветным словам, дрянца ты с пыльцой! Бреховня! Я пихнусь в сельсовет! На тебя заявлю, блудячая ты вяжихвостка! И тебя враз упакуют![74]
Обточила баширница[75] Михаила незнамо каким этажом и даль орёт:
– Оя! Кляп тебе в дыхало! Да греби ты отсюда! Нагнал морозу… Выпужал до смерточки, молневержец… До лампадки мне все твои погрозы! Так я и затарахтела перед тобой своим попенгагеном![76] Да заявляй хоша в пять сельсоветов, укоротчик! Греми своей крышкой эсколь угодно, персюковый козёл![77] Мамишну[78] свою попугай! А я навету не боюсь. Как уметил один умный дядько, «движущееся колесо собаки не обгадят»! Куда хошь и чего хошь лепи. Не дёржим. Только мы упрёмся – она спёрла! – И шатоха лошадино выкорячила зад. – Она! Она-с!
Михаил поднял усталые шальные глаза.
– Раз ты, Н-н-нюра, н-н-не идёшь… Р-р-раз д-д-деньги п-п-пропали… Остался на эфесе ножки свеся…[79] Что ж мне?.. Ззагнать с себя всё до нитоньки и вертаться б-б-бобылём?.. За такущее тятяка по головушке не погладит… Сезон! Сезон же увесь в поту арабил!.. Как проклятый… И в одну ночь опал достатком! Обтрясли… Нет, нет, нет уж!.. Нет уж!! Пускай лучше мои костыньки в Крюковку свезут, чем так! – дурным голосом рявкнул Михаил. – Ко всем лешим заявления!.. Ко всем лешим деньги!.. Он нас рассудит! – ткнул в огне рукой в сторону поезда.
А поезд уже грохотал навблизях. В упор так летел. Будто сам сатана выкинул его стрелой из лука-поворота.
И наперехватки вихрем пожёг Михаил к рельсам.
Что было во мне мочушки стеганула я следом.
В слезах ору во весь рот:
– Не смей!.. Не с-с-смей!!..
Машинист подал сигнал. Зычный. Тягучий.
Не знаю, что подхватило меня, не знаю, какая сила подтолкнула меня, только в единый миг оказалась я на вытянутую руку от Михаиловой спины, и хотя, падая на него, не словчила схватить за расстёгнутый ворот, за плечи, всё ж таки поймала за ногу. Хрястнулся он наземь, когда мы сравнялись с головой поезда. Я наползла на Михаила в момент, вцепилась в волосы и прижала его лицом к крутой насыпи.
– Что ж ты, паразит?!.. Умирись!.. Не смей!.. Я и безо всяких денег пойду!.. Матерью клянусь! Только не смей!
Я не знаю, слышал ли он мою клятву в белом грохоте колёс, что лились над нами в каком метре, только подмирился он с тем, что дальше нету ему ходу, и долго ещё белее снега недвижно лежал после того, как поезд прожёг уже.
8
И крута гора, да миновать нельзя.
Себе в приданое выработала я и берегла большую хорошую паутиночку.
Думала ли я когда, гадала ли, что мне, самопервой на селе рукодельнице, первой девушке, придётся продавать тот платок, чтобушки сыграть вечёрку не вечёрку, свадьбу не свадьбу, а так – собирались все наши сродники; думала ли, что придётся на ту выручку за свой платок-приданок брать билет себе и наречённому до какой-то там его Крюковки…
А вот так спеклось.
В близких днях собрались все наши за столом.
Как ни худо было, не поломала мама жёлтинский обычай преподносить невесте платок. Подарила.
Тут тебе на порог Лёня с товарищем.
Лёня и шумни Михаилу:
– Не ты жених, а я жених! Она должна быть не твоей, а моей. Тот пускай и будет жених, кто живой останется. Давай на таковских выйдем правилах!
– Давай.
Михаил сжал кулаки. Встал из-за стола.
А был Михаил-отлёт[80] пониже Лёни. Но шутоломно силён. Богатырей валил снопами! Куда с ним Лёне…
Мама вроде того и прикрикни на Лёню:
– Иля ты рухнул на кактус? Ты што, совсемуща умом повредился?
– Да нет, Евдокея Ильвовна. Покудова я от своего от ума говорю.
– Не затевай, Лёнюшка, чего не след. Ругачкой[81] беду не сломаешь. Даль всё сам узнаешь… И не вини никого… Не от своего сердца Нюра поворотила всё тако… Знаешь же… Бабий ум – куда ветерок, туда и умок…[82]
Заскрипел Лёня зубами. Заплакал, будто ребятёнок.
Изорвал на себе белую рубашку в ленточки.
Кепка его осталась в пыли посередь двора…
Михаил потом накинул её на колышек в плетне. Думали, Лёня придёт возьмёт. Не пришёл…
(Стороной доплескалось до меня после, уехал Лёня куда-то, долго не женился. Под самую вот под войну мальчика ему жена уродила. Только возрастал сыновец сироткой. Сгибнул мой Лёля на фронте.)
9
Своя воля страшней неволи.
Ну а мы, молодёны,[83] что?
Села я в слезах на поезд да и покатили.
Едем день. Едем два.
Едем голодом. Он меня не смеет. Я его не смею. Во рту ни маковой росинки. А харчей – полнёхонька сумка!
Да больше того не до еды нам совсем.
Я всё кумекаю, куда ж это тебя, девка, черти прут?
Дотянулись до ихней станции.
На последние наняли на мои подводу до Крюковки. На доранье, чуть свет, – а холод клящой[84], зуб с зубом разминается, – стучит Михаил в низ окна.
Сбежалась к одному боку занавеска гармошкой. В окне скользнуло женское лицо, и через мгновение какое растут-нарастают в сенцах звуки тяжёлых, державных шагов.
– Маманя! – шепнул мне Михаил. – Узнаю по маршальской походочке!
Михаил не выпускает мою руку. Боится, вовсе зазябну я. Становится попереди меня.
Мать, свекруха-добруха, откинула засов. До предельности распахнула дверь.
В большой радости шлёт с крыльца допрос внапев:
– Ми-инька!.. А невеста-та-а игде?
– А какая?
– А тятяка сказывал, ты надвезёшь. Я и всполошись-та. А батюшки! А Господи! А какая ж она, привезённая-та? Да какая ж эт у нас невестка будет? Привезёнка! Чудо в перьях!.. Так игде-ка ж твоя чуда?
– Мамань! Ну Вы навовсех в упор не видите!
Голос у Михаила улыбается. Изливает тихую радость.
– Будет над родительницей шутки вертеть. Бросай свои заигры. А потомко… Чего ж студить человека? Ты куда её расподел?
– В карман на согрев посадил.
– Значитко, не привёз… Э-хе-хе-хе-хе… А я что ждала… Тако ждала… Все глазоньки проглядела-та…
– Чище смотрите! – Михаил в гордости сшагнул в сторону. – Вот, мамань, моя Нюронька!
Всхожу я на крыльцо, будто чужеземица. Не смею всего. Глаз не подыму.
Мать:
– А батюшки!.. А миленька!.. А роднýшка!.. А ты ж вся дрожишь… А ты ж, чай, наскрозь вся прозамёрзла?!
Не знаю, что и сказать.
Обнялись, расцеловались… Заплакали…
Ведут в дом.
Куда я ни пошлю глаз – на лавку, на печку, на полати, – отовсюдушки грейко светят солнышками светлые ребячьи рожицы.
– А ты, роднушка, – ведёт на ум свекровь, – не гляди на них. У нас в дому двенадцать носов и всяк чихает.
Да-а… Стало, врал Михаил…
Плёл, один одним у отца-матери. Одиный! Вот, мол, трое нас. А вышло, не хватает до чёртовой дюжины одной дуры несолёной. Так вот же съявилась. Всеполный теперь комплектишко!
Дали мне валенки.
Велели наскорей забираться на лежницу[85].
Обняла я трубу. Реву:
– Оха, мамынька ты моя родная! Оха да жёлтинска! Да куда ж меня завезли-та? Да куда ж да попалась-та я?..
– Нюронька! Ну чего ты, ей-бо, расслезилась? – шепчет в ухо Михаил. – Не надо бы, а?.. Ну чё ж тепере, пра, делать? Не ворочаться же… Всенадобно, Нюронька, со всей дорогой душой к нашему к обчеству приклоняться… Ну… Надь ладниться… Слышь, сродничи, соседи валом валят. Полна коробонька нажалась народушку. Привёз Блинов невесту со стороны! Глаза горят на молоду поглядеть-ка…
10
Сама испекла пирожок, сама и кушай.
Попервости я быковала. Не соглашалась идти под Михаилову фамилию.
Серчал он:
– Тогда и не жона как будешь… Жона должна таскать мужнину фамильность.
Время пообломало мою гордыню.
Навприконец отступила я на попятный дворок.
Пошли мы в загс. Записались.
Выдали нам регистрированную бумажку.
По дороге назад я спросила, когда венчаться пойдём.
А Михаил со смешком и отколи штуку:
– Иди венчайся одиначкой. А я – господин Товарисч Комсомол! Я венчаться не буду.
Прямо оглоушил. Как обухом старой корове меж тупых рогов. Стала я посередь дороги и шагу не могу ни взад, ни вперёд подать. Будто вкопало по колени. Не то что мизинцем пни, дунь – паду.
А он, лихобес, руки за голову и ну бить дробца. И ну этаким чертоплясом вкруг меня кружить с приговорками:
Эх, тюх – тюх – тю!
Голова в дяхтю,
Руки – ноги в кисялю –
Свою милку весялю!..
Эха, яблочко
Сбоку верчено.
С комсомольцем живу
И не венчана!..
Я плясала, топала,
Искала себе сокола.
Думала, он далеко,
Оказалось – около!
Сгрёб с себя кепку, припнул к груди в поклоне – это я, соколок-найдёныш! – и в полной отчайке хлоп кепкой плашмя оземь.
И дале за своё:
У милёнка у мово
Поговорочка на о.
Он на о, и я на о,
Ноне стала я ево!
– Как толечко… добыл на меня бумажку… – бормочу. – Час… Единый час не сшёл… как накинул в загсе хомуток… А уже натура-дура в открытку из тебя полезла! Такущую вздорицу попёр!.. Это ещё что за машок?[86] Даль-то чего ждать?
Бросил он скакать. Повинно вальнулся передо мной на колени. Обнял меня и не пропел, в донной печальности прошептал тихо приговорку:
Ты, колечко моё,
Кольцо золотое!
Ты, сердечко моё,
Кровью залитое!..
Помолчал и потом так повёл в покаянье слова:
– Нюронька… Небесна звёздынька… Ты думаешь, я, большой руки дурак из картошки, увесь возмечтал тебе обиду склеить? Не-е-е… И в думке, милавица, не содержал. Жить будем в ладности, моя паниматочка. Вдвох. Безо венца. Третий, знамо, лишний.
– Чем же тебе венец не угодил?
– В том и фасоля, всем угодил! Мне сам Боженька подал тебя как гостинчик в окошенько! И я проть венчаться? Хочу! Да не стану, любиночка ты моя… Да тольке шатнись мы в церкву – до гроба завоспитывает товарищуга комсомолюга! Точнёхонько ведь расшифровывают ВЛКСМ… Возьми Лопату и Копай Себе Могилу. Одним же зубом загрызёт неугомонный товарисч Комсомолок. Это ёбчество ещё то! Задолбют эти господа-вороняки. Никаторого житья не дадут! По знакомцам заключение держу. Опа-а… В комсомолий-крематорий внагляк загребли, как трактором, сразушко всю горьку улицу… Молодняк, знамо… Безо спросу записали. Без согласки. А теперь и крутись-оглядывайся. Без спросу и до ветру не сбегай. Ис-крив-ле-ние политицкой линии! Вота чё выработают из нашего культпохода у церкву. Навалются всей чингисхановской ордищей и в бараний нас рог сомнут. Тебе эть надь? Лично мне не надь. Того я, блиныч, и не хочу ни тебе, ни себе говнивых приключеньев на весь остатний кусок житухи…
Я дала соглас Михаиловым словам.
Вот весь век и живу не венчана.
Через вереницу лет, на исповеди, покаялась про это.
Батюшка и успокой:
– Ничего. Господь простит.
А я и платьишко к венцу нарядное справила.
Так и разу не надела. Ненадёванное лежало.
Дочке потом к свадьбе подарила.
Было оно Верочке впору.
В Крюковке я скоро обвертелась. Освоилась.
Одни по-за глаза выхваляли меня. Минька хорошу жону со стороны отхватил! Кой-кто поперёк тому слову на дыбошки вставал. Мол, а чего больно хорошего-та в ней? Тот же назём издаля привезён!







