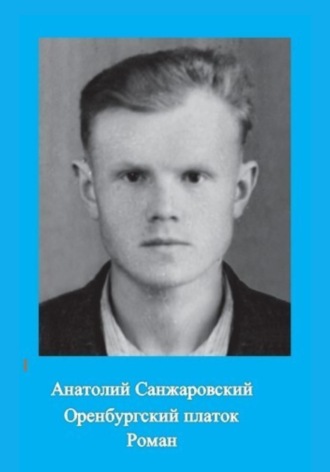
Анатолий Никифорович Санжаровский
Оренбургский платок
28
Не то счастье, о чём во сне бредишь,
а вот то счастье, на чём сидишь да едешь.
Пожила я не с воробьиный скок. Припало повидать всякой жизни. А грешна, кортит бабке поскрипеть ещё да поойкать. Вон какой компот…
Знамо, вязать – глаза терять. Всё одно и при нонешних уклонных моих годах без вязанья, без дела не могу я.
Огородик посадишь, картошки клинышек какой под окном. Меж картофельных кустов расквартируешь розы, георгины, хризантемы (золотые шары эти потом благодарно кланяются тебе как живые, когда ни глянь летом за вязаньем в окно враспашку), гвоздики, маки, пионы, тюльпаны, подсолнухи… Дивная у меня семейка.
Покопаешься маненько на огородике, уже и жди в гости приступ. Аховая стала труженка.
Теперь самый сердечный мой дружок валидол. Скрозь, куда ни носи меня ноги, он со мной.
У каждого возраста свои погремушки…
У нас в Жёлтом за обычай передавать уменье в наследство из рода в род. В каждом же курене работают платки! Всяк вяжет, как рука возьмёт. У каждого рода своя школка. В каждом доме свои учительки.
Всё, что я знала, отдала дочке, невестке, внучкам.
Все ладно вяжут.
Что ни лето наезжал ко мне внучок Миша.
Вообще-то у меня внуков четверо. Богатая я бабака. Не было лета, чтобы не выгостили все.
А вот – тут уж ничего над собой не поделать, – наичаще и лучше других вспоминается Миша.
Вспоминается с поднятой рукой. В руке пол-литровая банка с живой речной мелочью. И похвалебный крик:
– Бабаля! Во-о скоко наловили!
Меня из счёта он не выпихивал. И на том спасибко.
Рыбачничать люби-ил.
Ну куда!
Отец рыбака[193], и сын в воду смотрит. Батюня у Миши ло-о-овкий рыбарь. Пятернёй нащупает и поймает! Никакой возмилки[194] не надо.
А мы с Мишей, с оглядышем[195] моим, раз за всю неделюшку удочкой лиша одиного малька выдернули из реки.
А визгу дали до небес!
Зато ловить исправно бегали кажинный день.
Как ударники на работу.
Ну, накормишь. Подкопаешь червячков. Хлеба отрежешь да бежмя на Сакмару. Удить пескарей, сигушек, головчаков!.. Удить!!
– Лов на уду! – на смеху кланяются нам рыбачьим приветствием встречные сельчаки.
Кивнёшь в ответ и вжик дальше. Знай летим на всех ветрах. Будто те пескарьки поиссохлись, незнамо как поистосковались по Мише со мнойкой.
А рыбалиха из меня ой да ну!
Ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса.
На последнем дыму еле-еле доплывёшь до реки в самоварчиках[196]. Сразу это у сбега[197] на корягу плюх. Выставишь удки. Ловися, пожалуйста, рыбка. Большая и малая. Налетай! Кусать подано!
А жар… Парко…
Кругом тишь. Нигде ни души. Лишь праздничный берег разодет в цветастую траву да в отдальке переливчато жмурится марево. Не то пританцовывает. Не то потешается над нами. Не то к нам в компанию ненадёжно просится.
Не поспеешь дух перевести – миляшечка Сон Иваныч в гости кличут. Совсем заплошала я, девка-огонь. В момент размарило, развялило.
Это надо?
Для приличия перед внучком с минуту с какую повоюешь со сном. Побрыкаешься. Половишь носом окуней да и всеокончательно уступишь, отдашь шпагу. Заснёшь, что твоя белорыбица.
А Миша то и выжидал.
Подымется поскакун тишком и на коготочках от меня.
Скрозь дрёму вот вижу. А сказать воротиться нету моих сил.
Резвые ноги бесовато носят гулебщика по окрестным оврагам.
Уже когда всё в них до крайней крайности исследовано, манит дошлёнка пуститься подалей куда. И за ту, и за ту, и за туйскую гороньку-подгороньку!
Ну, в самом деле. Не преть же молчаком на солнцежоге поплечь (рядом) с непутёвой бабкой. Сидит спит!
А с другого боку заверни, так рыбалку навроде и неспособно, вовсе не рука кидать. И тогда гуляйка таки возвращается ко мне. Крадливо подбирается на одних пальчиках.
Садится побочь (сбоку).
Будкая, я всё это слышу. Отчего совсем и просыпаюсь.
– Бабаля! – покорливо вшёпот выговаривает дерзостник. – Что ж у нас не клюёт?
– А кто, гулёка, видал?.. Клюёт… Не клюёт… – злобствую я на своё сидячее спаньё – ну срамота! – и на его овражные прохлаждения.
Однако ж строю с какой-то стати вид, что про отлучку отрошника[198] и не догадываюсь.
– Хотеньки одна малюсявая рыбонька подвесилась? – тоскливо вздёргивает скитун обе пустые удочки. И свою, и мою. – Ни одна… Ни однашенька…
– А что, неуковырный[199], рыба дурей всех? Ну нараде чего вешаться ей к тебе на крюк? Житуха крута?
Он чуть не плачет.
– Ну хоть ба самая размаленькая! Во таку-у-усенькая! – молебно сложил вплоть указательные пальчонки.
– Хых, маленька… Знамо, и маленька рыбка лучше большого таракана. Сиди, ветрохват, да лови! А то иде ты, самопёрец[200], колобобил? Кинься так – семи собаками не сыскать! Иде тебя, Шалтай Болтаевич, купоросные азиатцы гоняли?
Бегляк покаянно уронил горький взгляд в воду.
Близкие слёзы вот-вот потопно ливанут из недр наружу.
Будь моя сила, я б безвидно нырнула, подвесила ему на удочку какую пустяковину вроде головчака и подёргала б приветно. Только не кисни!
Но я не волховка.
Голова, как у вола. А всё, вишь, мала. Глупа.
Я только то и могу дать, что у меня в сумке.
– Избегался, неработель?[201] – ворухнулась я и правски, основательно подправила удочки. Рыба бегает полуводой, посередь глубины. – Хлебка с рыбкой пожуёшь?
– Аха-а!.. – зацветает одуванчик. – А рыбонька игде?
– Всё на местах на своих. Хлеб, – подаю ему, – у тебя в руке. А рыбка в реке. Ешь вприглядку.
И глуподуро усмехаюсь.
За компанию улыбка подживила и его.
– Давай, миклухо-маклай, собирайся обратки. А то дождяра наскочит.
– Откуда?
– У нас не клюёт? Не клюёт. А рыба не клюёт – к дождю. Да и, по примете, живую рыбу домой таскать – не станет ловиться. Ну зачем нам такой перебор?
– Бабунюшка! – чиликает мой воробеюшка. – А ночком[202] рыбке в речке не страшно?
– Эт ты рыбку спытай, – затягиваю я паутиной ответ.
– Бабаль, – не утихомиривается озорун, – а чего это рыбка нашу кокурку не берёт? А?
– Да у неё, пра, ноне свой хлебушко повёлся. Сыта на сверхосытку…
– А у рыбки что, своя столовка?
– Факт, не твоя. Убрала свой хлебушко да и спит себе в печарке[203] под бережком. Айдаюшки и мы, Мишута, себе на отдых.
А дома шутя, шутя да в шестое лето парнишка-хват и свяжи катетку, простенький платочек машечкой[204]. Зубечики, правда, я сама вязала. Двухлетней сестрёнке Гале (буду жива и её научу) на день рождения подарил. Под шапочкой носит.
Ой да ну… Растрещалась, как сорока к непогодице.
Что насказала про себя – это от большого дерева одна только веточка…
Открылась дверь, вошла сестра. Подивилась:
– А здесь что? ООН заседает? Хватит. Ходячие! В столовку на ужин!
Утром доктор с обходом застал меня за вязаньем.
Сидела я вязала. И подслушивала радио. Со стены лопотало.
Выступал кумедный задышливый генсек:
– Фсе на… ши… тру… тру… тру-дя-щи-е-ся сиськимасиськи дружно идут на… на… на… гавно…
Всех так и опахнуло морозью.
Обход конфузно уставился на меня.
Будто это я проквакала.
А генсек тем временем дважды надёжно передохнул и с горячего разгону всем назло почти правильно отчитал то, что ему там понаписали:
– Усе наши тру-дя-щи-еся сис…тема…тицки дружно идут нога у ногу…
Ну, куда почапали те трудяги, уже никого в палате не интересовало. Вся комната крепко обрадовалась успеху вождя. Пускай и с третьей разбежки, а таки «бровеносец в потёмках» сам выскочил из дерьма!
Ой да ну!
А вообще жалко Лёлика.
Душевно жевал язык, когда выступал.
То ли мне прислышалось, то ли и в сам деле кто в обходной свите в смехе пожелал:
«Этого генчудика с бетонной челюстью давно пора на целине похоронить, малой землёй присыпать, чтоб не возрождался».
Профессор мне улыбнулся, хорошо так улыбнулся в развалистые усы. Отчего они хитрюще так разъехались.
– Ну, как мы себя чувствуем? – сымает вежливый спрос.
– Вижу, вы себя недурно чувствуете. Мне тоже грех жалиться.
– Вот это ответ! – выставил он палец.
– Да, доктор, – кладу подтверждение. – Знаете, лучше. Может, это оттого, что разуважили вот бабий каприз?
– Может, и оттого, – уклончиво, надвое так, с усмешечкой откликается.
Взялся мой профессор с живинкой разглядывать мою работушку. Смотрел, смотрел…
Скачнуло моего избавителя на пенье.
Промурлыкал прилиплую, как слюна, куплетину из хулиганистого врачейского гимна «Тяжело в лечении – легко в раю!» и со вздохом рапортует:
– Мда!
– Какой вы нарéчистой! – отстегнула я с солькой.
Шпильку мою он пустил мимо уха.
Серьёзно тако докладывает:
– Конечно, я не какой там спецок от культуры… Хотя я ни на ноготь не смыслю в Вашем деле, всё ж скажу. И паутинка у Вас на плечах, и то, что под спицами сейчас растёт, – это, если хотите, застывший божественный восторг!
– Ну-у-у, – оконфузилась я. – По части восторга, доктор, у вас полный перехлёст.
– Скорее, недохлёст, Анна Фёдоровна. Своими ж знатными платками Вы заработали державе золота столько, сколько сами весите!
– Это кто Вам такущую справчонку нарисовал?
– Платок, – ломит далей своё, будто я и не подпихивала ему вопросца, – сам по себе уже ценность не только материальная, но и духовная. Да плюс – это Вы и не подумали на счёты положить – вязанье как таковое. Вязанье Ваше – прекраснейшее лекарство! Именно! Лекарство! А не каприз, как Вы изволили квалифицировать. Если Вы за вязаньем не забываете вовсе, так (это уже точно!) не ахти эсколько думаете о болячках. Думаете всё больше о деле. Так что в оптимистическом духе вяжите на здоровье и дальше!
– Да куда ж я денусь, доктор? Буду вязать. Я на этом зубы съела.
И – поехали с орехами! – и пошла, и пошла, и пошла бабка в гору.
Вскорости прикончила я платок.
Хорошо связала. Без расколов. Оно вроде и ясно. Жёлтинцы ж «ландышей» не вяжут!
Узор слился крупный, глазастый, яркий.
Ну, думаю, раз я не померла, раз одиножды спас платок, так спасёт и ещё. Отживу ещё сто лет. А то, что жила, мимо.
Не в зачёт.
Выписали меня из врачебницы.
Вышла я на майскую улицу…
Не только света, что было в больничном окошке.
На улице больше его. Света-то!
Иду по живому, по весёлому Оренбургу к вокзалу.
А у самой от тревожной радости душа жмурится.
Ехала я поездом домой, думала всё про Левшу.
Вот принеси ему кто в скорбный дом блоху подковать, разве он помер бы так рано?
29
Май леса наряжает, лето в гости ожидает.
Вышла я в Жёлтом.
Не успела протереть очки, как поезд мой и увейся. Народко (там приехало-то полтора человека) вбыструю стаял с виду.
Прижала я сумку к груди, стою на холостом полустанке. А чего стою и не скажу.
А кругом благодати-то что!
Май…
Солнце полыхает такое…
Глянь на него в полные глаза – ослепнешь.
Пшеница уже в перо пошла.
Деревья в зелёную одёжку вырядились.
Птички с тех дерев пускают трели.
Молодая травушка чуть не у самых ли рельсов взрезала землю. Продралась к свету. Стоит тугая да упругистая. Ну гвоздь гвоздём! Кажется, вот шагни на неё – ногу проткнёт.
Склонилась я…
Тихонько погладила шёлковые головы травинок…
Я снова дома…
От слёз света не вижу…
Откуда-то из дальней дали, не из самой ли из груди земли, еле слышно подступается песня.
– Где, вдовица, твои наряды?
Что ты ходишь в старом платье?
– Я нарядам своим не рада.
Все лежат они в сундуке.
– Для чего им, вдовица, мяться?
Для того ль они нужны?
– Тот, пред кем мне б наряжаться,
Не вернулся ко мне с войны…
Я смотрю на станцию.
Строил Миша…
Со слезами моими нету никакого сладу…
Уехать куда – Миша молча проводит. Приеду – первый встретит. А приветного словечка не подаст…
После слёз, как после грозы, на душе ясней, тише.
Нога за ногу, что твоя черепаха, бреду с сумкой.
Нету попутчика, так и сумка попутчик…
Вдруг влеве слышу из-за плетня знакомый развесёлый голос:
– А-а! Пожалуйте на чашку кофею, на парý картофелю!
Подымаю глаза.
В калитке нараспах Луша Радушина кажет мне из-под руки своё пустозубое жевало.
– Батюшки! Никак святая душа на костылях! – качает Луша головой. – Сразушко я тебя и не угадала… Молодчинушка! Погляжу, ты ещё хлеско бегашь!.. Ну здорово, дипломированная бабка со знаком качества!
Эвона что!
Оё, думаю, стара, стара бабка Лукерья, кой-где перья. До крайности стара. А всё никак не выпустит из памяти, что платочки-то мои первые ухватили знак качества. Помнит и про мой диплом с последней вот российской выставки.
Пустила она петлястые слова вроде со смешком как. Кольнула с улыбонькой.
Так на́ тебе на твою медальку в ответ две мои!
– Здорово, цитрамониха!
Передёрнулась она вся. А жальце посильней высунуть нетоньки её. Поджала моя Лушка хвосток. Жалобится:
– И не скажи… Вечная я цитрамониха… Эхе-е… Одначе хоть при оцьках ты с виду и профессориха четырёхглазая, зависти в том я тебе не кладу. Без оцьков-то оно способней. Без оцьков я ещё наскрозь вижу. Здоровьем так вроде и ничего. Болеть за спицами нековда. Да всё ж… Не в гору живётся… Под гору. Не та пора, золотко, как на посидёнках разом вечеровали-гуливали… Моть, помнишь, в те красовитые, сладкие лета всё звала ты меня хрусталиком? В глину перетёрла жизнёка хрусталик твой. От тех нас, Нюр, одно хламьё осталось.
– Это ещё кто какую себе ценушку кинет…
– Спорь не спорь, подружа, не венца ждать. Добираем, Нюр, век мы свой. Теперько толечко и жмись, как бы подбериха[205] не сцопала… У Бога дней невпротолочь, а и те кончаются. У Бога дней для нас уже не решето… На донышке… Остаточки… Последочки подскребаем…Эхе-е… Век сжить – не мешок сшить… По нашим по годам надоти нам большь принаближаться к Богу…
– Ну-у, плачея, завела мне молебствие… Вот талдычишь… А сама в том приближении смыслишь хуже, чем сазан в Библии! Лучше похвастайся, как ты тут.
– Да как… Не в пример тебе, Нюр, конфузно дажь присознаться сказать. Кручинные у меня туторки-мотуторки… Прям неотпойная пьянюга стала. Хужей мочёной козы[206]. Знаешь же… Наша барыня[207] иле обиду на меня за что спекла?.. Совсем перестала помогать. Я на поклон к братке цитрамону. И… Во всякое утро только что не шадымчик – цитрамоний той примаю от головы. Кажинный-всякий месяц по целкашу пропиваю. Это надо? Во-она какая я цитрамониха! Знать, ехать мне на том цитрамонке до умирашки… Вот такая моя плачь неутолимая… Эхе-хе-хе-е… Ну а ты? В таком падении была… Ты-то там оклемалась, чё ли?
– Да, Луша, в таком распласте сковало… Укол по уколу ляпали… Таблетки горстями… Микстуры бадейками… Боольно шибко гнали… Да думаю, догнали ль беглое здоровьишко? Под завязку ну два полных месяца зад в «колонии постельного режима»[208] откатала![209] Вся выхворанная…[210] Чуток не перекинулась. Да раздумала… Не знай, какими только судьбами и зацепилась в живых. Не на зубах ли выдралась из могилы…
– Ну и слава Богу.
– О нет! Слава врачам и… – Зуделось мне похвастаться про выработанный в больнице платок (лежал в сумке поверх часов с кукушкой), да устеснялась. Не рука себя выхваливать.
– А у нас, Нюр, горьких новостёнок доверху…
– Что такое?
– Редеет, миланя, наша дружина… Тает, миланя, наш боевой попрядух…[211] Бабка Пашанька кончилась…
– Фёдорова?!
– Фёдорова… Третьего вот дни схоронили…
– Да ты что, Луша?!
– Эхе-хе-е… Опочила смирнёхонько… – Луша горестно вздохнула. – А как смерть чуяла… Это что! Страшно сказать… Попервах всё бухтела: «Надоти ускорней вязать. А ну примру и спокину недовязку? Велю: положьте у гроб. Там в спокое докончу…» Все посмеиваются. Но никто не обещается в гроб с нею снаряжать и ейский окаянный плат. Она не спать. Ночь не спит. Другую не спит. Эхе-е… Вяжет машина. Ну, добила свою трипроклятую метровку – она век сидела на метровках, не тебе докладствовать… Туте как раз с поезда домашние. В Ташкенте гостили, урюку понавезли. Компот завертелись варить.
А бабка Пашанька и повели:
– Не тратьте зря урюк. А то вот помру, где урюк возьмёте на компот? Вам бегать! Урюк жа увсегда нараздраку…[212]
Эхе-е… Сели пить тот компот. Села и она. Глоточек приняла. Омочила душу. Боль не пьёт. Только с пристальной жалью так смотрит на всех.
– Бабаня, – шлют ей вопрос, – Вы чего тако на нас смотрите?
– Хочу насмотреться… Ну не пейте… Хоть не давай… Увесь жа вымахнете!
– Да Вы сто ещё лет уживёте! А мы компот дёржи?
– Не бойтесе, не сто… Совсема дажь малешко… Купите сахарю!
Не с руки отказывать.
Побегли взяли у магазинщика ведро сахару.
– Спасибушко, уважили, – кладёт на то благодарствие бабка Пашанька. – А то я помру… Буду лежать царёхой. А вы бегай!
И что ж ты думаешь? Села за прядево.
Всё на себя бу-бу-бу:
– Рано встала, да мало напряла. Негоже неполну вере– тёшку спокидать…
Зять на подгуле подшкиливает:
– Что нам прясть? Пускай зайцы прядут! А ты ложись!
Смалчивает Пашаня на таковецкие выкомуры. Утерпу набралась. Знай себе в нитку тянется в деле. Старается.
Олька, внучка, притолкнулась рядком раскроить ей кофтёшку из байки. Привезли старушке в гостинец.
Пашаня и восстань:
– Дажь не порть, окаянщица! Не надь!.. Ты лучше скажи, нахороше запомнила, как наумила гирьяльская казачка?
– Как не запомнить? Вы сколько раз повторяли… «Трудись, не ленись, никого не обижай, Бога поминай – будешь в ряду людей». Так?
– Так! Так! – степлела и голосом, и лицом Пашаня. – По таковской линии и ступай, внучушка, в жизни. А… А байку на меня не порть. Не надь.
Не надо? Ну и не надо.
Олька опеть и накинь ноженцы[213] на старый гвоздок.
Дело к ночи. Всё Жёлтое уже без огней.
Пашанька в своей боковушке всё пряла. Заподряд шесть дён уже пряла. Музли[214] вон сели на пальцы.
В дому уговаривали все:
– Бабаня, не больно себя загоняйте. Ложитеся.
А она ни в какую:
– Ваш день к вам взавтре чем свет подоспеет. А мне нонь последненький сдан.
Ну… Ничего не сказали ей на таковецкие погорячливые речи.
Легли.
Она всё пряла.
Ковда это утром зовут к столу – голоса не даёт. Подходят, а она – мёртвая…
Уснула и не проснулась. Ни мук тебе, ни стонов. Опочила смирнёхонечко.
А на столе полным-полна веретёшка пряжи…
30
Счастье в нас, а не вкруг да около.
Из кручинного молчания выпихнул нас детский голос.
Мы поворотили головы на крик.
Оголец году так на пятом стоял на перстичках[215] и тянул распахнутые руки к коту на крыше. Молительно просил-командовал:
– Ну пигай, Барсик!
Кот робел прыгать и с мяуканьем кружил по искрайке железной кровли.
Мальчик устал держать раскинутые руки.
Погрозил коту кулачком:
– Да ну пигай ты!
Лукерья не отпускала из виду мальчонку.
С сердцем хлопнула в ладоши.
– Сашка! – спустила тонкий голос на парнишку. – Ну, ты чё, ловкой, весь взвертелся? Я наведаюсь к те, запасная ты спица, в загривок. Ты допечёшь! Не мани кота, вертопрах. Шею ж свернёт! Лучше по правде скажи, ты как след поел?
– Как след…
– Молоко яичком[216] съел?
– Съел… Бабуня! А мы вдвоём со стулкой, – мальчик кивнул на высоченную узкую табуретку у стены, – достигаем до крыши. А можно… Я подыму стулку. Котик на неё скакнёт, и я спущу его тихо-натихо вниз?
– Это совсем другой коленкор, – вошла в соглас Луша и подхвалила: – Я погляжу, так ты местами деловец!
В два огляда кот гордо мурчал у мальчика на руках.
Отворилась дверь. За порожек занесла ноженьку важная такая да крепонькая девчоночка летами и росточком победней мальчика. Красивая, в кашуле.[217]
– Это что за квас на вилке едет? – улыбнулась я девочке.
– Я не квас. Я Галя, – с хмуринкой в лице не без гонору ответила нарядница[218] и показала на лежачий валенок. – Бабунь, а бабунь! – позвала девочка Лукерью. – Смотри, твой валенок лёг спатеньки у самой у дверюшки. Тут так ду-ует! А ладно, я отнесу к печке? Чтобко к нему простудка не прилипла…
Луша с добрым смехом кивает.
Девченя живо, только пятки отскакивают, уносит валенок.
Вертается уже при яблоке в руке.
Саша наглаживает кота. Ткнул локтем в белое большун яблоко с краснобрызгом.
– Галча! Брось баушкино яблочко. А то уронишь.
– Не горюй, вредун. Не уроню.
– Ну тогда просто дай.
– Неа…
– Ну Барсика подкормить, жаднуша!
– Ты с ума спрыгнул! Я сяма хочу тыблочко.
Галя чихнула.
– И правда. Хочешь. – Саша так-в-так закатил глаза, как только что закатывала Галя. – А!.. а!.. а!.. а!.. – прерывчато в спехе набавляет голосу Саша, но разродился не благопо– лучным чихом, а строгим донесением: – А-а-а-абчистили карманы и тыблочко укатили!
– Нетушки! – в торжестве выставила Галя яблоко. – Вот на ладонушке греется!
– Замерзает! Дай, сестрюня, хоть подержать. У меня крепше нагреется… Чего молчишь? Хвальбушка! Ты меня хорошо слышнула?
– Хорошо, хорошо! Только… – Галя погрозила Саше пальчиком. – Только дай зайке подержать моркошку…
– Да я не морковку прошу. Яблоко!
– Нив-ког-да-шень-ки!
Тут на выставленное яблоко деловито села божья коровка.
Галя забеспокоилась.
– Ойко! Вася! – тихонько погладила коровку. – Что ты наделала!? Зачем ты села на тыблочко? Этот хамлет, – покосилась на братца, – может тебя убомбить вместе с тыблочком! Вася! Вася-комарёк! Ты лети скорейше на свой пенёк!
Девочка сильно подула на коровку, и коровка полетела.
Проводив сердитым взглядом коровку, Саша мрачно подпёр себя кулачками:
– Сеструха-зелёная лягуха! Ты чего тут напела про меня божьей коровке? Ты чего ей коптила мозги? Я у тебя хоть-ко разок отнял что-нибудь?
– Просто не сумел… Пока…
– Просто не хотел! И сейчас не стану отымать. Ты у нас добрунька. Сама дашь яблочка…
– Нив-ког-да-шень-ки!!! Чтоб тебя буляляка[219] пощекотал!!!
– А-ах! Ты так, кривляка-ломака!? Ты такая?.. Да я с тобой больше не вожусь! Не буду я больше играть с тобой ни в ловички[220], ни в лобаши![221] Знай, подружка-лягушка, между нами чемодан. И вообще меня переехал трамвай! Однёрка!
– А хоть два раза! – С нескрываемым равнодушием девочка кивнула рукой брату и тотчас загорелась навести на меня зеркальце. – Бабунь, а бабунь! К тебе сейчас зая прибежит в гости.
Белый кружок задрожал у меня на груди.
Я хочу взять погладить – зайчик уже взмелькнул на руку.
Девчурка закатывается смехом.
Я подмечаю: губы, зубы, язык у неё зелёные.
Интересуюсь в ухмелочке:
– А чего это у тебя вся хлеборезушка в зелёнке?
– Мой ротик ещё не поспел, – жалуется хорошутка.
– Зато ты вся перезрелка, – грозит ей горбатым пальцем Луша. – Я те!
И мне почти плачучи:
– Нюр! Ты у нас культурница…[222] Можа, ты чего, четырёхглазая профессориха, подсоветуешь? Я не знаю, что его уже и делати. Эта куражистая оторвашка знашь чего напрокурдила? Чернилов нахлебалась! Во чего наскоблила[223] себе на хвост!
– Ка-ак?
– Да… Иля она у нех чернилами вспоёна?.. Ну прямь не дитё – сорвигоре!.. Значится, вчерась Сашке купили первый пузырёк магазинных чернилов. Синих не было. Чёрные не завезли. А зелёные – вот оне! Мы и раскошелься на зелёнку. Не постояли за цветом. Ить дело-то тесное… Парняга пробуе писать. Давно ль бегал голышонышем? А уже пять годов! Пора к учёбе приклонять… А эта зелёнозубая пустоварица в смертный крик. Сашке купили! А мне не купили!.. Закрывайся, жизня, на земле!.. И наранях, Сашка ещё спал, хлобысь эти чёртовы чернила. Гораздое дело! Всю пузырину отважистая выдула! Назлах!
– Завместо чаю, – уточнила Галя.
– Видала! На чаю армайка[224] сэкономила! Изнутря чернилами сполоснулась эта мучительница покоя, – пожаловалась Луша. – А то, что бабка вся обкричалась лихоматом, места не находя, её не колыша. А ну отравилась? Врачицу метнулась я звать. На вызове! Гдесь на бесовых куличках. Вот с часу на час снове надбегу…
– Не досаждай ногам.
– Но делать-то чё-т надо?
– А пускай Сашка пока углём да карандашом пишет. Бузина счернеет. Надавите – на потоп хватит чернил.
– А эта бесогонка? На той неделе ель задавили в ней кашлюка[225]. И на! Новая горячая напасть. А ну помрё?
– С чего? Ну разок зелёнкой побрызгает…
– Теперь у меня всё пузечко зелёное, – вздыхает девочка. – Я всейная зелёная… Бавушка, – засылает мне вопрос, – я когда поспею?
– Какие твои годы?.. Поспеешь.
Свет надежды помелькивает в её глазах.
Скоро берендейка уверилась, что всё сольётся пустяком.
В полной силе дёргает меня за мизинец:
– Бабунь, а бабунь! А ты можешь упасть солдатиком? Давай падать солдатиком.
– Это же на какой манер?
– А на такой… Чтоб не больно было, сперву надобится сделать ночь.
Девочка сводит длинные золотистые ресницы – ночь сделана! – прячет руки за спину. Не сгибает коленок, наполно со всего-то как есть полусаженного росточка, пригожая да нарядная, чисто тебе живой сувенирный столбок, с закрытыми глазоньками бух наземь ницничком[226].
У меня в нутрях всё так и оборвалось.
– А батюшки! – подымаю её. – Золотко! Ты ж вся расшиблась!
– Не вся, – истиха возражает Галя. Стирает с локотка грязь.
По глазам вижу, плакать ей край надо. Да перемогается. Молодчинка. Рожна с два такая ударится в слёзы!
Напротив. Улыбается солнышком скрозь тучи. Через большую силу, правда моя, улыбается. Но улыбается ж таки! Тянет меня за палец книзу.
– А давай, – поёт, – вместе падать.
– А ежель вместе, так думаешь, земля мягче, пухом, станет?
– А всё равно давай.
– Не-е, Галенька. Тут неумытыми руками не берись. Не по моим косточкам угощеньице. Да грохни я разок солдатиком, ни один хирург под мелкоскопом не сберё меня по кусочкам.
– А ты попробуй…
Зорко слушала нас Лукерья.
Хмыкнула. Уперлась кулаками в бока.
– Да ты чё эт, государышня, – налетела она на Галю, – припиявилась-то к старому к человеку? Видали, дай ей, подай говядины хоть тухлой, да с хреном! Да ты, разумница, напервах докувыркайся до наших годов. А там толкач муку покажет. Там узнаешь, почём в городе овёс да как оно… А то ты, упрямиха, чересчуру ловка да умна. Прям вся из ума сшита! Старей же любой бабки!
Галя с нарочитой учтивостью пускает мимо ушей Лукерьин приступ проповеди.
Минутой потом чистый детский щебет снова ложится мне на душу праздником.
– Луша, а чьи это у тебя матушкины запазушники? – любопытствую я про ребят.
– А Нинкины.
– Это какая ж такая будет Нинка? А подай Бог памяти…
– А приёмная дочка моя. Ну, забыла? Я тебе преже не раз про неё докладала… Отец – мать в войну сгибли. Осталась одна одной. Ну невжель не упомнишь?.. Попервости, как объявилась у нас, росточку была с бадейку. Вовсе не круглявая. Про такую не скажешь: телега мяса, воз костей. Совсем напротивку. Опалая была телом. Тамочки худющая! Жёлтински ещё дражнили её Нинка – нитка!
– Пожди. Не из ленинградского ли эвакуированного детдома?
– Ну! Он у нас на станции с полдня в тупике в старых вагонах обретался. Там я увидала Нинушку… Жалко… К своим к троим привела…
– Теперь ясно. Так припоминаю…
– Так вот, письмами я её всё пытала. Можь, спрашивала, тебе в чём подмога моя надобна? Так я б могла и за ребятишками приглядеть, и другое что… Только ты черкани. Не стесняйся. Стесняться будешь посля…
Не тебе, Нюр, слушать… Ну какое материнское сердце закроешь на все замки от своего дитятки? Хоть и не тобою рожёное, да тобою вскормлённое – всё едино родное.
Я и тако, я и сяко подкатываюсь к ней со своей подмогой. А она… Не-е… Всё воротит от бабки свой храповик[227]. Письмо по письму один глянец. Всё-то у нас на большой! Ну, на большой, так на большой. Ладноть, подмалкиваю. Эхе-е…
Подалась ты путешествовать по врачунам. Увеялась и я к своим сродникам в Новую Киндельку. Перед тем оне только что побывали в Орске. Самолётом летали.
А Боже ж мой! В первый же день такое мне понапели про Нинкину маету!.. Бросила я куначить[228] да и ах напрямок мимо Жёлтого в сам Орск к ней.
Ель докачалась от автобуса до Нинкиной пещеры. Оха и уста-ала там… Пока переползу через бордюр – дорогой товарищ Суворов все Альпы три раза перейдё! Всё ж добралась…
И что ж я в полной вижу красе?
Выскочила она за своего Васюху хорошо. Промашку не дала. К работе Василий старается. В лепёшку бьётся… Руки у малого золото. Какую газету ни открой, кругом ему честь да слава. По заграницам катается. Вроде как опыт всё свой раздаёт. В Румынии даве вот гостил… Его карточка на полстены в Орске в музее. Как жа! За-слу-жён-най строитель! Он над каменщиками бригадир! Не какой там младший помощник старшего дворника… Ну разве скажешь, что он Василий Блаженный?[229] И сама Нинок тоже в ряду людей.
Маляриха. Тоже бригадная генералка. Там с красной доски не сходя. Районная депутатиха…
Всем Нинуся с Васёной хороши. Да только им не разбегаются хорошить! Недушевно с ними поступают! Этих вот страдаликов, – Луша метнула глазами на ребятишек, согласно качали кота на качелях, – дома кидают однех, как бегут на работу ещё рано-порану. Обед – она летит контрольность снять, что там да как дома. Подкормить опять же надобе…
Раз прибегают вечером – ребятишечков нетоньки. А Господи!.. Проворней ветра жиманули по городу искать. Застают где-ка ж ты думаешь? На трамвайных путях играются! Не брешу, рак меня заешь!
С того часу положили оне себе за дурацкую моду, как на работу бечь – вяжут ребятьё не к кровати, так к дивану. Сонных наранях вяжут! Сама обрезала на крохах те чёртовы гужи!
Под вечер проявляются Ниноня с Васильцом. Я прямо с козыря и почни против шерсти наглаживать. Хоть голову взрежь, не помню, в каких именно словах я говорела. А тольке знаю, мёртво я в щипцы взяла непутную[230] Ниноху свою. Иль она больна на всю голову? Ну совсемушко повредилась тёлка! Я считаю, на ей больший кусок вины. Подоплёка-жена непропёка!
– Что ж ты! – кричу во весь Орск, а у самой душа плачет. – Что ж ты, шизокрылая толкушка холодная, душегубку ребятне ни за что, ни по что[231] учинила? У тебя в башне мозги раскиселило? Что это оне у тебя, бажбаниха, на привязи?! Козлята, чё ли, укатай тебя в асфальт?! Иль в вас, цыганьё, чисто души нисколёхонько нетушки?
– Так и полоскала?
– А то как жа. В отвал накормила безбокой дыней! Не фильтровала базар[232]
– Смелявая ты бабака.
– А не то!
Луша с гордецой повела плечом.
– Я когда в злость въеду, цыганами их дражню. А кто ж оне? По всей земле из края в край нараскосяк веются. Цыганюки и есть. Как я Нинку уж не пускала от себя! Христом-Богом просила… Как-то совестно от народу было – уедет. Вроде как на что недовольная.
– Чем ей быть недовольной? Ей ещё быть недовольной. Иль она у тебя неучильщина?[233] Чего здесько ни в сноп ни в горсть?..[234] И что поехала, так это по нонешней поре за обычай. Это только у плохих родителев детьё не едет по городам на новое ученье. Взошла в молодые года. Она у тебя мышлявая[235]. С похвальбой отучила все жёлтински классы. Чего сидеть?
Луша взглянула веселей, надёжней.
– В слёзы моя Нинушка. Ей и жаль вроде спокидать нас. Да и ехать край хотса. Молодчара, настояла на своём. Со слезьми, а съехала в сам Ленинградко. В кембридж! Это она тако навеличивает своё строительное училище. Там встрела своего… Эхе-е… Попервах ухорашивали блокадный Ленинград. Родина… Перекинулись в Воронеж. Всё строили… Видят, в Братске их ещё не хватает. Давай в Братск. Потом вотушко в Орске угнездились. Поближь ко мне… Тако и крутятся, тако и крутятся…
Луша мало-дело[236] помолчала. Словно вспоминала что.
Со вздохом добавила:
– Ну, подпустила я им про цыганьё. А оне на те мои горячущие речи и ответствуй:







