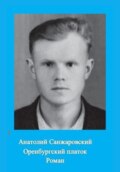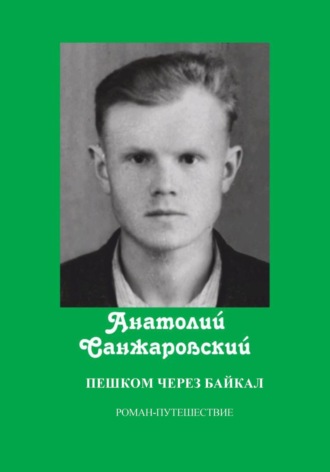
Анатолий Никифорович Санжаровский
Пешком через Байкал
5
Где воля, там и дорога.
Середка всему делу корень.
Нашему ндраву не препятствуй:
за безобразия заплатим.
На площадке перед вокзальчиком уже начиналось построение.
Мы со Светланой спешили туда.
В сарае за ладным малорослым забором недовольно прогорланил петух.
Вследки за нами вышагивала с лыжами на плече плотная царь- деваха. Посочувствовала:
– Неосторожные уж эти перекати-поле… Не дали бедному пете поспать.
Убитые голоса впереди, потерянные голоса за спиной:
– Какой пластает снежище!
– Не под момент…
– Да-а, подлип жуткий…
– Видимость на нуле…
На построении я рядом со Светланой. Ещё того чище. Держу её лыжи, сундучок.
– Товарищ медицина, – подкатываюсь, – а пока вы с визитом вежливости пребывали в столовой, одну снегурочку ох и допекали зубы…
– Что ж не позвали?! – сине полыхнула Светлана глазищами. – Я ж вам на то и говорила, куда пошла!
До чего она переменчивая да нарывистая! Ещё мгновение назад была сама сватая кротость и на! Отчаянное недоумение, попрёк неотмолимый окаменели во взоре.
– Знаете… как-то не подумалось, – припоздало почувствовав свою вину, смято обронил я. – Извините.
– И не подумаю! – с вызовом, сухо бросила она вполголоса. – Будто от ваших извинений легче той девушке. Гляньте, нет ли её поблизости?
Выломился я по пояс из строя, перебрал ближних по левую руку, перебрал по правую.
– А знаете, не вижу… Да вы уж не убивайтесь. Возможность исправиться Бог подаст. У меня такое предчувствие, вагон ещё хлопот свалится сегодня на ваши хрупкие плечи. И потом, ничего ж страшного и не было у той де…
– Конечно, конечно! – отчуждённо перебила она. – Чужая боль с мармеладом.
– С мёдом! – взмыл я на дыбки. Нотаций я не терпел.
– В таком случае, – слабо, без силы почти она чуть качнула верх лыж к себе, как бы пробуя нехотя, крепко ли я держу, но и этой невольности вполне хватило, чтоб завёлся я окончательно. Я подтолкнул лыжи к ней, чему она в первое мгновенье удивилась, растерялась даже, однако скоро собрала себя и уже в следующее мгновенье вовсе без колебаний, со спокойным хладнокровием тянула лыжи к себе; я не сопротивлялся; напротив, услужливо протянул ей и сундучок, – в таком случае, – в зыбкой досаде, полуобидно повторила она, принимая свой скарб, – отдавайте мои игрушки. Я больше не играю с вами.
– А я с вами.
Опустелые зябкие руки тотчас налились тяжестью, сами собой с виноватой бережью потянулись к лыжам, к сундучку взять назад – узкая, высокая ладошка в пуховой варежке всплыла заградительным щитком. Не надо, не надо!
Прогромыхал, подгоняемый снежным вихрем, товарняк.
Голова колонны двинулась, помела через рельсы к берегу.
Берег какой-то хитроватый, со ско́льзом. Сверху снег, а под снегом наплески – ледяная корка, нагнанная с осени прибоем.
Первые падения, первые восторги…
У откоса все выстраиваются в одинарку, друг за дружкой, потихоньку переступают по мере того как медленно уходят, втаиваются в смоль ночи передние.
Им-то, ждунам, что? Им всем можно не спешить. Тропить, бить лыжню им будут другие. Только мне какой привар с той лыжни?
Как птенец из гнезда, вывалился я из цепи и рядом с нею, не дав ловкости ногам, кубарем скатился с возвышенки.
Под ногами Байкал…
Лёд тяжело засыпан, снегу не по колено ли.
Я оглядываюсь, но ничего не вижу кроме снега под собой, кроме снега сверху, кроме снега вокруг – ночной, слепой круговерти. И если б не весёлые голоса за спиной, подумалось бы, что стою где- нибудь в глухой степи.
Как человек, не лишенный некоторой обстоятельности, я постучал каблуком в очищенное от снега круглое оконце льда. Ничегошеньки, не ухнул. Держит!
Можно теперь спокойно и в путь.
Подправил рюкзак, одёрнул штормовку и, вежливо выждав, когда ходко тронется первый лыжник, изо всех рысей помёл рядом с ним, помёл по целику, до колен уваливаясь в высокий снег.
Слышу, загребаю, черпаю эту развезень ботинками.
На счастье, в кармане вчерашняя газета.
На бегу деру, жмакаю в катышки; сковыриваю со щиколоток набряклые снеговые дужки-вдавыши, тесно набиваю бумагой ботинки.
Без останову напихал в оба – ни на волос не отстал, не отлип от лыжника; мнём-давим снег, идём на ровнях, бровь в бровь.
Эге-ге-е!
Да теперь, как разделался я с экипировкой, так и рвёт обставить! Теперь чертоломить я гор-разд!
Не знаю, какая сточёртова сила корёжится, куражится во мне, мчит как оглашенного – на целый локоть выхлестнула вперёд!
Мне радостно бежать, радостно оттого, что у меня, безлыжного, вал валом валит за спиной лыжников да тёмная ещё толпа набита на берегу, как мурашей на кочке! – и счастливо-шальная мысль, что вот возьму да и заявлюсь на легкой ноге в Листвянку раньше всех них скопом взятых, хмелит, кружит голову: вот тот-то выворочу пасьянс!
Я подмигиваю приотставшему сопуну. Ну-ну, паренёк-огонёк! Парку!
Смертвил зубы мрачный гордец, наддал из крайней крайности, с большими трудами на капельку подобрался. Но всё одно хоть на ладошку какую, а первина за мной.
– Слабо, слабо-о… Огорчаете, вьюноша!
Улыбнулся я весёлой мысли про то, что первый промежуточный финиш сгрёб-таки я, переключился я, потаённо отдыхиваясь, на шаг вприбежку. Кинул малому ручкой:
– Слава чемпиону!
И, не убирая с него глаз, захлёбисто, анархически подрал песняка с торжества:
– А мороз печёт, а снежок сечёт,
А верблюд идёт не спеша.
Ни к чему метро и такси ничто —
Для верблюда жизнь и так хор-ро-о-ш-ша-а-а!
С застылым лицом прожёг ветрогон мимо, поворотил голову, основательно поставил подбородок на плечо.
– Ну что, порох подмок? – спросил он с ростягом, ехидно, исподтишка оскаляя, вымещая злость.
Ах ты!.. Будет ещё выставлять зубы! Да за таковский выходо́к…
В момент я снова подле него.
– Так что там с порохом, омулёвый твой нос? Намок, говоришь? А давай подсушим!
Протягиваю ему руку – он как-то рывком отжался, отшатнулся от меня и пошёл наяривать во всю ивановскую.
Тут и вовсе распалило меня. "Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри. Нечего поважать козлят брыкаться!"
– А хочешь, – шумнул ему в спину, – сейчас вертану?
Парень, не то удивленный, не то сраженный беспардонщиной моей, стал. Как в лёд вмёрз.
– Или я вам путь переступил? – спросил он корильным тоном и вместе с тем упало, смято.
– Вертану-у! – пёр я на рожон. – А спорим!
– С вами в спор идти? – В голосе у него качнулось недоумение. – А на что?
– Во-он до той торосины метров тридцать. Давай наперегонки. Обскачешь – назад, в Танхой, вертаюсь я. Обой…
– … обойдёте вы, – перехватил он, – взадпятки иду я. Так?
– Не иначе.
– А разь вы против, – схитроумничал он, – если большину возьмёт дружба?
Врастопырку держа обе палки в одной руке, он с улыбкой поднёс мне свободную руку.
Я пожал скорее так, из учтивости, открыто глядя парню в глаза.
Вроде маловато уже рассветилось, разбавилась вроде немного ночь. Не в полной ясности, но вижу: лицо это мне знакомо. Где, когда я его встречал? Постой, постой… Ну да, он будил! Смуглое, горделивое лицо, гортанный голос, помятые слова… Я и прими его на побудке за кавказца. Да, никак, поторопился.
– Вы не настоящий Нола-Нола?
Парень утверждающе кивнул.
– Местный, сибирских кровей. Маде ин тайга. А «нола-нола» из репертуара ереванца Шалико Авакяна… Соседушка по койке в общежитии. В нашем бамовском котле какое только варево не варится… Хоть географию страны по бамовцам изучай.
6
К чему охота, к тому и смысл.
В сердце нет окна.
Догоном, один за одним, мели лыжники, и в каждом был будто магнит, которым всхватывало меня, и рядом с каждым пробегал я какое-то пространство, большое, маленькое, а пробегал, и с каждым новым человеком бежал я всё медленней, бежал всё меньше – теряли людские магниты власть свою; с растущей, с закипающей смертной тревогой, с неизъяснимым отчаянием прибивало к мысли: всё, и на час не хватило пару, больше ты не бежок, не достанет воли угнаться, всё, испёкся; а ведь грешен, грешен уже только тем, что думал про себя так, ведь не знал я всего в самом себе, потому что, когда откуда ни возьмись выкланялась, выломилась из метельной, буранистой пучины Светлана, неведомая неповалимая сила будто подняла меня на миг над матёро кипящими снегами, и я снова на всех парусах полетел подле света молодых горячих глаз, подле света загадочного лица; бежал я и минуту, и пять, и десять и не было никогда так светло, так чисто на душе, как сейчас, и никогда не бегалось мне легче, способней, быстрей, и не было мне музыки сладостней скрипа её лыж.
Я заметил, с нею не было сундучка.
Всё во мне замерло.

– А где же ваше… приданое… сундучок? – потерянно пробормотал я.
– Сундучок в надёжных руках. – В синий прищур глаз толкнулись досада, укор.
Во мне что-то упало.
– А разве эти, – потянул к ней руки кверх ладонями, – не надёжны?
Она остановилась, тихо-бережно отвела руки мои; ничего не сказав, отстранённо глядя перед собой, пошла молча, пошла медленней против того как надо бы, потому что её обминули по целику и один, и второй, и третий из тех, кто теснился, кто толокся у неё за спиной на лыжне; обходивший четвертый ненароком задел её невозможно широким рюкзаком, вернул в действительность. Она оглянулась, вскрикнула:
– Пробка! Из-за меня… Извините… До привала!
Резкий взмах палок – толчок…
Сильный взмах крыльев – прыжок.
Забитая снегом, взявшимся уже лёд-плёнкой, она походила на белую лебедицу, бежавшую всё стремительней на взлёте. В какой- то миг мне привиделось, что, оттолкнувшись, она поднялась над снегами, полетела, но какое-то доброе повеление тотчас воротило её в зыбкую, вразнохлёст мечущуюся серую мглу.
Она пришла из метели, снова уходила в метель, и каждый взмах палок множил, набавлял пропасть между нами, и на этом стонущем между нами пространстве беда всё плотней задёргивала завесу из колючей, секущей глаза, кутерьмы.
Я бежал… Зачем я бежал?.. Боялся не видеть её?..
Не знаю, не знаю…
Стало до одури парко.
Расстегнул штормовку враспашку, выдернул из штанов свитера, которых прело на мне, как рубашек на луке; изнанкой шапки промокнул с лица сыпкий пот.
Враз посвежело.
Свежесть прибавила, нарастила крепости, силы в ногах, отчего я пошёл на скору руку, быстрей и с души пал камень: смутно угадываемая наклонённая вперёд фигурка проступила чуть ясней, чётче!
"Догоню! Вот только содрать с себя хоть один свитер…"
Во всё то переломное время, покуда стягивал, покуда вминал, впихивал зелёный ком свитера в рюкзак, я не давал уйти из виду маячившей за снежными взвеями изогнутой тонкой фигурке.
На разъединый миг выпустил, когда завязывал рюкзак, снова пустил вдогон пристальный глаз – фигурка вовсе пропала, растаяла, растворилась в свистящем мраке.
Недостало у меня сил ступить и шагу, со всего роста повалился я лицом в снег.
7
Дай душе волю – захочет и боле.
Кулик да гагара – два сапога пара.
– Па-а-а-адъё-о-ом!.. Вставальная пора!..
Поворачиваю голову – Генка.
– Что случилось? – напряжённо спросил он.
С унылым видом уставился на Генку:
– С кем?
Я стараюсь быть безразличным, будто речь шла о ком-то постороннем.
Хмыкнул в недоумении он.
Потом глянул на часы, плетьми сронил руки – хлопнулся к ногам рюкзачище.
– Привал? – заинтересовался я.
– Как же… Со сном и сновидениями!
Он раскопал в снегу ямку ногой, махоньким топорком ловко выломил сколок льда, сунул в склянку, в другую с коротким противным скрёбом об лёд зачерпнул снегу.
"А пожадистый… Загодя, что ли, копит на обеденный чай? Посерёд Байкала не будет ему этого милого добра…"
Как ни в чём не бывало оттянул я ворота свитеров – пускай грудь подышит! – и живым шагом дальше.
Тут же молча обошёл меня Генка, да ненадолго.
Минут через десять вижу картинку: Генка мой на коленях, голыми руками веет снег у Светланиных ног.
Светлана растерянно пожаловалась мне:
– Посеяла штучку… крепление… Не держит…
– Чем можем – поможем!
Я вроде век того и ждал. Плюх на корточки и ну ощупкой лихорадочно перебирать-охлопывать снег поблизку лыжни.
"Да налапай я ту штучку… да, пардонко, не отдай… Да тогда не буду я волочься один по образу пешего хождения!"
Генка словно угадал мою пасквильную затею. Покосился, угнул голову. Не боднуть ли загорелся?
– Вы бы скользили, скользили себе спокойнушко…
– У девушки беда, – напираю на человеколюбие. – До спокойствия ли в скольжении?
– А вы скользите. А то хвост уже подтягивается. Точка. Абзац.
Я посмотрел назад.
Совсем близко вразнопляс колыхалась жиденькая цепочка. Но шла напористо.
Это и всполошило меня.
Я панически уставился Генке под руки.
"А хоть бы ты, дурёнка, не нашлась! А хоть…"
Тяжёлые глухие шаги порвали мои посулы.
Мы с Генкой оглянулись.
Вдоль лыжни трое тащились в обрат с грехом пополам.
Генка удивленно присвистнул.
– А это что ещё за трио бандуристов? И далече правитесь?
Первой брела девушка в красном.
– Светлана, – сказал я, – эта Красная Шапочка тире Тюбетеечка, – движением бровей показал на девушку, – к вам. Именно про неё говорил я вам на построении.
Светлана искренне, светло обрадовалась случаю помочь. Стремительно пустила шаги навстречу девушке, взяла её за руку.
– И сейчас беспокоят зубы? Да?.. А где наш фурацилинчик? – Светлана с такой магической ласковостью посмотрела на Генкин рюкзак, будто оттуда и впрямь мог – должен был! – выскочить этот самый Фурацилинчиков. – Беспокоят? Да?
– Не-е… Зубы что… – пониклым голосом отвечала девушка. – Я лыжу сломала, – и, виноватясь, важно выставила обломки. Будто это были осколки самого тунгусского метеорита.
– С какой же радости несёте? На сувенир? – выразил я предположение.
– Да ну-у… Чего ж сорить средь Байкала?
– Вот за такой ответ пять с плюсом! – ударил в ладоши Генка.
Тут с нами поравнялся дюжий парень с продолговастым улыбчивым лицом. Бросил сидевшему на пятках Генке:
– Своими усами, потолкунчик, обольщаешь красавицу! Ты на опасном пути.
– Разговорчики не в струю, Боря! – нарочитым баском шумнул вслед Генка. Видно, они близкие, тёмные приятели, дружно, в одно сердце живут.
Я спросил Генку, что такое потолкунчик.
Оказывается, это от слова толкун… толкать, подталкивать. Толкуном зовут замыкающего колонну. Сегодня замыкал Генка.
Растолковал всё это Генка и кивнул мужчине.
– А у вас что?
Маленький, угрюмый, как букан, худой мужичонка с двумя парами лыж под мышками, с горой-рюкзаком, до плотности не закрытого (над едва внахлёстку стягивавшими верх шнурками зловещим вопросительным крюком пламенела красная зонтичная ручка), этот мужичонка, невесть как умудрялся ещё и придерживать за круглый локоть толстуху коротышку предбальзаковской поры, чистосердечно повинился:
– Что Богу, то и вам честно скажу. А сердчишко у моей, – бережно-пугливый взгляд на поперёк себя толще молодуху с окатистыми плечами – а сердчишко, от ты грех, заспешило… – Говорил, отпускал он слова медленно, еле-еле ртом шевелил. – Я и раскидной стульчик передохнуть (сам ладил), я и зонтик прихвати от снежного света, от загара. А у неё сердчишко, от ты грех, понимаете… Чистая беда…
Бедолага переступил с ноги на ногу, качнул над собой гору, сторожко, на чуть убрал руку с женина локтя, и в тот короткий миг всяк из них сделал своё, на что был горазд: он живо-два подправил врезавшийся в плечо узкий ремень, ей того мига с избытком хватило, чтоб хлопнуться кверх воронками.
Хвала и честь саженному льду, иначе выпал бы Байкал из берегов.
Генка бросился к страдалице, на велику силу помог встать.
Вмертвилась она крашеными когтищами в мужнино с кулачок плечишко и ну настёгивать:
– Иль ты умом надорвался?! Что ж ты, изморный поросёнок, как на вред кидаешь одну? Забило свет, немило всё… Меня ж всю льдом побило, вся на синяках… Не иначе как леший привёл, не сам ты допёр до байкальской гулянки под красным зонтиком. И не пялься… не новые я ворота…
– Но ты ж сама…
– Ну и что ж, что сама напросилась? А ты не клади согласия! Видь заране всё, на то ты и мужик! Да будь моё наперёд знатьё, ввек бы не ходила за тебя. А ничего! – аврально выкрикнула она и горячечно обрадовалась своей свежей мысли: – А ничего! Изломаю венец! Уйдусь! Дай тольке до дому докувыркаться!.. На кой мне такой…
– Ну что, – пристал к разговору, успел в негаданную паузу влезть Генка, – не устали? Язык за щёку ещё не завалился? Это ж надо… Мешок слов в секунду… Лучше покрепче друг за дружку держитесь да потихоньку ступайте.
– Легко сказать, – пожаловалась она. – Пеше, а ледища вгладь. Опасно что!.. Жи-ива-а-ая ж погибель!
– От ты грех, – участливо поддержал её муж; в его голосе было столько плотного покоя, мира, сострадания, что я грешным делом подумал, а не туг ли он на ухо, но тут же отбросил эту догадку: жалобу-то её он услыхал! Наверное, он держался в тени её воли, просто наловчился пускать мимо уха всё непотребное, оттого и живут вместе вода и огонь, живут, в чём-то довершают, дополняют друг друга, а будь они в характере на одно лицо, горячи, давно б взяли разводную, давно б горшок об горшок да в разные кусты; тут же, как она жарко ни обещай уйти, не уходит: скрипучее дерево два века стоит. – От ты грех, – уже жалостно повторил он, – покуда до того Танхоя доплывём, воистину узнаешь, как пахнет табак…
– А вы думали, тяп-ляп и готов корабль? – с живостью подхватил Генка. – С тяп-ляпом к Байкалу не подступайся. Точка. Абзац. До Танхоя ещё близко. Вы топчите снежок потихоньку, а я тут помогу девушке. Нагоню вас и провожу ближе туда к берегу, чтоб не дай Бог не пошли вы плутать вдоль Байкала… Смотрите, правьтесь по лыжне…
Мало-помалу унялась, улеглась метель.
Небо впереди чуть вычистилось, будто его подмели. Проглянул за огрузлыми, за тяжёлыми тучами голубой кусок.
Век большой, очень долго, я всё оборачивался, всё ждал Светлану; до смерточки хотелось, чтоб злосчастная та штучка нашлась, чтоб вышло у них там всё на путь, и у них всё вышло. Вскоре на своих длинных лыжах с заметным красным верхом настигала меня Светлана, упругая, стремительная.
Думалось, пособьёт она скорость, нагнав меня.
Она же, похоже, норовила побыстрей прошить мимо.
– Куда же вы, доктор? – запалённо крикнул я, панически не поспевая за нею.
Отозвалась, без охоты дала голос:
– Вперёд. Может, там я уже кому и нужна…
– А откуда вы взяли, – взмыло меня, – что вы здесь не нужны?
– Там нужней. Там массы… народ…
– Вообще-то тут тоже имеется в наличии народ. Чем я, к примеру, не народ? А, извините, вот эта бисеринка? – ткнул назад в плотную девчонку-малоростку с огромными глазами навылупке – висела у меня на хвосте и ожесточённо работала локотками. Судя по тому, как девчошка то и дело падала, вразброс роняла палки в стороны, взобралась она на лыжи впервые не сегодня ли.
Но Светлана то ли не слышала уже меня, то ли не хотела слышать, что было всего вероятней, не подрезала, не ломала плотного бега, отчего между нами снега и торосы бешено набирали ширь.
Да-а, лыжный пешему не товарищ…
С какой радости из последнего нестись вследки, когда на тебя и повернуться из форса не соизволят? Право слово, велика честь!
Я обстоятельно высморкался и в пику ей – вы, пожалуйста, бегите, а мы потравим перекур с дремотой! – вальнулся на бок солдатиком, однако, коснувшись уже рукой снега, увернулся сесть в толстый хрусткий сугроб лицом к лыжне.
В ту минуту поравнялась со мной – бежала концевой – чуточная, вовсе бедная росточком, смуглянка, В смерть усталая, с синими теневыми скобками под глазами, девчонишка на предельной напряжённости перебирала ногами, перебирала тяжело, словно к лыжам было пристегнуто по ведёрной гире, перебирала во весь упор, до самого нельзя, а гнала-таки не слушающие её лыжи и норовящие раз за разом заскочить с глянца лыжни то в полевую сторону, то вовнутрь.
Вскочил я на колени, рывком разом сбросил с рук прямо в снег за ничто взятые вчера на иркутской толкучке верхонки, рабочие рукавицы, дурашливо забил в ладони.
– Давай, роднулечка! Дава-ай!!.. Финиш!!!
Бедняжка пояснела лицом, сыскала в себе силы улыбнуться и пошла, ей-ей, резвее, надёжнее.