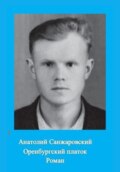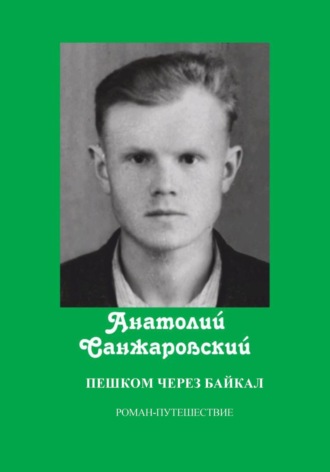
Анатолий Никифорович Санжаровский
Пешком через Байкал
13
Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана.
И комар лошадь свалит, коли волк пособит.
Табор наших снимался уже дальше, когда мы с Генкой в молчании, что удлиняло путь, пристали к крайним.
Я тронул за локоть фотокора, что шёл мимо, попросил снять на виду костра посреди этого ледяного кладбища без конца. Грешен, охота уцелеть хоть на карточке.
Малый, кислый, медвежеватый в движениях, заметно вылинял. В столовке гоношился экий вертоголовый орёлик, теперь же он долго и трудно опускался на колено; уныло щёлкнув, так же долго и трудно подымался, еле поднялся и неуверенно заколыхался за убегавшими.
А костерок (дрова несли ребята с собой), умело разживлённый, всё ещё жил. Над ним с переяслицы, с шестка, что лежал на развилочках, свисал котелок. В котелке высоко кипела вода, давала ключ.
И Генке и мне Борис с верхом, в оплыв, ухнул в портянухи, в самодельные деревянные чашки, крутого кипятку, отвалил по ломтю хлеба с салом, как вдруг принесло откуда-то глухое посвистыванье, будто кто свистел в кулак под толстым одеялом.
Насторожку выгнули Генка с Борисом шеи, как бы сказал липкий к словесным штукам Генка, "повесили уши на гвоздь внимания".
– Полетели! – гаркнул Борис. – О! О-о-о!..
Вылупили мы с Генкой шарёнки, куда тыкал пальцем Борис, но решительно ничего не видели.
– И свиста крыльев не слышите?!
– И свиста, – сознался Генка, розовея в лице.
– Ну послушай тогда, язёвый лоб! – горячечно выпалил Борис, победным жестом указывая на филировавшего в сторонке парня, готового вот-вот прыснуть, и одновременно требуя от того прибавки в эффекте.
Все вокруг грохнули над розыгрышем.
А предыстория тут такая…
Ангарский исток (он совсем возле), верстовым валом выкатывающийся из Байкала, даже в рассамые клящие холода не мёрзнет, парует, вот и – уж чего-чего, а рачков, рыбьей мелочёвки невпроворот, – вот и кормятся там зимним днём политые жиром утки. А в ночь их нет на воде, нет на берегу. Где же ночуют? Как вызнать?
Ученые к ребятам.
Мол, выхо́дите вы потемну, солнце встречаете на льду. Последите. Может, удастся заметить перелёт с ночёвки. В темноте если не увидите – услышите свист крыльев. Для начала хоть бы выяснить, откуда, с какой стороны несёт их к воде… Понаблюдайте…
– Третий март наблюдаем, да пусто всё пока, – с грустью заключил Борис.
А тем временем Генка слушал вполуха и с весёлым старанием уписывал за обе щёки. Ел проворно, будто боялся, что отнимут.
"У такого в Крещенье не выпросишь средь Байкала и комочек льда…"
– А ты чего сухомятом? – поднялся он ко мне с вопросом. – Чего не запиваешь?
– Жду, когда кинешь в котел свой копёж.
– Какой еще копёж?
– Обыкновенный. Всю ж дорогу грёб в склянки снег, лёд, я и посчитай, великий чаёвник начальник мой, со всего Байкала ароматы копит. Тот-то, думал, царский сочинит чай на обед. А на поверку, снежок с ледком в общежитие потащишь? В запасец?
– Потащу! – с гордоватой готовностью рубнул Генка. В голосе такая ясность, такая сила, такая власть – взлез, окорачил малый надёжного конька своего. – Это такая бомбочка под этих друзей! – кинул взор на скорбно черневшие вдалине с берега гривастые ликующие трубы целлюлозно-бумажного комбината и теплоэлектроцентрали. – Это ж такая бомбочка, такая… Будут знать! Как аварийные воды гнать в море. Как дымку подпускать…
Тугие пряди панихидной мглы неприкаянно суматошились над трубами.
Генка смотрел, как мгла траурно задёргивала чистый горизонт, и в лице у него потерянно толклись разом и вызов, и растерянность, и вина, и сомнение, и полунадежда; сама собой судорога собирала, сводила пальцы в стальные кулаки.
Давно-давно, в малые ещё года – был он не выше дедовой палки, – с берега на берег видимы были в ясный час светлые пятнышки окон, перебитых, перечеркнутых рамным крестом.
Стоило кому в Танхое распахнуть – в Листвянке примечали белый нерешительный оскал стеклин.
Любил мальчошка пускать зайчиков, затаённо поводя створкой из стороны в сторону…
Запутались, застряли, потонули его зайчики в двухэтажной комбинатовской мгле: один слой толсто раскатало над водой, другой – над горами.
Кто развеет мглу?
Кто спасёт зайчиков?
Кто поможет им добежать-таки до берега?
Вошёл человек в совершенство лет, но детского горя своего не потерял из памяти, не избыл.
С годами всё круче брало недоумение. Эти трубы тянули в небо при тебе, почему же ты молчал? Нет ли и твоей личной вины, что вот теперь трубы сеют беду?
На защиту Байкала поднялась журналистская рать. Двадцать два года не опускает она своей плети. Износилась, исхлесталась плеть – комбинатовский обух только всё белей да моложе…
Дай волю, внёс бы Генка в Красную книгу Байкал и Жи вое Слово Русское.
14
Язык телу якорь.
Язык – стяг, дружину водит.
Держись за дубок, дубок в землю глубок.
На великое дело – великая помощь.
Не штука сломать, извести непрестанным глумлением и человека, и слово.
Не мы ль, русские, холодные убийцы родного языка своего?
С извеку веков русская лень напару с русским чванством отбирали в элиту не самые лучшие слова, холуйски удобные своей пресной, пустой, трупной нейтральностью, мертвечиной; а не всякое ли живое, как душа сама русская, а не всякое ли бойкое, меткое ли словечушко сценялось до бескультурья, до проказы и боже упаси в письмо его ввернуть. На каждом клеймо: это устарелое, это областное, это просторечное, это местное, это жаргонное.
Боже, да по какому закону вершилась эта сортировка? Эти-де элита. Вам прямо по ковровому большаку в литературу! А эти-де сор. Не пущать!
Наши отчичи, наша дедичи со старины несли нам в бережи экое счастье, а мы поганые носины вбок: круто намешано русского духу, негоже нам.
И от сколького отмахнулись уже!
В Далевском словаре двести двадцать тысяч слов.
Двести двадцать!
У Пушкина вдесятеро бедней. Под метёлочку нагреблось всего-то двадцать одна тысяча двести девяносто. (Пушкин печалился Далю: "Да, вот мы пишем, зовёмся тоже писателями, а половины русских слов не знаем!") Хороша ж половина…
У Шекспира уже двенадцать тысяч.
А до дуру перекормленный ныне «цивилизацией», наблещённьй ею горожанин ублаготворяется всего-то лишь тремя тысячами…
С двухсот двадцати тысяч скачнуться на три…
Есть Черная книга, куда занесены исчезнувшие растения, звери, птицы.
Есть Красная книга, куда занесены исчезающие растения, звери, птицы.
Но воистину самое тёмное место – под свечой!
Человек помнит, что он уничтожил, и своей Черной книгой он, лицемерный, отдал панихидную дань своей жестокости.
Дань данью – пришлось составлять и Красную книгу!
Наловчился человек тихомолком грешить и на весь свет потом каяться. А не лучше было бы, если б ему не в чем было каяться?
А не лучше б было, если б вместо этих двух книг жили б без горя все те, кто в них поимённо назван?
Худо-бедно, всё же человек об этом думает.
Однако когда он подумает о самом себе, о своем языке?
Кто за человека будет беречь его живое слово?
Непозволительно сравнивать такое – я всё ж рискну. Если, скажем, растение, живущее в разных концах земли, пострадало в одном месте, оно может, гляди, уцелеть в другом, не всё потеряно.
А твоё родное слово?
Если ты его сам забыл или выбросил по недоумию, считая, что оно недостойно жить в тебе, то какой-нибудь новозеландец или папуас его не подберёт, не вернёт тебе, русскому.
Словарь Даля – это и Черная, одновременно и Красная книга русского языка. Сколько из этого словаря осталось слов жить?
С двухсот двадцати тысяч скачнуться на три…
Три тысячи, всего три тысячи…
Неужели человеку больше не надо?
А думаете, вломившиеся в каждый дом газеты, радио, телевидение знают больше?
И не скажу, за какие это грехи наказала меня судьба Медведевым.
Был такой редактор отдела. Из отставников.
В девять ноль-ноль – хоть часы проверяй! – в раствор редакционной двери падал наш подтощалый, как слега, отставник. По все дни на лице у него тревожилось выражение трусоватого солдатёнка, с великими трудами наконец-то овладевшего только что вражьей высоткой, и теперь, усталый, отринутый, однако до крайности опасливо собранный, горел закрепиться – торопливо вскидывал жилистую руку к виску, приборматывая: "Здравия желаю…" – и, не сбивая стремительного шага (ходил он прытко, всегда внаклонку), на падающем ходу доставал из грудного кармана очки, кашляюще хукал на них, протирал платком; покудова через всю комнату, похожую на пенал, доходил до своего в углу стола, дальним крайком нетвердо выступавшего к оконному свету, Медведев поспевал и вынуть ручку, и пересадить колпачок и, опускаясь на стул, уже втыкал жёлчные глаза в чей-нибудь из отдельцев материал, готовно оставленный с вечера под перекидным календарём.
В медведевском углу вечно жался какой-то роковой полумрак. И в лето, и в зиму оттуда знойко холодило покойницкой.
Когда ни глянь, смутно видимый худой длинный нос зловеще нависал над рукописью; время от времени Медведев, круто вогнув спичечную шею, зверовато косил наповерх очков – коршуном высматривал, чем это пробавляется подначальная чернь.
Там, в студенистых сумерках угла, – мы, отдельцы, величали его филиалом Новодевичьего кладбища – угасали и погребались в плетёной корзинке со знаком качества ещё тепленькие наши шедевры.
Медведев, справедливый, прямой, как армейский устав, любил поднаумить:
– У нас всё должно идти первым качеством! – и по чистой совести многое наше браковал, многое с превеликим усердием правил, правил, бедолага, так, что без наркотика даже за приличную взятку ни одна живая душа не возьмётся читать покорёженное им. Он же, прилежник, не редактировал – пересыпал икру махоркой!
Мало-мальски свежую мысль, незамусоленное словечко- всё изгонял, всё просмеивал, насколько позволял ему ефрейторский юмор.
Спервачка на потеху вроде стали мы отделом невестке в отместку копить тихомолком начальниковы слова. А интересно ж, что да чего он знает?
Дело это оказалось втягное. Полных два года записывали всё за Медведевым.
А ну согласись кто пустить в свет книжку штампов на все случаи – готова такая. Чу-уточная, на восемьсот всего слов – вот и всё, чем был богат верховный наш!
Восемьсот и ни словом больше.
Под эту-то гребёнку причёсывал он, гнул каждого.
Однажды я и плескани ему с пылу про его ничтожный – плюнуть да растереть – багажишко.
Взревел Медведев медведем:
– Не жалуюсь! Лично мне хватает!
– С избытком, конечно! Вон кой-кому хватало и тридцати слов, – держал я в виду ильфо-петровскую Эллочку и по совместительству людоедочку.
– Грамотно копаешь под меня… Ах ты!.. – Дальше я не могу привести его слова. Он побагровел, налился краской, будто помидор на августовской грядке. – И запомни. В нашем деле восемьсот первое – лишне-е! – вывернул по слогам.
Говорил Медведев – клещами на лошадь хомут тащил. У него слово слову костыль подавало.
Прищурил он, точно целился, неспокойные глаза, вытолкнул с потугами сквозь зубы:
– Что-то ты смелый… Как в кино…
Пораздумать, в былые дни вроде и не кормил он на меня зла, а не на вей-ветер легла плотная его обида.
Через месяц лишним в отделе обозначился я: всякая птичка от своего языка гинет.
Разбежались мы с Медведевым – и к счастью!
Жалею одно, раньше, раньше надо было расстаться, да… В природе нет ничего однозначно хорошего ила плохого, ничто не уходит в никуда. Отставник помог мне до предельности уяснить, почему это люди откладывают в сторону недочитанные газеты, засыпают под телевизор, под эту жвачку для глаз, и вовсе не обязательно на передаче "Спокойной ночи, малыши!"
Медведевщина судит да рядит на некоем эсперанто, на языке вытертом, пустоцветном, трупном, оттого-то, считает Генка, газетная братия и не может разогнать зловещую комбинатовскую тучу: мёртвое слово бессильно, бесплодно.
Мы до такой прочности привязали самих себя к мысли, что всё-то у нас плохо, до такой степени захаяли всё у себя в доме, что несказанно как дивимся, когда вдруг узнаём, что то, что у нас держалось в цене не выше срезанного ногтя, там, в закордонье, наделало неслыханной славы нам.
Вон наши же сапожки.
После Парижа вошли у нас в королевскую цену.
А с языком что? С живым?
Толку не свести…
Изматерили в кружки, заругали печатно – не всякое ли ладное приживистое словко непременно ведём в ранг чужого. Мол, своего-то путного и быть не может!
У молодых сейчас в моде, на слуху словечко "клёвый". Откуда оно? Чьё?
– Не знаем, – говорят одни. Другие тверды: – Иностранное. Маде ин оттуда.
Маде-то маде, да шалишь. Не оттуда. Отсюда!
Наше!
Русское!
Гляньте в Даля:
«КЛЕВЫЙ ряз. тмб. твр. влд. клюжий, клювый, хороший, пригожий, красивый, казистый, добротный; выгодный или полезный. Это клевое дело, путь будет. Клевая невеста».
Если Париж вернул нам в славе наши же сапожки, то (вернуть можно лишь взятое) никакой Париж уж не вернёт нам веками гонимый нами же наш живой язык, гонимый на задворье из нашего же русского дома, гонимый не в пример тому же Парижу, который – за это ему не грех поклон подать – штрафом бьёт даже всякую фирму, употреби только она в рекламе чужое, иностранное слово. Цени своё!
Почему мы так стыдились своего живого слова?
Почему не подпускали его к печатному листу?
И только в благословенный наш час напоследок-то сломили гордыню, сознались вслух, что наша "литература постоянно испытывает экспрессивный голод". Не постеснялись беду назвать бедой. В этом добрый видится знак.
Прежде раб пера воротил нос от "мужицкого слова", не ладил в строку, чтоб дурно не пахла-де – высоконько себя понимал.
Неграмотному мужику было без разницы, что и как про него писали, он не мог читать.
А ныне пишут сами потомки тех бездольников.
Астафьев.
Белов.
Шукшин…
Матёрую силищу кладёт им в перо великое народное Слово.
Поверил Генка в живое слово, шатнулся к знаемому даже в заграничье поэту.
Жил тот поэт на берегу Байкала. Всё своё написал он тут, поднял его на книги Байкал. Но почему ничегошеньки не писал он про сам Байкал?
Без решительности Генка постучал, ближе к правде сказать, поскрёбся в тяжёлые ворота. Ворота были заперты на засов.
Таблички про то, что во дворе злая собака, не было. Но пёс был. Тушистей годовалого телка.
Громыхая цепью за поднебесным забором, облаял пёс Генку со всей ненавистью собачьего этикета. Больше с Генкой никто не пожелал говорить.
А как же всё-таки и быть с увязшими в комбинатовской мгле зайчиками? Кому теперь понесёшь боль свою?
Через многие дни столкнулся Генка с озероведами – зажил наново, с чистого листа! Приплавился, пришёлся счастливец ко двору.
Сами институтские не поспевали далече брать по зиме частые пробы льда, снега.
Не можете и не надо. На то вот вам я! Вам польза да и мне не вред. Весь день на свежем воздухе, до упора отдохну от "камазёнка".
И завёлся Генка ежесубботно ходить на лыжах через Байкал, и всякий раз по новому маршруту, как надобно институтским: пробы скажут всё, – под ноготь! – о байкаловой беде.
– В институте ждут эти мои гостинцы от сердца… поджидают, как омуль епишуру[2].
Генка грустно смотрел на рюкзак, где лежали склянки с пробами.
Я тяжело молчал, не убирал глаз с костерка. Пламешко, похожее на жёлтую бабочку, то взлетало, то опадало, взлетало с каждым разом всё ниже и ниже. Костерок умирал.
Хлеб и сало я надёжно прибрал, съел в охотку, но кипяток, как ни горело пить, плеснул, накинул на затухавший клёклый костерок: чай из тороса не вкусней каши из топора.
– Что, не по ндраву наш чай да чаёк – жарена водичка? – медленно, слово по слову, будто на лопате подавал, проговорил Генка с горькой ухмылкой. – А бамовская шоферня черпает её прямо из моря, бухает в радиаторы и ничего!
– Вообще-то, насколько я догадываюсь, радиатор слегка отличается от желудка.
– Ну и пиши тогда жалобу на Бога! Только во-он их, – кивнул на чадившие вдали трубы, – чем проймёшь?
Утвердилась тягостная тишина.
Сколько читал о чистоте байкальской воды…
Но вот сейчас, когда посреди озера сам глотнул его горечи, – комок подкатило к горлу. Значит, врали с газетного листа, врали с книжного листа, врали с экрана?
Рядом угрюмовато ширкал лыжами Генка. Не сводил с чёрных труб отрешённого взгляда, затаённо шептал евтушенковское:
– К твоим скалам, Байкал,
не боясь расшибиться о скалы,
я всегда выгребал,
беглый каторжник славы.
Без тебя горизонт
быть не может в России лучистым.
Если ты загрязнён,
не могу себя чувствовать чистым.
И над миром взвита
дорогая до боли и дрожи
мне твоя чистота,
суперкорда любого дороже.
Словно крик чистоты,
раздаётся над гибнущей синью
голос твой:
"Защити,
Защити, слышишь, сынку?!"
Что-то стонет во мне
вмёрзшей в льды
твоей лодкой рыбацкой.
Я кричу и во сне:
«Помогу! Слышишь, батько?»