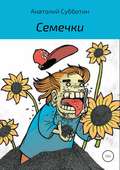Анатолий Субботин
Венеция
Компания отправилась. Везде смеркалось. Впрочем, не то слово. Ночь упала, как черный театральный занавес. Впрочем, не черный. Пули огней изрешетили его. Звезды, фонари, реклама. Сверху, со всех сторон, отраженьями в воде – под ногами. Терлась на ходу о Бутафорина Моника. Говорила томным вполголосом: – Зови меня просто Моня. Хорошая бумага есть у Мони для твоего пера. Ты зальешь ее чернилами? – Неужели писчая?! – радовался Петр Петрович. – Неужели первый сорт!
4
Трактир назывался “Раковина”. Видимо, ход мысли у хозяина трактира был такой: всякий человек вне данного заведения представляет собой нечто скользкое, студенистое, беспомощное. И только войдя в эти стены, он обретает форму, крепнет, чувствует себя как дома. Уже не лягушка, но рыцарь. Рыцарь на отдыхе. Добро пожаловать домой, в доспехи! Добро пожаловать в раковину!
Что ж, достаточно оригинальная трактовка сущности трактира, и отчасти верная. Однако вино действует на людей по-разному. И верней было бы назвать питейное заведение более общим словом – “Метаморфоза”. Не совсем понятно почему? Сейчас объяснюсь. Во-первых, в предложенном мною названии есть звук М. Встречающийся дважды и как бы выпирающий из слова он прозрачно намекает, о каком превращении идет речь. Во-вторых… Простите. Потом. У меня меню. Надо делать заказ. Меню у меня.
Конечно, фирменное блюдо – устрицы с лимонным соком. Дальше – сладкий перец, фаршированный овощами. Затем – морской окунь. Наконец, ростбиф с кровью, окруженный строганным хреном. Чем будем запивать? Тут мнения не совпали. У меня мнение. Свое мнение у меня. Шимпанзе настаивал на шампанском. Центурион ратовал за фалернское. Чего-нибудь покрепче был не прочь Петр Петрович. Заказали хорошее и разное. Но даже если бы пили что-то одно, скажем, сакэ, этого нельзя было бы определить по дальнейшему поведению участников. Настолько оно, это поведение, различается. Одни от выпитого крепнут на радость владельца “Раковины”, становятся твердыми как доска. Другие, напротив, делаются мягкими подобно стельке. Третьи…
Сосед Бутафорина по столу, судя по одежке – шут, сказал: – Вообще-то мне пить нельзя: я пью мертвецки. Сказал и осушил бокал. И звякнув растущими на голове бубенцами, свалился со стула замертво. Хорошо, что не с коня! Представить страшно – если бы с коня. Ну вставай, хватит дурачиться, нас не проведешь. Мы видим, что конем тут и не пахнет. Перестаньте, господа, – заметил доктор, – шут не шутит, у него нет пульса. Уж не хотите ли вы сказать, что он мертв? Я не знаю, какой он, только сердце у него не бьется.
Компания смущенно опустила глаза. Каждый – в свою тарелку. Словно неприличный звук кто-то издал. Моника так и сказала:
– Этот шут всегда выкидывает что-нибудь неприличное.
– Успокойся. Это его последняя шутка, – заметил Джузеппе. – И держу пари, самая удачная.
– Мы несем потери, – сказал центурион.
Тем временем официанты со знанием дела приступили к соборованию тела. Они завернули его в скатерть и привязали к ногам ведро.
Друзья, родственники, музыканты и посторонние лица, помянем покойного добрым словом, помолчим минуту. О мертвом либо хорошее, либо ничего.
Присутствующие в зале немного помолчали. Затем выпили и закусили. Центурион и арлекин подхватили экс-друга и, выйдя из зала торжественным шагом, бросили в канал. Вода ему пухом! Тело беспомощно валялось на поверхности. Даже ко дну оно не могло идти и требовало буксир. Последняя воля. Ведро, набрав в рот воды, стало набирать и скорость. Белоснежный кокон, размываемый зеленым фоном. Аист, исчезающий в небе. Не на шутку прощай!
Друзья вернулись. В харчевне по инерции стояла тишина. Ни чавка, ни хрюка. Вдруг разрыдался кто-то громко. Что с тобой, Моника?
– А поцеловать… – выдавила та.
– Что поцеловать?
– Поцеловать забыли.
– Стыдитесь, милая! Ваша сексуальность становится неприличной. Вас возбуждают даже мертвые.
Но быстро успокоилась Моника. Шимпанзе, сидя рядом, гладил ее по ляжке левой рукой, а правой закусывал. То же делала и сама одалиска, только ее рука гладила сидящего слева Бутафорина.
Петр Петрович, увлеченный морским окунем, поначалу реагировал плохо. Голод не девка, в смысле сильнее девки. Однако голод был одинок, а на стороне одалиски, кроме окуня, были 150 грамм ямайского рома. И разомлел российский литератор. Да что там! Голова пошла винтом у Бутафорина. Тем более что застенчивые девичьи пальцы уже вовсю шныряли по его эрогенной зоне.
Какой милый город, какой славный народ – эти венецианцы! Приняли меня как родного. Такое ощущение, будто я давно их всех знаю. Или по крайней мере уже бывал здесь когда-то. Вот проходит мимо добрый улыбающийся официант. Вот за соседним столиком весело беседует компания, слегка перекрикивая музыку. Вот смешной сигаретный дым кувыркается возле люстры. А Моника. О! Что она делает? Что ты делаешь? Скажи, откуда ты пришла? То есть это я пришел, а ты тут и была. Желтые лиф и шальвары, рубиновые губы и ожерелье, черные волосы. Прекрасное сочетание цветов. Надо написать роман под названьем “Красное, черное и желтое”. Как российский флаг – трехцветная. О! Сейчас я… Сожми его сильнее. Но мешали брюки. Петр Петрович попытался расстегнуть ширинку (шашки наголо!), но таковой не оказалось. Проклятый комбинезон! Отчего я не пью? Нет, я пью. Ваше здоровье. Будем знакомы. Вашебудем. Она ласкала его. Но хотела ли она его? Спокойствие Моники смущало Бутафорина. Вести застольный разговор и закусывать. Как ни в чем не бывало. Словно эта рука принадлежала не ей. Петр Петрович пробежался по руке взглядом – от кисти до плеча. Ведет к ней, к ее шее и голове. Никаких сомнений. Нет, я не прошу прямо тут отдаться. Понимаю: не место. Хотя самое время. Но где томные поглядывания, где улыбки, сопровождающие рукоприкладство? К чему вдруг такая конспирация? Инкогнито проклятое. Прихоть романтической натуры? О, женщины! Ты играй, играй, да не заигрывай. Все-таки что же? Страшное самообладание или полное равнодушие? Сейчас проверим.
И поэт положил свою ладонь на соответствующее место одалиски. Но там уже была чья-то волосатая явно мужская рука. Здравствуйте, сказал Шимпанзе. Куда же вы? Останьтесь. Как гласит русская поговорка, один любовник – хорошо, а два – лучше. Не правда ли, Моника? Синьорина говорит: си. Всем своим существом. Так что вернитесь, не обижайте даму. Вы хотели вашей ручкой СЮДА? Милости просим. А я пока зайду с тыла.
Черте что! – подумал Бутафорин. Но руку на пульте женского тела оставил. Тройственный союз. Антанта. Анданте. Капитан комического корабля, куда летим? Не залететь бы!
А музыка лилась, вино звучало, речь крепчала и множилась.
– Гарсон, кружку пива!
– Слушай, приходит один мужик домой и находит там лошадь. По едва заметным признакам он узнает в ней свою…
– Кружку пива!
– … жену. Ну вот, говорит он примирительно, теперь я собственными глазами вижу, что ты у меня работаешь, как…
– Антонио, а тебе не кажется,
– Кажется.
– … что сегодня в ростбифе мало крови?
– Мало. Гарсон, кружку крови! Тьфу ты! Я хотел спросить, почему у вас мясо малокровное?
– Корова такая попалась, синьор. Молока, вроде, хорошо давала, а вот с кровью подкачала. Ведь тут не угадаешь. Сколько она дает молока, видно сразу, а уж сколько она даст крови, не знает никто. Кровь – это игра втемную.
– Правильно. Неси карты. Сыграем в покер.
– Ты сегодня просто блеск, Джули! Если позволишь, следующее свое полотно я посвящу тебе.
– Она предпочла бы хороший кусок шелка или кожи. Лучше посвяти ей свою лысину.
– До фейерверка осталось полчаса. Поэтому давайте выпьем.
– Верно, давайте. У нас еще осталось.
– Что касается меня, я пью, и все мне до фейерверка!
– Господа, предлагаю выпить, а потом, глядишь, и спеть.
– А вдруг да и сплясать.
– Васька, жги!
– Кто сказал “Васька”? – удивленно воскликнул Петр Петрович. – Здесь вам не Россия. Здесь не может быть никаких Васек, потому что не может быть никогда. А с другой стороны, подумал он, Венеция ли это? Почему я понимаю их? Ведь я по ихнему ни в зуб. Или они меня. Почему мы понимаем друг друга?
– Успокойся, Пьеро. Это ты сам сказал “Васька”.
Тогда Петр Петрович выпил, успокоился и затосковал по родине. Мать Россия моя! О Русь моя, жена моя! Нет, это уже было. Надо что-то оригинальней. Россия – дочь. Так, пожалуй, лучше. О, дочурка, как ты там без папы? – Папаша, гони монету на ботфорты! – донес до него норд-ост. Уж эти мне подросшие созревшие налившиеся девочки девки девахи, снимающие с отцов и братьев последние сапоги. Рядятся в мужское не для того ли, чтобы сильнее подчеркнуть свою женственность? Мужчин это возбуждает. Как! На их территорию проникло инополовое существо?! Эти голени, обтянутые ботфортами. Эти лядвея, распирающие гусарские рейтузы. Эти странные воины, всегда готовые сдать свою позицию и раскинуть бивак. Россия Петровна. А что, я Петр! Хоть и не первый.
Бутафорин всплакнул. Но Бутафорин вспомнил, что рядом с ним есть одалиска, которая желает ему добра. Она делает ему приятно, а он не восприимчив. Надо пойти ей навстречу. Надо сосредоточиться. Он стал ерзать на стуле и повторять: среда точка, точка среда. Его рука быстро шарила по пульту управления. Моника замолчала и повернула к нему голову. Губы разжаты, в глазах туман. Она шла на спуск. Тут снаружи что-то ухнуло и окно на миг стало разноцветным калейдоскопом. Петр Петрович замер. На его белом костюме выступило мокрое пятно.
– Фейерверк! – рявкнул центурион. – Все на выход!
– А кое-кто уже вышел, – сказала Моника, улыбаясь и облизывая свою влажную ладонь.
На конечном пункте приземлились они.
ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
Стой, кто идет?
Это я, сперматозоид. Мильоны вас, нас тьмы и тьмы. И пусть на своем животворящем пути мы падаем как мухи, как бесчисленные рядовые, – один из нас все-таки достигнет цели. Он возьмет вашу крепость. Он выйдет в дамки, то есть в матки. Он засеет вашу пустыню. Здесь будет город-сад (просьба: не путать с маркизом). И жемчужина нищету раковины украсит.
Все вышли из “Раковины”.
5
Улица ошеломила Бутафорина. Сразу среди трех морей оказался он. Как Улисс. Было шумно и тесно от моря как такового, моря огней и особенно от моря людей. Казалось, вся Венеция под вечер… впрочем, какой вечер!.. ночь вовсю на дворе… погулять как будто вышла. Ай-яй-яй! Столько праздных и бездельников. Посадить бы их за письменные столы да дать каждому по шариковой ручке. И чтобы не меньше романа в год страниц на пятьсот! А то пиши за них Лев Толстой, отдувайся за всех. И что? В итоге: преждевременная смерть от переутомления, в расцвете, так сказать, лет. А он писал – не дописал. А ведь еще бы мог. Безобразие! Посадить, одним словом! Моня, почему людей как народу? Праздник, говоришь. Понятно. Созрели гроздья фейерверка в саду у дяди Бога. Пришли на зрелище. Не хлебом единым. Хлеб-то у них есть, не то что у меня! И как это у вас часто? Каждый день!? Нет, вы слышали?! У них ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Кошмар! Правильно, Монечка, не кошмар, а карнавал. Слова путаются от избытка впечатлений.
Трах-бах! И небо, разбитое вдребезги, падает на город разноцветным градом. Пушки, ракетницы, петарды, шутихи шутить изволят. Пахнет порохом. Но не только. Потной, одухотворенной, в смысле пахнущей духами толпе было на пешеходной дорожке (читай: на набережной) тесно. Здесь собрались одежды всех времен и народов. Яркие, экзотичные, невиданные. Маркие, хаотичные и упитанные. Иные пешеходы вываливались не по своей воле на проезжую часть (читай: в канал). А там – осторожно! – злое движение. Туда-сюда сновали лодки, барки, одним словом, гондолы.
Поберегись, зашибу! – кричал лихой гондольер встречному коллеге и брал весло, как копьё, наперевес. И веслами сшибались они. И часто один из них, а то и оба оказывались в черной, как нефть, воде. Так что никто и никогда уж не мог их там разглядеть. Нефтяник – опасная, темная профессия. Делайте ставку на нефть! А что оставалось делать!? Лодки без руля и без ветрил беспомощно вертелись, путались, как раненые, под ногами, пока здоровые гондолы не заклевывали их. Не так ли и ты, поэт? Мешаешься на пути целеустремленной к рублю жизни. Сам без рубля. Но ты предпочитаешь гибель нефть рублю рулю царю в голове. А что тебе остается? И что тебе помогает сделать ставку на гибель? Одно лишь презрение.
Но хотелось бы опочить на родине. По-человечески. Простившись с женой и дочкой, сердцем, печенью и почкой, стать земляною кочкой. Лечь в родную сырую землю, а не в чужую сухую воду. Но вот только узнает ли родина-отец? Без документов, в странном иностранном костюме.
– Ваш паспорт?
– Его взорвали пираты.
– Без паспорта вы не русский.
– У меня нет денег. Позвольте хоть в тюрьму сесть.
– Без паспорта ты не человек.
– Ну позвольте хоть в землю зарыться!
– Без паспорта ты не труп.
Да, век России не видать! Впрочем, кос её ржаных, глаз её голубых – тоже. Надо пока пристраиваться здесь.
Одалиска жалась к пьеро. Моника прижималась к Петру Петровичу. Парча терлась об атлас. В толпе затерялись они. Друзей нигде не было видно. Бутафорин не любил толпы. Она казалась ему безликой и враждебной. Даже если пела и плясала. Он вспомнил советский парад. По Красной площади шла колонна крепких парней. И все с гармонями. Заметьте, не с Монями. Это бы куда ни шло. А именно с гармонями. Вот что было жутко. Это было страшней, чем если бы они шли с автоматами Калашникова. Казалось, за сползающей маской безумие неприкрытое мелькнуло.
Где ты живешь, Моня? У тебя есть квартира? Целый дом!? И ты в нем одна!? Монечка, я люблю тебя! Предлагаю тебе свою руку и сердце. Впрочем, что мелочиться! Всего себя тебе предлагаю. Давай жить как муж и жена. И начнем прямо сегодня же.
Начнем и кончим, и снова начнем, – был ответ одалиски.
Толпа расступилась. На нашу парочку двигался, простите за ходульную фразу, некто на ходулях. С головы до ног он был обтянут черным матерьялом, на котором спереди и сзади белело изображение скелета. Смерть на костылях.