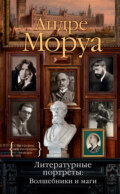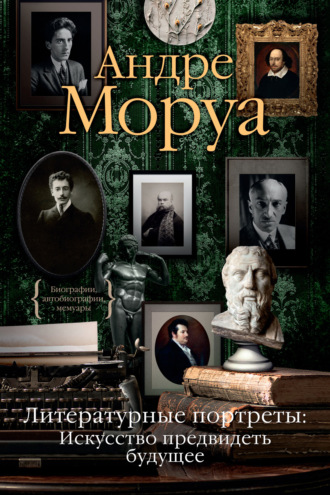
Андре Моруа
Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее
Шарль дю Бос
Можно писать только о том, что любишь.
Ренан
Поль Валери сказал мне однажды: «Всякий талантливый человек имеет право на период славы или по меньшей мере высокой оценки его творчества, но время, когда хотел бы прославиться, должен выбирать только он сам. Слава может настигнуть его в молодости, может – в старости, а может быть и посмертной». Шарль дю Бос выбрал для себя посмертную славу – как Стендаль, как Малларме, – и наконец-то время пришло. Его звезда уже поднимается над горизонтом. Студенты всех стран пишут о нем дипломные работы, профессор Сорбонны читает о нем курс лекций, уже есть человек, желающий переиздать семь томов его «Приближений». Выдающиеся англичане называют дю Боса первым среди современных ему французских критиков, но я опасаюсь подобной классификации – она вынуждает сравнивать несопоставимые явления или людей, которых нельзя мерить одной меркой. Шарль дю Бос не был лучше ни Тибоде, ни Жалу[35] – он был просто другой. Думаю, правильнее было бы сказать, что для литературной критики определенного рода он был тем же, чем Пруст для романа: этих двоих снедало одинаковое желание совпасть – с чувством, с пейзажем или с творением. Существует описание того, как Марсель Пруст склонялся к розовому кусту или неотрывно вглядывался в отблески солнца на крыше, чтобы уловить тайную сущность, истину, которая скрывается за внешним, и сделать ее затем одним из звеньев золотой цепи своего прекрасного слога. Сколько раз я видел, как Шарль дю Бос вот так же всматривается в автора или в картину, чтобы найти несколько слов, способных открыть упрятанный в них секрет. «Байрон, или Необходимость рока»; «Несомненность и блеск – вот почти все, чем берет Мане»; «Паскаль одну за другой вынимает мысли Монтеня из просторного аквариума „Опытов“, где никогда не прекращается их беспечное кружение, подобное кружению сверкающих золотых рыбок». Дю Бос, как и Пруст, ищет и находит главное – суть. И его критика сама становится поэзией и творением.
I
Шарль дю Бос родился в 1882 году в XVI округе Парижа в семье, принадлежавшей к крупной буржуазии. Его отец, близкий друг короля Эдуарда VII, был вице-президентом Общества стипль-чеза в Отёе[36], учредил там собственный приз, состоял в жокей-клубе, и, естественно, сын его, едва войдя в возраст, тоже примкнул к этому кружку аристократов. Однако позже Шарля исключили за неуплату членских взносов, и он легко и без малейшего сожаления отказался от привилегий, за которые другие готовы были дорого заплатить. Тем не менее от юности, проведенной в «богатых кварталах», у дю Боса навсегда осталась любовь к лошадям и к связанным с ними образам. Не случайно он сравнивает неистовую силу Толстого с горячностью несущегося галопом коня, а стиль этого писателя – с «блестящей, переливающейся шкурой очень красивой лошади, когда ее ласкают солнечные лучи». Не случайно он видит в Анне Карениной большую черную кобылицу, а во Вронском – коренастого жеребца-полукровку, «тот тип животного, которое предпочитают для утренних прогулок верхом». Оставаясь совершенно неспортивным человеком, он любил лошадей, как любил, скажем, Дега балерин – любовью художника.
По материнской линии (ее звали Мери Джонстон) Шарль был наполовину англичанином, он говорил по-английски так же свободно, как по-французски, и переходил с одного языка на другой, сам того не замечая. Жан Полан[37] упрекал его в том, что «едва только возникает необходимость сказать нечто совсем простое или, наоборот, весьма утонченное, как он сбегает в свой английский». Однако на самом деле никуда дю Бос не «сбегал», и совершался этот переход с языка на язык почти бессознательно. Он очень рано полюбил английскую поэзию – особенно Вордсворта, Китса, Шелли и Браунинга[38], – и это чувство так и осталось одним из главных в его жизни. Ему слышалась в этих стихах воздушная, изысканная музыка, он видел в них экстаз, исступленность, которые так редки у наших поэтов. Впрочем, ему вообще претили некоторые черты французского характера. Он приходил в ужас, встречаясь с рационализмом на манер Декарта, а еще больше – с вольтерьянством, хотя и восхищался prestissimo[39] повествования в «Кандиде». Шарль предпочитал Францию Жироду[40], Мюссе, Нерваля[41], Ватто, Дебюсси – ту Францию, «в которой туманность сходится с отчетливостью».
Он говорил, что его темп – adagio[42]. Ему было мучительно сталкиваться с остроумием на грани насмешки. Нет, он не то чтобы сам был не способен сострить – в книге Жана Мутона мы найдем немало примеров обратного. Так, об одном не слишком оригинальном писателе, с большим напором утверждавшем банальности, дю Бос сказал: «Он вбивает в вас то, что было сказано до него». Одного профессора, который, непрерывно всех поучая, все только запутывал, он определил кратко: «Настоятельно-бестолковый». Об Эдит Уортон[43] сказал: «Спокойствие ее было того рода, which is backed by an impregnable bank account» («что опирается на несокрушимый счет в банке»), – высказывание вполне в духе Пруста. Шарль время от времени острил, но просто не позволял себе реагировать шуткой мгновенно и необдуманно, а значит – и не всегда справедливо. Если он считал необходимым посмеяться над излишней высокопарностью или глупостью, он делал это с невозмутимой серьезностью, выбирая пышные слова и подчеркивая тем самым – по контрасту – посредственность объекта насмешки. Эта манера шутить с серьезной миной – характерная черта английского юмора.
Автобиографический очерк Шарль дю Бос начал словами: «Я родился в семнадцать лет». Именно в этом возрасте он впервые прочитал «Введение в метафизику», нашел в этом коротком, но емком тексте формулировки, отвечавшие его собственным духовным запросам, и таким образом открыл для себя Бергсона[44]. «Я погружался не столько в философию, сколько в Бергсона». На самом же деле Шарль к этому времени успел уже получить неплохое образование в школе Жерсона и в лицее Жансона-де-Сайи. 1900 год дю Бос провел в Баллиол-колледже – старейшем из колледжей Оксфордского университета, его святая святых, – и на всю жизнь сохранил нежное отношение к прекрасным английским школам, с их стрижеными лужайками и неспешной учебой. В 1902 году он получил степень лицензиата по английской филологии, 1903-й провел в Эврё, где служил в армии, а затем, пожив какое-то время во Флоренции и в Венеции, задержался в Берлине, где стал учеником Георга Зиммеля[45]. Известный немецкий философ и культуролог оказал на развивающийся ум юноши благотворное влияние и научил его не просто откликаться чувством на произведение искусства, но и улавливать, какие мысли эта вещь в себе содержит.
Франция, Англия, Германия, Италия – вот где получал образование истинный европеец. Долгое пребывание в Италии дало Шарлю возможность написать очерк о Боттичелли. Жан-Луи Водуайе[46] писал, что в течение всей жизни Чарли (так называли Шарля друзья) хранил в уме и сердце образы мечтательных дев и ангелов. «Я иногда говорил ему: Чарли, Боттичелли телом и душой переселился в вас». И в самом деле, судьбы дю Боса и Боттичелли во многом схожи. У обоих было слабое здоровье, оба страстно любили читать, оба на середине жизненного пути перешли от интеллектуального сенсуализма к экзальтированной вере. Но об этом позже…
В 1907 году на представлении «Пеллеаса и Мелизанды»[47] в «Опера́ комик» Шарль познакомился с Жюльеттой Сири (тоже принадлежавшей к классу крупной буржуазии) и вскоре женился на ней. Женился удачно, ибо не было в мире другой женщины, способной столь полно разделить с Шарлем дю Босом его благородную и трудную жизнь. В «Дневнике» мужа Жюльетта дю Бос зовется Зезеттой или обозначается инициалом Z1 (их дочь, Примероза, там же обозначена как Z2). На протяжении всей жизни они делили пополам радости и духовные восторги, а при необходимости на равных участвовали в борьбе. И такая необходимость временами возникала, поскольку Шарль, самый непрактичный человек на свете, никогда не соглашался приспосабливать свои произведения к вкусам издателей. Наоборот, он всегда мечтал найти каким-нибудь чудесным образом бескорыстного и беспристрастного издателя, который принимал бы все написанное им таким, как есть.
Каким же? Произведения Чарли – это в основном свободные размышления о произведениях искусства, которыми он восхищался, стараясь при этом четко определить и мотивировать свои чувства. Порой такие размышления принимали форму критических эссе, порой – дневниковых записей (поначалу дю Бос их сам записывал, позднее стал надиктовывать), а иногда выливались в бесконечные разговоры с несравненной своей сотрудницей Z или с друзьями. Жан-Луи Водуайе описал вечера у дю Босов на улице де ла Тур в Пасси, затем на улице Бюде на острове Сен-Луи. Чарли и Жюльетта, пишет Водуайе, «неявно, но умело делали эти свои вечера удивительно гармоничными… В их интерьере, отличавшемся строгой и изысканной роскошью, царила атмосфера, которую можно было бы сравнить с той, какую создает вокруг себя великая венецианская живопись… Не столько для него самого, сколько для его друзей, требовалось, чтобы все, с чем входящий в дом сталкивается, было самого высшего качества. Наши нескончаемые разговоры об искусстве, литературе, музыке овевались ароматами лучшего из всех возможных чая и лучших сигар». Стол у дю Босов был аппетитным, как натюрморт Шардена, гармоничным, как живопись Уистлера[48], и напоминал камерную музыку. «На какие только безумства, на какие только абсурдные излишества не был способен наш дорогой Чарли в молодые годы – он, кому позже приходилось с таким благородством и такой естественностью обходиться без всего».
Во время Первой мировой войны 1914–1918 годов Чарли, которому здоровье не позволяло жить в казарме, не был мобилизован и занялся организацией франко-бельгийского приюта для беженцев, но выяснилось, что он не очень-то годится даже для подобной деятельности. А для чего тогда годится? Исключительно для того, чтобы регистрировать свою жизнь, минута за минутой.
Его дневниковые записи станут нам бесконечно дороги, потому что зафиксированные в них мысли совершенно точно отражают работу обогащенного чтением прекрасной литературы ума и взыскательной совести. С 1920 года Шарль и дня не мог прожить, не «источая» (его собственное выражение) и не «тратя калорий». Ему было жизненно необходимо выговаривать свои мысли, и отсюда появилась необходимость в замечательных секретаршах, умеющих одинаково хорошо записывать под диктовку как английские, так и французские тексты. И он находил именно таких, и каждая из них гордилась тем, что, выполняя свою работу, может ощутить личную причастность к духовной жизни одного из самых замечательных людей того времени.
В августе 1922 года в жизни дю Боса появилась еще одна отдушина – встречи и беседы в аббатстве Понтиньи, куда Поль Дежарден каждое лето приглашал на десять дней группу писателей, чтобы поговорить на литературные, философские и религиозные темы. В Понтиньи приезжали Жид, Валери, Мартен дю Гар, Шлюмберже, Мориак, Фернандес, Жалу, Литтон Стрейчи, Курциус[49]. Именно там я познакомился с Чарли. Мы жили коммуной. В публичных дискуссиях проявлялись талант и темперамент выступающего, в частных разговорах зарождалась симпатия к тому или другому собеседнику. Несмотря на то что вокруг было столько блестящих и именитых, Шарль дю Бос показался мне одним из самых замечательных персонажей «Декад в Понтиньи». К каждой теме он подходил с такой серьезностью, что сначала это удивляло, потом начинало волновать. Валери забавлялся парадоксами, Жид выступал в роли адвоката дьявола, а Чарли каждой своей фразой ставил на кон собственную жизнь. Слушая его, я всегда вспоминал слова Платона: «Человек должен стремиться к истине всей душой». Серьезное лицо дю Боса с длинными висячими усами освещалось взглядом бесконечной глубины и нежности. В течение всего разговора он не сводил с тебя глаз, словно бы трогательно о чем-то вопрошая.
Мне никогда не встречались люди, способные на такое же всепоглощающее внимание. Рядом с ним мы все казались себе непростительно легкомысленными. Очень скоро у меня образовалась привычка в разговорах с Чарли настраиваться, насколько могу, на его волну. И наверное, сейчас уже можно сказать, что после Алена он стал первым из моих друзей, кто меня изменил. Я, как и он, ощутил необходимость жить осмысленно, и он помогал мне в этом. Мы одинаково восхищались Чеховым, Констаном, Жубером[50] и – что в те времена случалось куда реже – Байроном. Он рассказывал в «Дневнике» о наших разговорах так: «Сейчас при встречах – а установилось это мгновенно – между нами царит полное согласие, позволяющее доискиваться до истины в каждом вопросе».
Я вернулся из Понтиньи вдохновленный культурой, но еще больше – благородством души Чарли и возмущенный тем, что для такого великого ума не нашлось еще своей публики. И для того чтобы дю Бос наконец обрел эту публику, я постарался (насколько мог, а мог тогда немногое, ибо и сам только входил в литературные круги) собрать для него аудиторию и организовал с этой целью у себя дома цикл лекций о Китсе. Слушателями Чарли стали тогда человек шестьдесят, и многие из них разделили мое восхищение лектором. Позже, когда я был в глубоком трауре из-за постигшего меня страшного несчастья, лекции устраивались в других домах, у друзей, но принцип всегда оставался тем же: серия занятий, посвященных одному из великих авторов: Жиду, Констану, Байрону, Чехову, Ницше, Гёте, Новалису[51]. Вдохновенная импровизация дю Боса превращалась потом в статью: особенность метода Чарли состояла в том, что точно сформулировать мысль он мог, только проговаривая ее.
Мне нравились даже его причуды. Он любил начинать лекцию с длинной – страницы на две, а то и на три – цитаты, которую затем комментировал. Он импровизировал с такой же серьезностью, с какой пишет автор, относящийся к себе предельно строго. Он придирчиво отбирал слова и оттенки слов, добиваясь изящества речи и абсолютного ее совершенства. Удачные слова и удачные мысли рождались у него одновременно, и благодаря этому – словно бы без единой помарки – возникали чудеснейшие совпадения. Люди в большинстве своем так пусты и легкомысленны, что все серьезное способно привести их в замешательство. Возможно, постоянное напряжение речи и мысли Шарля дю Боса утомляло бы его приятелей и слушателей, если бы их не успокаивали его вполне человеческие слабости. Чарли никуда не мог отправиться, не взяв с собой всех своих сердечных друзей, и приезжал на десять дней в Понтиньи с несколькими ящиками книг. На полках книжного шкафа он расставлял авторов по духовной близости – так, например, современного стоика Чехова он помещал рядом с Марком Аврелием (предпочитая при этом Чехова). Во внутреннем кармане пиджака дю Бос носил несколько дюжин очень остро заточенных карандашей, и часто можно было увидеть, как он вышагивает под грабами Понтиньи с очередной книгой в руке, что-то подчеркивая в ней на ходу колким грифелем одного из этих карандашей.
О своих писательских «маниях» Чарли не без юмора рассказывал сам: «Да, согласен, я помешан на хронологии, помешан на выписках и примечаниях, помешан на отступлениях и вводных предложениях (кстати, в нынешнем году я сам заставил себя сократить количество этих последних), помешан на тире и цитатах (но вот от этого я нисколько не хотел бы избавиться: напротив, считаю одной из своих главных обязанностей распространять как можно шире прекрасные слова и важные мысли, которые попадаются мне на пути и помогают жить); но такие ли это тяжелые мании, действительно ли я виноват в том, что читатели на всем подобном начинают скучать и это отвращает их от текста? Но – в таком случае – те ли это читатели, которым я, не имея подобных маний, мог бы принести хоть какую-то пользу? Весь мой личный опыт доказывает, что мне способен что-то дать, меня способен обогатить только человек, всегда остающийся самим собой, всегда безупречно искренний, человек, сильные и слабые стороны которого сплавлены совершенно непостижимым образом, определяя его голос, и что только с таким человеком у меня могут устанавливаться близкие отношения. Может ли возникать близость, если не отдаешь всего себя, и можно ли отдавать себя без искренних признаний и не имея слабостей?»
Кульминацией нашей с Чарли дружбы стало, наверное, его пребывание у меня в Ла-Соссе после смерти моей жены. Он был в высшей степени верным товарищем в трудное время, и все патетическое сильно его воодушевляло. «Я не нуждаюсь в других, – говорил Чарли, – я нуждаюсь в том, чтобы другие нуждались во мне». Утешал он меня (и, замечу, это меня трогало, потому что было в духе Чарли – лечить рану цитатой) высказыванием Жубера: «Среди бесконечного множества вещей, которые могут нас тронуть, наверняка найдется радостное или печальное событие, способное пробудить в нас возвышенные прекрасные чувства. Именно такого чувства я и ищу, мало того – стараюсь поскорее избавиться от всех остальных, чтобы остаться только с ним. Когда душа моя наполняется таким чувством, она старается сохранить его, и сохранить навсегда». Однако на самом деле для меня в этих обстоятельствах куда драгоценнее цитаты из Жубера было присутствие самого Чарли, чья требовательность – надо добавить – выражалась с необычайной нежностью. Он хотел, чтобы мы жили на пределе своих возможностей, и первым подавал пример такого образа жизни. Чарли всегда напоминал мне персонажа из гётевского «Избирательного сродства», который появлялся в самые трагические минуты и исчезал, едва стихали бури.
II
Стало быть, Чарли проговаривал свои мысли. Были ли его диктовки и курсы его лекций литературными произведениями? Думаю, в этом не может быть сомнений, и тут нужно выделить три наиболее важных аспекта. Самое главное у дю Боса, как мне кажется, его «Дневник». Именно здесь он высказывался обо всем: о своих внутренних конфликтах, об эволюции своих философских и религиозных взглядов, о подготовке к занятиям, о своем отношении к великим писателям, становившимся предметом изучения на его семинарах, о своей повседневной жизни, о тяжелых приступах болей из-за спаек, о разговорах с Z…
Вот один из примеров минорной тональности в «Дневнике»: «Обедал вместе с Пурталесами[52] у Жан-Луи, страдая от головной боли, к которой добавилось гнетущее ощущение во всем организме после употребления излишне роскошной и столь же излишне тяжелой кулебяки (я охотно перенял бы у русских все что угодно, только не их кухню, но я тем не менее восхищаюсь их умением – во всяком случае, внешним – хорошо выглядеть и стойко держаться). Недомогание не утихает, но считаю нужным продиктовать эту запись в дневник – главным образом потому, что я сегодня не очень доволен собой, но, возможно, буду еще доволен (такова моя натура), если хорошенько разберусь, в чем причина недовольства».
Казалось бы, пустяк, но как же привлекательны все эти «пустяки», создающие четкое ощущение близости с существом – вопреки слухам о нем – весьма человечным. Жироду писал: «Часто удивляются тому, как редки в нашей словесности, условно говоря, „душевные излияния“, но ведь они подразумевают близость писателя с самим собой, а такой связи большая часть наших литераторов избегает». Близость с самим собой – для Чарли в этом было все, «и именно поэтому, – говорил он, – я не писатель». С этим трудно вполне согласиться. Дю Бос был писателем, потому что знал, что его «Дневник» опубликуют после его смерти, и не возражал против публикации, – но он также не был писателем, поскольку никогда не написал (в отличие от Валери, который делал это весьма охотно) ни строчки по заказу. Он «источал» себя, обращаясь к очень узкому кругу тем и людей, и писал для тех, кого считал своими друзьями, или для того, кто становился для него «одним из прекрасных чужеземцев», но последнее случалось редко. Среди «прекрасных чужеземцев» можно назвать, например, Гёте, который поначалу был, как казалось Чарли, чрезвычайно от него далек, но в котором впоследствии он счастлив был обнаружить чувствительность и ранимость.
Пожалуй, дю Бос был все же в большей степени аналитиком, чем писателем. Оратором? Нет, это слово приводило его в ужас. Учителем? Однажды он написал мне, что учитель – лучшая профессия в мире. Но все-таки тут необходимо повторить, что куда в большей степени, чем учителем, Чарли был человеком, который проговаривал свои мысли прежде всего для самого себя.
Ален говорил: «Мысль существует только для мыслителей». «Дневник» – произведение, представляющее собой монолог длиною в жизнь, посвященный названным мной великим людям и некоторым другим, лекции о которых Чарли только задумывал, среди них – Бергсон, Стефан Георге, Гофмансталь, Россетти[53], Шелли… Но лекции дю Боса – благодаря глубине мысли и прекрасному знанию первоисточников – производили на тех, кто слушал, такое глубокое впечатление, что многие хотели видеть их опубликованными. Все лекции опубликованы вряд ли будут, но некоторые впоследствии станут книгами (о Констане, Гёте, Байроне).
Что представляют собой эти книги? Биографии? Конечно же нет, хотя, как уже упоминалось выше, Чарли придавал огромное значение хронологии, без которой, он полагал, может обрушиться все. Тем не менее ему было неинтересно пересказывать жизнь человека поступательно. Ему нравилось выудить хорошую цитату по поводу той или иной ситуации в жизни героя и разматывать, говоря о процитированном тексте, бесконечную нить собственных мыслей по этому поводу. Я бы даже сказал, пожалуй, что Чарли относился к своим персонажам, как к друзьям: он охотнее всего приходил к ним в самые трудные и самые патетические моменты их жизни. Он делал срезы их жизни, как и их творений, чтобы выделить «горячие» часы, заслуживающие исследования и толкования. Так, например, он с замечательной деликатностью и почти с нежностью рассказывал о двух любовях, посетивших Гёте в старости (к голубоглазой миланской девушке Маддалене Риджи и к Ульрике фон Леветцов)[54]. Не думаю, чтобы еще кто-нибудь когда-либо говорил о влюбленном старце с таким пониманием и таким уважением, и не думаю, чтобы кому-нибудь удалось проанализировать вдохновленную Ульрикой «Мариенбадскую элегию» лучше, чем дю Босу.
Читая его опусы, понимаешь, что они не принадлежат ни к жанру биографии, ни к жанру литературной критики. Чарли вообще опасался слова «критика», этимологию которого вел от двух глаголов: «судить, выносить приговор» и «разделять», – потому что единственное, чего он хотел, это проникнуть в замыслы творца и, таким образом, его воссоздать. «По существу, – говорил дю Бос, – я художник, материалом для творчества которого является творчество других». Поскольку речь идет о человеке, страстно желавшем видеть ясно, можно сказать, что целью его было войти в тесный контакт с умами, для которых искусство, религия и мысль являлись жизненной необходимостью. По Шарлю дю Босу, литература – это встреча двух душ, именно такой встречи он искал, притом что точного определения «души» он не дает. Вместо определения он предлагает описание встречи душ и встречи с душой мистерии, которая совершается тогда, когда благодаря самим Богом вдохновленному самоанализу, преодолев пылающие бастионы нашей несгибаемой и огнеупорной личности, мы добираемся наконец до нашей души и чувствуем теплое трепетание бедной птички, томившейся до тех пор неподвижно в клетке… Тот, кто пережил это непостижимое чудо, на самом деле встретился со своей душой и отныне знает, что имел в виду Блаженный Августин под «internum aeternam»[55] б…с – «Кто-то во мне, кто больше меня, – так это звучит в истолковании Клоделя. – Разумеется, мы проникаем здесь в тайную комнату, куда нет доступа никакой литературе, но литературе достаточно знать уединенное место, которое принадлежит только ей: оно и станет местом встречи двух душ, согласных одна с другой и перекликающихся, как музыкальные инструменты… Знаком того, что творчество достигло своей цели, будет радость». Все написанное выше кажется почти невыразимым, но мы можем это почувствовать (что до меня, то я чувствую).
Нечто такое называют метафизической критикой – и это верно в том смысле, что такая критика пытается выйти за пределы слов, как во «Введении в метафизику» Бергсона, столь дорогого сердцу Шарля дю Боса. Это верно еще и в том смысле, что такая критика не стремится вмешиваться в события, как того требует, например, Сартр, для которого предназначение человека – «делать историю», а цель литературы – «вернуть историческому событию характер переживаемого, его неоднозначность, его непредсказуемость». Непосредственное действие в такой трактовке ближе к абсолюту, чем литература или искусство. Не так для дю Боса. Чарли никогда не считал, что литература есть жизнь, никогда не считал, что писатель должен организовывать повод для эмоций, чтобы затем выстраивать из испытанных чувств книги. Наоборот, он хвалил Байрона за то, что тот сублимировал страдания в поэзии и ни в коем случае не создавал событий, чтобы описать их. «Как меня забавляет, – отмечал Шарль, – что почти для всех, кто полагает, будто со мной знаком, я человек, никак и ничем не связанный с реальной жизнью, как она есть»[56].
Был период, когда Жид отдалился от Чарли и сильно поспособствовал распространению анекдотов, из которых становилось ясно, насколько дю Бос не приспособлен к нормальной жизни. Все вместе эти истории складывались в легенду, подобную тем, какие рассказывают о рассеянных математиках, но в них была лишь небольшая доля правды. На самом деле Чарли прикладывал немало усилий, чтобы включиться в реальную жизнь. Он составлял серии книг – одна из них была собранием произведений иностранных авторов в издательстве «Плон» и впоследствии стала широко известна под названием «Feux croisfis» («Перекрестный огонь»); другая, выходившая у Шифрина[57], называлась «Ecrits intimes» («Дневники») и тоже имела заслуженный успех. Он попытался издавать журналы – «Textes» («Тексты»), потом «Vigiles» («Вигилии»). У дю Боса всегда были правильные и своевременные идеи, он всегда прекрасно выбирал авторов. Ему хотелось совершенства, его не интересовала прибыль, а главное – он был чрезвычайно щепетилен, и все эти достойные качества не могли не смущать издателей. Работая со словом, Шарль улавливал самые тонкие и изысканные оттенки смысла. Он мог целыми днями с наслаждением исследовать различия между словами «сложный» и «осложненный». Человеческие отношения требуют куда большей непринужденности, а иногда и вовсе удара наотмашь. Говорят (в частности, Луи Мартен-Шофье)[58], что опасность дневника как жанра состоит в том, что он предоставляет автору убежище и предлагает алиби, дающее возможность избежать создания крупных и проработанных произведений. «Обзор частностей, обрывки недодуманных мыслей, размышления мимоходом – именно и только такому находится там место. Это особенно опасно, ибо захватывает тебя целиком, но это еще и весьма соблазнительно: дух, который уступает подобному соблазну, обретает здесь уверенность, находит великое богатство способов для самовыражения». Не согласиться с этим трудно, только ведь нельзя насиловать свою природу – а Чарли был человеком именно «дневниковым», что совсем не мешало ему писать прекрасные книги.
Помимо «Дневника» и исследований того или иного автора у дю Боса надо читать «Приближения» – несколько циклов эссе, в которых предчувствия и зарождавшиеся предположения, подаренные интуицией и записанные в «Дневник», оформляются и находят свое развитие. Здесь есть тексты о Прусте, об Амьеле[59], о Флобере, о Гёте, а кроме того – многочисленные заметки, которые Чарли писал для «НРФ» к выходу той или иной книги Ривьера, Мориака, Шлюмберже, Литтона Стрейчи. Он посвятил мне второй том «Приближений», сделав такую надпись: «Дорогой друг, я предпочел бы написать Ваше имя на титульном листе какого-нибудь солидного труда… но, поскольку на сегодняшний день лучшего подарка для Вас у меня нет, примите этот, как он того заслуживает… На сей раз Вы столкнетесь с суждениями, большая часть которых относится не к писателям, а к книгам… и этот том – отдельный, я не хотел встраивать его в серию, хотел скорее дышать им, жить с ним, выразиться в нем, и даже больше в самом способе говорить, чем в том, о чем говорю. Эта уникальная способность, увы, так ловко от тебя ускользает, едва пробуешь записать слова на бумаге». Я позволил себе процитировать адресованную мне надпись на книге, потому что надпись эта очень хорошо показывает, чем была для Чарли критика. Дю Бос дышал книгой и жил ею, кроме того, он нередко (что было свойственно и Прусту) пытался разгадать ее скрытую природу, сравнивая литературу с другими видами искусства[60]. Скажем, персонажи «Пасторальной симфонии» Жида напомнили ему живопись братьев Ленен[61], «в которой всегда сохраняется аромат дома, частной жизни, драмы там полностью разыгрываются внутри, за неподвижностью верно и страстно выписанных лиц». Стихотворение графини де Ноай[62] вызывает у него в памяти картину Коро, баллада Гофмансталя – живопись Джованни Беллини. Дю Бос уподобляет последовательные касания Марселя Пруста «нестареющей эмали лучших работ Курбе» (точно так же, как сам Пруст уподобил кухарку Франсуазы аллегории «Милосердие» кисти Джотто), а творчество Уолтера Пейтера[63] сравнивает с «одним из соборов, в который входишь на закате дня, когда внутри уже никого нет». Короче, «Приближения» Шарля дю Боса – совсем как разговоры с людьми одной с ним высокой культуры, столь насыщенные аллюзиями и ассоциациями, как и те, что велись под грабами Понтиньи или вокруг стола на улице Бюде.
Он собирался также написать свою духовную автобиографию и назвать ее «Самонаблюдения» (подумывал, правда, и о другом названии – «Зондирования», но Жид вполне справедливо счел его «чересчур хирургическим»). Впрочем, из этой книги написана была всего одна глава.
III
«Обращение» Шарля дю Боса вызвало немало толков. Вообще-то, слово «обращение» здесь не совсем точное. Чарли родился в католической семье, но, как сказал Мориак, похоже, что его религиозная жизнь «страдала перебоями». И я сам был тому свидетелем.
Когда мы познакомились, шел 1922 год и религиозность Чарли носила скорее эстетический характер. Позже он описывал это так: «…едва ли не постоянный и почти противоестественный избыток религиозных чувств изливался на всякий вполне мирской объект». В течение долгого периода, с 1918-го по 1927-й, он воспринимал поэмы Китса, лирические излияния Ницше, романы Джордж Элиот как священные тексты. Поэты, музыканты и художники были для него святыми, в их честь он возводил в своем сознании часовни – и стены таких часовен, которых насчитывалось не меньше дюжины, украшал картинами Джорджоне, Боттичелли, Ватто, Ренуара… Вместе с Жан-Луи Водуайе они совершали паломничества в Лувр, и перед этим «он вводил себя в состояние благодати, как перед причастием», а стоя перед картиной, неизменно испытывал экстаз. Короче (кстати, Чарли сам часто использовал это слово, и друзья улыбались, слыша его: если сказано «короче» – значит жди припадка особенной говорливости)… короче, на целых девять лет дю Бос отошел от католицизма, прекратил соблюдать религиозные обряды или, во всяком случае, оставался по отношению к проблемам религии в неопределенно-подвешенном состоянии.