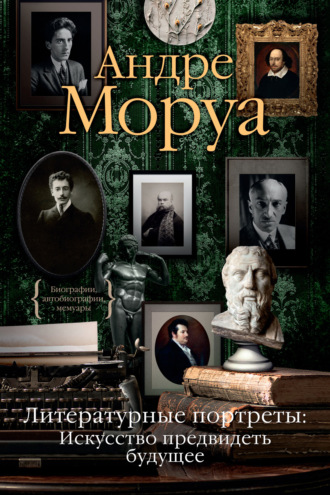
Андре Моруа
Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее
Тем не менее он продолжал работать. В ноябре 1933 года к нему на остров Святого Людовика, где он обосновался на улице Дё-Пон, приехала сестра М. Мадалена, руководившая колледжем Святой Марии в американском штате Индиана. В 1938 году она способствовала приглашению Чарли на работу в США, где он стал профессором католического университета Нотр-Дам-дю-Лак, расположенного по соседству с колледжем Святой Марии. Он прочел здесь курсы лекций о Паскале и Клоделе и провел четыре семинарских занятия, посвященных теме «Что такое литература?». Эти занятия легли в основу новой книги дю Боса – первой, написанной им на английском языке. В ней он утверждает, что всякое великое искусство есть преобразование, изменение. «Наедине с такими грандиозными художественными произведениями, всегда граничащими с чудом, я обращаюсь мыслью к браку в Кане Галилейской, к чуду превращения воды в вино», – и далее он цитировал слова Жубера: «Вольтер прозрачен, как вода, Боссюэ[82] прозрачен – как вино».
Но покуда он готовился к этим лекциям и семинарам, здоровье его все ухудшалось. Чарли тяжело пережил заключение Мюнхенского соглашения: Гитлера он презирал всегда, а предательство Англии и Франции, бросивших Чехословакию на растерзание фашистам, донельзя его возмутило. И как ни любили его американские студенты и коллеги-преподаватели, в 1939 году – когда возникла угроза войны – дю Бос решил вернуться в Париж, в свою квартиру на острове Святого Людовика. Друзья видели, насколько тяжело он болен, – «Чарли стал белым, как простыня, на которой он лежит» (писал Жан Мутон), – но все привыкли к тому, что, как бы скверно Чарли ни выглядел, дух его крепок, и нисколько не сомневались, что он доживет до глубокой старости. Да он и сам в это верил. Вопреки всему, каждый день он надевал красный бархатный халат, делавший его похожим на венецианского вельможу, усаживался в уголке, который называл «беседкой над водами», из-за открывающегося отсюда вида на Сену, набережные и мосты, и пытался заново пересмотреть и переоценить какую-то часть своей жизни. Поглаживая набитую английским табаком трубку и вдыхая аромат китайского чая, он говорил Жану Мутону: «Истинно великая жизнь – только в поражениях, истинно великая жизнь – только в страданиях».
Позже дю Бос перебрался в Ла-Сель-Сен-Клу, где у семьи его жены было поместье под названием «Долина лилий». «Это будет мое последнее пристанище, – сказал тогда Чарли. – Я чувствую себя таким усталым, что больше не хочу менять место жительства». Любая пища вызывала у него отвращение – от одного вида еды Шарля начинало тошнить, и все, что ему оставалось, – это только пить понемножку лимонную воду.
«Глаза его стали такими глубокими и выражали такую усталость… Его взгляд оставался на удивление ясным, но, для того чтобы вернуться к нам, ему всякий раз приходилось преодолевать зону мучительной пустоты… Чарли сильно похудел, сильно побледнел, прекрасный его голос, звучный и спокойный, в иные моменты начинал дрожать, и ему приходилось прибегать к скороговорке…»[83]
30 июня тромбом закупорило артерию, и дю Боса перестали слушаться руки и ноги. Чарли был еще жив, но, «казалось, лишился какой бы то ни было плотской субстанции». Теперь друзья понимали уже, что он скоро умрет. Шарль тоже это понимал и мечтал лишь встретить смерть в полном сознании. «Он хотел пережить свою смерть». Когда местный священник пришел соборовать умирающего, Чарли сам руководил обрядом, но, поскольку рука отказывала, он не мог совершить крестное знамение до конца, и жест его напоминал скорее благословляющий.
Затем начал терять голос, поэтому приходилось помогать ему закончить фразу. «Чарли всю жизнь любил отмерять продолжительность своей речи, и последнюю беседу с нами на этой земле он тоже хотел упорядочить». Он поцеловал каждого из друзей и прошептал: «Спасибо за все… Надо быть в высшей степени милосердным». Потом спокойно задремал и в полусне стал шепотом перечислять имена своих заступников: Блаженный Августин, Бах, Боттичелли, Китс и – снова и снова – Ницше. Сиделка спросила, не мучают ли его боли, и он ответил: «О нет, совсем нет, я диктую своей жене…»
Смерть дю Боса – одного из тех людей, которых я больше всего любил, одного из писателей, которыми я больше всего восхищался, – была такой же благородной и возвышенной, как его жизнь. Он часто огорчался из-за того, что не стал творцом. Скромность ввела его в заблуждение – он был творцом самого прекрасного из персонажей: он был творцом Чарли.
После того как он вернулся из Америки, мы не виделись – я в это время был в Перигоре, потом воевал[84], – так что одновременно узнал и о возвращении Чарли на родину, и о его смерти. Но в минуты восторга или печали мне всегда кажется, будто на меня обращен ласковый взгляд глубоких глаз Чарли, словно бы призывающий друга к такому же мужеству и такой же серьезности, какие были свойственны ему самому, и мне кажется, что я слышу, как он повторяет для одного меня дорогую сердцу Ницше Пифагорову заповедь: «Молчать и быть чистым».
Шарль Пеги
I
Шарль Пеги родился в Орлеане 7 января 1873 года. Он был сыном и внуком крестьян-виноградарей, «упорных и твердо стоявших на ногах предков, которые отвоевали у песков Луары столько арпанов[85] прекрасных виноградников». Их он описывал с особым удовольствием – мужчин, которые были «темны, как виноградная лоза, цепки, как усики лозы, тонки, как ее молодые побеги», и женщин, «что не расставались с вальками и ручными тележками, куда были сложены груды белья, которое они стирали в речке». Бабушка Пеги не умела читать, мать, Сесиль Кере, овдовевшая почти сразу после рождения сына, зарабатывала на жизнь плетением стульев, и Шарль очень гордился тем, как она здорово умела это делать.
Сесиль отдала сынишку в коммунальную школу, там способного мальчика заметил инспектор и разрешил участвовать в конкурсе на стипендию, позволившую продолжить обучение в Орлеанском лицее[86]. Когда Шарль стал бакалавром, лицей, в котором он учился – как то принято у такого рода заведений, – направил одного из лучших своих учеников в Париж. Здесь Пеги надеялся поступить в Эколь Нормаль, чтобы стать преподавателем, но провалился на экзамене и решил, не дожидаясь призыва, пойти в армию. Год военной службы, проведенный в казарме, повлиял на всю его дальнейшую жизнь. Другие хранят об армейской службе плохие воспоминания, а Шарль полюбил свой полк. Да и как могло быть иначе? Солдат – это хозяин, он наводит порядок в общей спальне, поддерживает порядок и чистоту во дворе казармы, а Пеги с самого детства видел, как наводят порядок на винограднике, в поле, в собственном доме, который непременно содержится в чистоте. Солдатское дело – поход, и Пеги был отличным ходоком, а ритмы строевых песен отразились впоследствии в ритмах его прозы. Солдат, наконец, призван сражаться, а у этого потомка воевавших крестьян, сделавших Францию Францией, у этого уроженца города Жанны д’Арк было сердце бойца, в котором жил бойцовский дух.
После годичной военной службы Шарль продолжил обучение в Париже – в коллеже Святой Варвары и в лицее Людовика Великого. «Мы, маленькая компания учеников школы Святой Варвары, в течение нескольких лет готовились к Эколь Нормаль, слушая лекции по риторике в стенах лицея Людовика Великого. Во времена нашей юности для тех, кто проходил в лицее дополнительный курс, специально предназначенный для поступления в Эколь Нормаль, существовало даже специальное словечко».
Братья Таро[87], с которыми Шарль познакомился в тот период, описывали его как краснолицего крестьянского парнишку, приземистого, крепкого, лишенного всякого внешнего изящества, но обладавшего таинственным даром – умением внушать к себе уважение. Откуда взялся этот дар? Частично Пеги обязан им зрелости: из всех учеников коллежа Святой Варвары он единственный успел послужить в армии. Но все-таки главное было не в этом, а в силе его духа. Пеги верил в свои идеи так, как может верить только человек из народа. Мальчишкой он пожирал книги Виктора Гюго, и Гюго сделал его республиканцем. В двадцать лет он стал социалистом, и социализм его, по словам Таро, «куда больше напоминал социализм Франциска Ассизского, чем социализм Карла Маркса». Он стал социалистом, потому что полюбил простой люд, с которым близко познакомился в Орлеане, на улице Бургундии.
Прогулки по Люксембургскому саду, чтение в галереях Одеона, утренники в «Комеди Франсез»… Провинциал был опьянен красотой Парижа: «Париж – памятник из памятников, город-памятник, столица-памятник… Для нас, французов, он самый французский из французских городов…» Поступив наконец-то в 1894 году в Эколь Нормаль («инкубатор для интеллектуалов»), он заполучил в учителя Бергсона, Андлера[88], Ромена Роллана… Он стал учеником Жореса[89], бывшего студента Эколь Нормаль, на тот момент – одного из самых активных деятелей французского социалистического движения. Время от времени Жорес возвращался в свою альма-матер, и именно от этого человека, политика по велению души, политика, назубок знавшего классиков, Пеги ожидал социализма своей мечты – то есть некоего мистического братства. Шарлю хотелось помочь учителю, и поскольку он не сомневался в своих силах, то решил создать газету. Будучи нищим студентом, без гроша в кармане, он приступил к сбору денег: нужно было собрать пятьсот тысяч франков.
«С точки зрения военной Эколь Нормаль в те времена была организована лучше некуда… В нужный момент из нас формировалась подвижная, ловкая, необыкновенно стойкая и решительная группа. Скорость, с какой мы умели мобилизоваться, была неслыханной: стоило каким-то уголкам Сорбонны подвергнуться угрозе – и в считаные минуты мы уже оказывались не на улице Ульм[90], а там… В дни, когда надо было сражаться, я становился военачальником… А поскольку способности человека не особенно зависят от обстоятельств, я был для этого гражданского воинства, в общем-то, ровно таким же командиром, каким на службе в армии, – иными словами, взвод мой действовал оптимальным образом».
Студент Пеги был из тех учеников, которые о каждом из педагогов имеют собственное мнение: одних он воспринимал с восторгом (как Бергсона), к другим относился иронически (например, к Лансону)[91]. «Я учился в Эколь Нормаль как раз в то время, когда Лансон пришел туда преподавать… Его стоило послушать… Все выходило очень складно. Он знал все. Все было ему известно. Если кто-то сочинил „Ифигению“, то только потому, что доводился внучатым племянником дяде того, кто в свое время сделал черновой набросок той же „Ифигении“… Все дело было то в авторах, то в актерах, все решалось то в газетах, то на подмостках. Сегодня виной всему был двор, завтра мог стать город… Дело дошло до развязки. Я имею в виду Корнеля… Лансон не придумал ничего лучшего, чем трактовать Корнеля, исходя из все тех же второстепенных обстоятельств… Почему-то приход Корнеля должен был отменить все, что ему предшествовало». Подобная суровость, строгое, но справедливое неприятие ложной образованности были важной составляющей мышления Пеги.
Студент Эколь Нормаль, он мог бы, став преподавателем французской словесности, сделать хорошую карьеру – жизнь его, казалось, была заранее предопределена и в точности соответствовала его детским мечтам. Но внезапно он решает бросить школу и переехать в Орлеан, чтобы попытаться написать там поэму о Жанне д’Арк. Он атеист, проповедующий идеи социализма. Откуда вдруг взялось такое решение? По словам Таро, Шарлем владели высокие чувства, и он признавался ему, что «эти чувства могли найти наиболее точное выражение в хорошо всем известном женском образе». Имелась в виду Орлеанская дева. Именно она – наделенная «простодушной отвагой», не признававшая никаких авторитетов, не отступавшая ни перед какими препятствиями и побеждавшая там, где терпели поражение великие полководцы, – была для Шарля Пеги образцом, которому надо следовать, когда вступаешь в любую битву, военную или гражданскую.
Пеги вернулся в Париж с толстенной рукописью в чемодане – и сразу же был захвачен делом Дрейфуса[92], показавшимся ему примером вечного противостояния мистики и политики. Мистик, полагал он, прямо связан с людьми и их делами, мистик вооружен любовью и верой, тогда как политик интересуется прежде всего последствиями и средствами. Политик-социалист на рубеже веков готовился к выборам, подсчитывая голоса и места в парламенте. Политик-антидрейфусар говорил: «Не имеет значения, виновен Дрейфус или невиновен. Незачем нарушать спокойную жизнь великого народа из-за одного невиновного». Но Пеги, по словам того же Таро, «не хотел, чтобы Франция утратила душу, принеся в жертву мирским благам невинного человека».
Что он мог сделать для дела – для двух главных своих дел: социализма и дрейфусарства? Он мог писать, мог вдохновлять на это своих друзей, мог публиковать написанное. Пеги арендует в Латинском квартале «угловую лавочку» (чрезвычайно гордясь тем, что лавочка именно на углу) и – по примеру Жанны д’Арк – бросается в бой. «Мы снова стали, – писал он, – горсткой французов, которая под непрерывным огнем поднимает массы, ведет на приступ, берет с бою позиции…» После четырехлетней борьбы дрейфусары действительно взяли позиции штурмом и победили, вот только те из них, что были мистиками, оказались разочарованы плодами победы. Восторжествовали дрейфусары-политики, это они теперь управляли и подвергали гонениям прежних соперников, ослабляя Францию своими гражданскими и религиозными распрями. Пеги равно не терпел антиклерикализма фанатиков и клерикализма антидрейфусаров. Скандальное дело о доносах в армии донельзя возмутило его. Дрейфусары-мистики уже пресытились своим триумфом[93].
В свежеприобретенной лавочке, которую Шарль Пеги приспособил под редакцию основанного им журнала «Кайе де ла кэнзэн»[94], он старался «сохранять по отношению к прежним друзьям тот же героический запал, а по отношению к трем главным целям, на защиту которых встал журнал, – дрейфусарство во всей его полноте, беспримесный социализм и высокая культура духа – сохранять страстную преданность, готовность к самопожертвованию и бдительность». Символом же того, от чего Пеги отрекался, стало последнее впечатление от Жореса. Шарль любил в Жоресе его свободную поэтическую натуру: «Мне повезло шагать рядом с Жоресом, цитировавшим, читавшим наизусть… Расина и Корнеля, Гюго и де Виньи, Ламартина и даже Вийона. Он знал все, что знали и мы, и знал очень многое из того, чего не знал никто…» Однако, когда Пеги виделся с Жоресом в последний раз, тот, основавший уже и возглавивший газету «Юманите» и близкую к власти левую партию, «готовился с головой уйти в политику. Он пребывал в глубочайшей печали. Он был свидетелем собственного упадка… Он бросал прощальный взгляд на страну подлинной дружбы».
Оставаться другом Пеги на самом деле было совсем не легко. Подобно Жанне д’Арк, он был вождем требовательным и властным. Издатель-художник, Пеги превратил свой журнал в шедевр полиграфического искусства, но сотрудникам и подписчикам спуску не давал. «Кто не со мной, тот против меня!» – провозглашал Шарль, и многие начинали этому сопротивляться. Он поссорился (правда, ненадолго) с Даниэлем Галеви, который снабжал «Кайе» отменными текстами, и с Жоржем Сорелем[95], которого перед тем долгое время называл «наш учитель Жорж Сорель». С братьями Таро, Жюльеном Бенда[96], Роменом Ролланом связь сохранилась, но и с ними постоянно возникали у него трения. Ромен Роллан (как писал Гийемен)[97] вспоминал отнюдь не о «мягком, жизнерадостном, спокойном, медлительном Пеги», а лишь о «его грубости, жестокости, лютой ненависти». Это было время споров, а то и пикировки Пеги с католиками и еще более серьезной – с подписчиками-антиклерикалами.
Кто же подписывался на возникший в период дела Дрейфуса «Кайе де ла кэнзэн»? То были университетские профессора, школьные учителя, люди преимущественно неверующие, которых неомистицизм Пеги удивлял, а порой и шокировал. Хотя объяснить его неомистицизм весьма просто: к 1908 году Шарль вернулся к католицизму своего детства, к орлеанским наставлениям о вере. Вернулся из любви к Жанне д’Арк, вернулся из любви к Франции, потому что жизнь Церкви представлялась ему теперь нерасторжимо связанной с жизнью страны. Пеги оказался в двусмысленном положении. Он состоял в гражданском браке, дети его не были крещеными – жена отказывалась их крестить, но, подобно Жанне д’Арк, он был почему-то совершенно уверен, что все уладит с Богом напрямую. Несколько раз он совершал трудное пешее паломничество в Шартр, чтобы попросить для своих детей попечительства у Девы Марии. Когда он выпустил в свет свое новое произведение «Мистерия о милосердной любви Жанны д’Арк»[98], образ «непокорной прихожанки» и мятежной святой многим католикам показался оскорбительным. «Что поделаешь? – говорил Пеги одному из братьев Таро. – Такая уж она была, Жанна д’Арк, предпочитала архангела Михаила аббату Константину».
Гийемен вспоминает и другого Пеги (потому что видел в нем одном «весь народ, целый лабиринт») – прекрасного отца, который обожал своих детей и был счастлив, когда его сын Марсель вышел на второе место в классе со своим переводом с древнегреческого. «Это доказывает, что я (в качестве педагога), может быть, не такой дурак, как говорят». Вот только благодушный отец семейства имел мало общего с разгневанным редактором «Кайе». Потому что Пеги, как уже было сказано, представлял собой целый народ – запутанный лабиринт. Это был католик, уважающий убежденных атеистов, если те проявляли милосердие; но также – Альцест[99], которого Сорель считал «полным хитрости и коварства»; мятежник 1902 года, которого в 1911-м его полковник хвалил за «в высшей степени почтительное отношение к начальству». Это был мятежник, хоть и подумывающий об Академии, но все-таки мятежник, и «порядочные люди», отрицавшие его дарование, пока он был жив, на его счет не заблуждались. А когда Пеги погиб на фронте, они его присвоили.
Почти в каждом выпуске своего журнала с 1905 по 1914 год он говорил о приближающейся войне, готовился к войне сам и готовил к ней других. Едва только Вильгельм II отплыл в Танжер[100], Пеги принялся проверять и пополнять свою экипировку, начищать до блеска армейские ботинки. Он не только не боялся войны, но почти желал ее. Война позволит ему стать тем, кто он есть: героем. Когда идешь на смерть, не остается ни конкурентов, ни протестующих подписчиков. «В один миг были искуплены двадцать лет писанины, марания бумаги». Он лейтенант, он командир взвода – и он чист, как прежде. «Ты их видишь, моих парней, – спрашивал он, – видишь их? С ними мы повторим 93-й»[101]. Шарль надеялся, что Франция выйдет из горнила испытаний более закаленной. История для него делилась на мелочные жалкие периоды и на эпохи, когда совершались великие дела. Ему казалось, что тем, кому выпало жить в один из периодов, не повезло. Когда Пеги призвали в армию, он заканчивал работу о Декарте (где доказывал, что в целом Декарт как сочинитель куда больше бергсонианец, чем картезианец). Он был готов. Он надел мундир, распрощался с друзьями и прибыл в 276-й пехотный полк, «276-й линейный», как Шарль часто называл его по старой памяти. Пятого сентября, накануне битвы на Марне, он был убит пулей в лоб, когда, встав в полный рост, кричал своим прижавшимся к земле людям: «Стреляйте! Стреляйте же, черт побери!..»
Когда-то Пеги написал: «Я отдам свою кровь такой же чистой, какой получил ее». Таковы корнелевские норма поведения и закон чести, таковы христианские норма поведения и закон чести. В 1914 году он пережил то, о чем всегда писал.
II
Беглый обзор жизни Шарля Пеги и позволяет выявить главные черты этого великого характера.
Прежде всего Пеги был представителем французского народа и обладал всеми достоинствами и недостатками, присущими французскому народу: трудолюбием, свойственным французскому рабочему, недоверчивостью, свойственной любому французу, и вечным беспокойным стремлением к равенству. Пеги-литератор трудился столь же усердно, как его дед-виноградарь и мать – плетельщица стульев. Он сплетал из слов фразы, а из фраз текст так же тщательно, как его мать сплетала прутья. Сколько раз он видел, как эта хозяйственная и деятельная женщина натирала шерстяной тряпкой мебель, пока та не начинала сиять, словно зеркало. «Ах, если бы я мог хоть когда-нибудь сочинять с тою же тщательностью, с какой протирают мебель: буфет, кровать… Если бы мне дана была живая, трудовая, рабочая уверенность в том, что ни в одном углублении, ни в одной щелочке тонко, как резной буфет, проработанной фразы, не осталось ни пылинки», – писал он.
В Орлеане Пеги застал кусочек старой Франции, он познакомился здесь с трудовым народом старой Франции – веселым, поющим народом. «В прежние времена стройплощадка была тем местом на земле, где люди счастливы, в наше время стройплощадка – то место на земле, где люди ругаются, отвечая обвинениями на обвинения противника, злятся друг на друга, дерутся и убивают друг друга». В те времена необычайно высоким было представление о трудовой чести. «Мы знали ту же рабочую честь, какая вела за собой руку и сердце в Средние века… Нам была знакома гордость отлично выполненной работой – законченной, тщательно отделанной, отвечавшей самым строгим требованиям. Все свое детство я видел, как плетут стулья – с тем же воодушевлением, с тем же усердием и с той же сноровкой, с какими тот же самый народ обтесывал камни, возводя соборы».
Пеги гордился – и весьма обоснованно гордился – тонкостью, умением соблюдать приличия, высокой культурой того народа, из которого он вышел…
Скромность, и честь, и смерть, как гравер,
Писали свою историю среди садов.
Позже мне довелось услышать почти те же слова от Эжена Даби, сына и внука рабочих. «Мой дедушка, – рассказывал Даби, – читал Виктора Гюго, Мишле, Кине[102]. А что читают рабочие сегодня, да и кто из нас хотя бы пытается в наше время писать книги, которые они могли бы и должны были бы читать?» Пеги страдал, видя, как социализм, в который он так верил, вырождается и превращается в библию отказа от труда. «Заметьте, ведь в глубине души ни один из рабочих не радуется тому, что можно ничего не делать, все они предпочли бы трудиться. Не зря же они принадлежат к этому трудолюбивому племени, они слышат зов своего племени… и в глубине души они себя ненавидят, когда крушат свои орудия производства. Но важные господа, ученые, представители буржуазии объясняют им, что это и есть социализм, что это и есть революция».
Его социализм был социализмом французским, социализмом Прудона, а никак не «догматическим, злобным социализмом Карла Маркса», который Шарль считал социализмом для важных господ, для буржуа с университетскими дипломами. «Будучи отроду человеком из народа, – говорил Пеги, – я особенно ненавижу тех, кто навязывает народу такой социализм». Ему были противны «демократичные, но строгие» пиджаки, в которые рядились видные социологи из Сорбонны. Он мог дружить с представителями буржуазии, почти все его друзья были выходцами из буржуазии, но в душе он не принимал, не понимал и не выносил буржуа – даже радикальных, даже объявляющих себя социалистами. Шарль мог уважать своих друзей и даже любить их, не переставая относиться к ним с подозрением, порой враждебно и даже агрессивно – с агрессивностью «плебея, переходящего в другой класс». Факт, что у Шарля Пеги, как и у многих французов, есть что-то от Жюльена Сореля.
Своих друзей из буржуазной среды он в благопристойной форме, но неприязненно и несправедливо упрекал в том, что они родились буржуа, – как будто они были в этом виноваты! «Не будем закрывать на это глаза, Галеви, мы принадлежим к разным классам, и вы должны со мной согласиться: в современном мире, где деньги решают все, это самая существенная разница, самая далекая дистанция, которая только может разделять людей. Как бы неприятно это вам ни было, как бы вы ни старались, сколько бы ни отгораживались от этого одеждой, бородой и тоном, что бы ни было у вас на уме и на сердце, как бы вы ни отрекались от этого, – все-таки вы родились в одной из самых знатных, самых древних, самых аристократических семей. И поскольку мы с вами уже договорились, что не льстим друг другу, добавлю, что вышли вы из высшего дворянства, разделяющего старые добрые традиции либеральной республиканской орлеанистской буржуазии. Традиции французской либеральной буржуазии».
Разумеется, в том, чтобы следовать старым республиканским и либеральным буржуазным традициям, нет ничего постыдного, совсем наоборот: и законы вежливости вполне позволяют напомнить другу, что он принадлежит к семье, которая соблюдает эти традиции. Но в самом стиле напоминания у Пеги сквозило что-то неприязненное, в самом его тоне звучала ощутимая горечь – надменное и воинственное смирение, стон раненого самолюбия, исцелить которое можно лишь уверенностью в том, что, когда дело доходит до латыни, греческого, философии и «всех остальных учебных дисциплин», он, Пеги, не уступает друзьям, а может, и превосходит их.
Он учился в Эколь Нормаль и знал наизусть все великие французские стихи, он обладал таким чувством языка и так владел словом, как может только человек, изучивший латынь, он тонко понимал крупнейших философов и относился к Декарту точно так же, как к Жанне д’Арк, – будто они его близкие знакомые, – и это было для него великим счастьем – счастьем законным, принадлежавшим ему по праву. Нет прозаика – кроме, разве что Монтеня и Рабле, – который так испещрял бы свои сочинения цитатами. Возможно, причины тут одни и те же, потому что Монтень и Рабле принадлежали эпохе, заново открывшей латынь и греческий и восхищенной своим открытием. Должно быть, нечто подобное случилось и с талантливым мальчиком Шарлем Пеги, когда он перешел из коммунальной школы в лицей.
Однако в сочинениях Пеги цитаты из Виктора Гюго и Корнеля встречаются даже чаще, чем латинские и греческие изречения. Этому отбросившему всякие условности книжнику очень нравилось подробно комментировать чужие тексты и отсылать к ним цитатами. Если речь заходит о Ватерлоо, он сразу же видит «равнину-усыпальницу», а при слове «бугор» тут же вспоминает: «…это довольно высокий бугор, существующий еще и теперь; за ним, в ложбине, расположилась гвардия»[103]. При слове «завтра» он с трудом может удержаться от восклицания: «О! Завтра – это нечто великое!» – и не процитировать затем всю строфу целиком[104]. Он цитирует даже песни, в особенности военные: «А вот генерал – весь в прошлом, весь разбитый, согнутый, кривоногий и одетый как пугало…» В этой страсти к цитатам, склонности к погружению в общеизвестный текст, свойственной всем французам, есть своя прекрасная сторона. Она объединяет нас всех в любви и в восхищении одним и тем же. Она питает наши мысли и украшает наши прогулки.
«Счастливы те, – говорил Пеги, – счастливы те двое друзей, которые так любят друг друга, так хотят нравиться друг другу, так знают друг друга, так согласны друг с другом во всем, так похожи друг на друга, настолько одинаково думают и чувствуют, настолько вместе внутренне, даже когда жизнь их разлучает, и настолько остаются самими собой, когда они рядом, чтобы (суметь) радоваться молчанию вместе…» Этот выходец из Эколь Нормаль оставался человеком земли, крестьянином. Он любил тексты, но терпеть не мог педантов, он любил уточнения, вводные слова, правильно поставленные запятые, но терпеть не мог каталожных карточек. Этот вид эрудиции, занесенный из иностранных университетов, его ужасал. Ни один человек на свете так не любил и не знал историю Франции, как любил и знал ее он. Но он не считал, что история – это только документы. На самом деле самые прекрасные исторические книги – Фукидида, Тацита – были написаны людьми, которые не пользовались архивами и не заводили картотек.
«Для древнего мира, – говорит его Клио, – мне не хватает ориентиров, для мира современного мне не хватает пробелов». Он выступил в поход против современных ему университетов. Его «Кайе» – это «поджигатель у стен Сорбонны»[105].
На беду своим оппонентам, Шарль Пеги был решительным и грозным полемистом. Ланглуа[106], влиятельный университетский профессор, изучавший эпоху Карла V, осмелился (под псевдонимом) сказать о Пеги, что тот грешит «бессвязным изложением без начала и конца» и проявляет «склонность к аллитерациям и литаниям, в которых заметны симптомы эхолалии[107], и к типографским ребячествам, хорошо знакомым любому психиатру». После двадцати страниц Пеги от Шарля Виктора Ланглуа осталось мокрое место, и Ланглуа тогда обвинил Шарля Пеги в нечистоплотности: якобы тот перешел в католичество, чтобы увеличить число своих подписчиков. «Ну что ж, по этому пункту я могу совершенно успокоить месье Ланглуа. Если бы месье Ланглуа хоть сколько-нибудь знал историю, он знал бы, что с тех пор, как стоит мир, католики никогда не поддерживали своих. Если бы католики поддерживали своих, Франция не оказалась бы в руках господ Ланглуа… Какая наглость со стороны человека, имеющего столько денег, сколько их есть у месье Ланглуа, обвинять в корыстолюбии человека, у которого их так мало, как у меня». Кроме всего прочего, месье Ланглуа тогда только что принял участие в «гротескной церемонии», устроенной в Сорбонне в честь пятидесятилетнего юбилея работы в Эколь Нормаль месье Лависса[108]. «…Чествовать приход месье Лависса в Эколь Нормаль – все равно что праздновать появление в доме могильщика. Такая несуразная идея не могла прийти ни в чью, кроме месье Ланглуа, голову, потому что даже для месье Ланглуа месье Лависс – вовсе не историк. И когда видишь, как церемонно и торжественно месье Ланглуа приветствует в Сорбонне месье Лависса, как он возвеличивает месье Лависса и возводит месье Лависса на престол, невольно задумываешься: а не может ли быть, что эти великие люди и изобретатели гениальных методов, эти самовластные гранды, не почитающие ни святых, ни героев, порой преклоняют колени перед мирской властью… Эти безупречные историки не желают, чтобы служили мессу, но охотно празднуют юбилей Лависса…» И далее следует убийственный вывод: «Обвинять меня в корысти и подписываться Понсом Домеласом, именуясь Шарлем Виктором Ланглуа, – не знаю, как такое называлось во времена Карла V, но знаю, что в наше время, время Пуанкаре[109], это называется трусостью и подлостью».
Сорбонна господина Ланглуа верила, что история пишется с помощью документов, а Пеги считал, что история пишется также вопреки документам. «Реальность – реально случившееся событие, то, что было на самом деле, – это некая розетка, цветы которой вылеплены в высшей степени тщательно. История – историческое событие – это гипсовая заплатка, нашлепка на месте разрушенной розетки». Вот почему настоящие историки, возможно, поэты. Бергсон сыграл в формировании Пеги такую громадную роль именно потому, что Бергсон был столько же поэтом, сколько философом, и тоже занимался в основном реальностью, а не строгой классификацией с карточками. Когда на философию Бергсона посыпались яростные нападки справа и слева, Пеги принял сторону своего учителя, и это было совершенно естественно.







