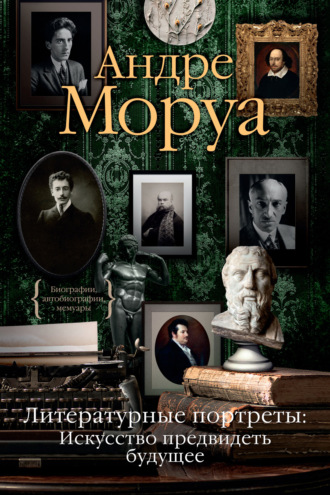
Андре Моруа
Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее
За редкими исключениями все друзья Роллана разделяли его «левые» взгляды. Им восхищались в Советской России. В Англии его друзьями были Бернард Шоу и Бертран Рассел, оба иногда навещали французского коллегу, обоим были понятны его ужас перед войной и желание преодолеть кастовые различия. А сам он, вопреки всему, оставался аристократом духа. Даже чисто внешне он выглядел аристократом, а его благовоспитанность и утонченность убеждали, что Роллан имеет полное на это право.
Несмотря на то что писатель принимал и революцию и желал ее, он опасался революционного безумия, массовой истерии и никогда не терял бдительности. Он знал, что толпа, вкусив крови, сходит с ума, и показал эту жажду убийства в «Четырнадцатом июля». Толпа убивает, затаптывает Оливье в «Жан-Кристофе», потому что человек человеку волк… Ну и что в таком случае делать? Если элита ограничится речами вроде речей Полония и заиграется в фривольные игры «Ярмарки на площади», если массы останутся невежественными и жестокими, если даже правосудие окажется склонным к несправедливости, на что можно надеяться? Разве нет повода впасть в самый черный пессимизм?
Ромен Роллан не пессимист и не оптимист. Как и дядюшка Готфрид, он полагает, что надо просто жить день за днем, стараясь усмирить собственные противоречия. Он отказывается примкнуть к какому бы то ни было лагерю, видя свою роль в том, чтобы сражаться с жестокостью и ненавистью как в среде друзей, так и находясь среди врагов. Кем он хочет быть? Моралистом в самом широком смысле этого понятия – то есть не тем, кто «читает мораль», и не тем, кто чеканит максимы, но писателем, который воспитывает души, помогая душе увидеть в себе самой зерно величия. А как он это делает? С помощью природы, искусства, красоты. «И вот в этом-то я и вижу свою противоположность Толстому: для меня главное значение имеет здоровая красота. Суть великого искусства – в гармонии, потому-то оно и дарит душе покой, здоровье, равновесие. Великое искусство обращается одновременно к чувствам и к разуму, потому что и чувство, и разум имеют право на радость».
Вот почему, рискуя остаться вне сегодняшней моды, я так привязан к Роллану. В лучших своих произведениях он истинно велик. Он ясно видит, что искусство возвращает нас к природе. Музыка, живопись, литература – инструменты, с помощью которых можно внести в мировой хаос доступную человеку гармонию. «Искусство – тень, которую человек отбрасывает на природу… Неисчислимые сокровища природы проходят у нас между пальцами. Ум человеческий пытается черпать воду решетом… Уму необходима была некая ложь, чтобы понять непостижимое; и так как он хотел в нее верить, то и поверил… Время от времени гений, соприкасаясь на миг с землей, замечает вдруг поток реальной жизни, выплескивающийся за рамки искусства»[172]. Случались моменты, когда Жан-Кристоф, очарованный красотой сущего, пытался распрощаться с искусством. Порой и сам Ромен Роллан при виде того или иного пейзажа ощущал нечто, превосходящее понимание человека. Но точно так же, как его герой, он всегда возвращался к своему искусству, потому что был человеком и потому что именно через искусство глубже постигал природу.
«О музыка, мой старый друг, ты лучше меня! Я неблагодарный, я гоню тебя прочь. Но ты, ты не покидаешь меня, тебя не отталкивают мои капризы. Прости, ведь ты прекрасно знаешь: это только блажь. Я никогда не изменял тебе, ты никогда не изменяла мне, мы уверены друг в друге. Мы уйдем вместе, моя подруга. Оставайся со мной до конца!»[173]
V
Прожив двадцать шесть лет в Швейцарии, Ромен Роллан купил дом во Франции в месте, притягивающем к себе любого паломника, – в Везеле[174], и приобретенное им жилище было достойно этого крестоносца. Но едва он обосновался в новом доме, едва приступил к работе над «Робеспьером», как грянул гром – было заключено Мюнхенское соглашение[175]. Год спустя, в сентябре 1939 года, Роллан отправляет тогдашнему премьер-министру Эдуарду Даладье[176] письмо с заверениями в полной преданности делу демократии. Поскольку речь идет о защите дела столь же благородного, как было при Вальми, он делает свой выбор. С террасы своего дома в Везеле он видит равнину, где когда-то проповедовал святой Бернард[177] и где сейчас, «вздымая светящуюся под солнцем пыль, двигались войска». А над войсками, в чистом летнем небе, щедро расточала боттичеллиевскую благодать – и собственную ложь – Лилюли.
Он советовал молодым людям, чтобы те не дали себя запугать видимостью несчастья. «Подобное испытание должно быть спасительным для крепкой породы. И я вижу, как после поражения, с самого его дна, встанет поздоровевшая и помолодевшая Франция – если, конечно, она этого захочет. Я верю в будущее своей страны и всего мира… и я прощаюсь с ними в самом разгаре войны со спокойным сердцем и духом, закалившимся в этом землетрясении. Я возвращаюсь, как Кандид, в свой сад, в свой сад без границ»[178].
Жизнь Ромена Роллана завершалась, как бетховенская симфония, многократным повтором утверждения – идеального аккорда.
Кристоф перешел реку. «Всю ночь он шел против течения… Те, кто видел, как он отправлялся в путь, говорили, что он не дойдет. И еще долго его преследовали колкости и смех… Теперь Кристоф уже слишком далеко, чтобы до него донеслись крики оставшихся на берегу… Кристоф, едва не падая, достигает наконец берега. И говорит младенцу, которого несет на плече:
– Вот мы и пришли! Какой же ты тяжелый! Кто ты, дитя?
И дитя говорит:
– Я – грядущий день»[179].
Оптимистичный финал? Вовсе нет. Потому что грядущего дня ни Кристоф, ни Роллан не увидят. Да и будет он таким же суровым, как день прошедший. Но работа от зари до зари окончена. Дело сделано. И вот уже младенец на берегу. Ваша очередь, молодые люди!
Жан Жироду
В плеяде нашего поколения Жироду был звездой первой величины. Было время, когда нас завораживали спектакли, в которых играли Жуве, Ренуар, Валентина Тесье[180]. К тому же пьесы Жироду успокаивали нашу совесть – мы себя чувствовали честными людьми и гордились собой, восхищаясь великим писателем и достойными его актерами. Теперь пылкость нашего поклонения поставлена под сомнение. Отсверкавшие словесные фейерверки представляются суровым судьям не более чем золой и погасшими угольями. Однако я только что перечитал всего Жироду, прозу и драматургию, и, если мне и случалось чувствовать утомление от его блестящих и поверхностных приемов изложения, все же он заново покорил меня, и я не изменил к нему отношения. За играми и шутками я разглядел чистоту, благородство и любовь к той Франции, которая и есть истинная Франция, к тому человеку, который и есть настоящий человек. Не все творения Жироду останутся в веках (что можно сказать о любом писателе), но уцелеют несколько дивных страниц, несколько безупречных монологов, несколько фраз, обогативших звучание нашей речи. Тот Жироду, которого я знал и, как живого, вижу сейчас перед собой – улыбчивый и серьезный, насмешливый и строгий, дипломатичный и богемный, – продолжает жить в своих эссе, в «Белле», в «Интермеццо». Пока во Франции будут существовать маленькие городки, жить мелкие служащие, юные девушки и белочки, пока в ней живо воспоминание о Лафонтене, сохранится в ней и незримое присутствие Жироду.
I
«БЕЛЛАК, главный город округа (Верхняя Вьенна); 4600 жителей. Дубильное производство. Родина Жана Жироду». Вот что можно прочесть сегодня в «Малом Ларуссе»[181] – и от чего Жироду пришел бы в восторг. Беллак на всю жизнь остался его излюбленным мифом – воплощением провинциальной Франции. В маленьком городке, где его отец служил инженером в Управлении мостов и дорог, он познакомился с контролером Палаты мер и весов, инспектором учебного округа, учительницей, сделав их персонажами французской действительности. Благодаря ему не только Беллак, но и все расположенные по соседству с ним городки Лимузена – Бессин, Сен-Сюльпис-Лорьер, Шато-Понсак – овеяны поэтической дымкой (как Шато-Тьерри – благодаря Лафонтену, как Ферте-Милон – благодаря Расину). Если в его романе встречается невинная девушка, то это всегда девушка из Беллака. «В представлении его боливийских или австралийских читателей у Франции есть свой Байройт[182] – это Беллак»[183].
Скитания по «городишкам и кантонам», которые выпали на долю Жана Жироду из-за перемещений по службе его отца Леже Жироду, – самый верный путь познания французской жизни. Вместо столбовой дороги, вместо движения по «излюбленному маршруту римских легионеров и честолюбивых служащих: «Бордо – Ангулем – Париж», ему пришлось следовать «лимфатическими» путями через кантоны и супрефектуры, путями, «куда более плодотворными для национального самоосознания». Поэтическая образность «Интермеццо», немыслимая и непонятная в любой другой стране, берет свое начало в этом провинциальном детстве.
Всю свою жизнь Жироду будет воспевать и защищать супрефектуры и окружные суды, будет любить эти дома с обширными садами в самом центре города, с непременным раскидистым кедром, – поскольку супрефектуры и суды были учреждены в то время, когда Жюсье привез из Ливана свой кедр. Если бы супрефектуры упразднили (что всякий раз откладывалось), настал бы конец соседству и «ночному противостоянию в каждом маленьком городишке суда, церкви и тюрьмы, в которой ночевал один-единственный узник, столь же необходимый, сколь необходим праведнику один-единственный грех. Рассеялось бы скопление прокуроров, судебных исполнителей и секретарей по общим вопросам управления, поддерживавших своими заказами достоинство портняжных и шляпных мастерских. И тогда во всех маленьких французских городках богатые бакалейщицы выходили бы замуж лишь за богатых сапожников…» Несмотря на ласково-насмешливый тон, следует все же принимать всерьез любовь Жироду к тому гармоничному контрапункту нашей цивилизации, благодаря которому корсиканские судьи оказываются в Лилле, а пикардийцев отправляют в Марсель.
В маленьком городке каждый житель знает всех. Аптекарша пленяет и удивляет, жандармский унтер-офицер становится другом, а ребенок доверчиво учится жить. Прямо за городскими воротами начинаются деревня, лимузенская или беррийская природа, поля, где «под листьями топинамбура прячется куропатка, а в овсах – заяц». Вот что еще сближает Жироду с Лафонтеном: он любит и знает животных. О своих родителях он рассказывал мало. Мы только догадываемся, читая «Симона патетического»[184], что при взгляде на красивого и умного малыша у них возникали честолюбивые помыслы чисто французского толка: «Тебя, Симон, незачем побуждать трудиться. Или ты будешь работать, или останешься без хлеба… Смотри на меня, Симон, отложи орехи… Ты на удивление удачно вступаешь в борьбу… Никакой обузы; я – вся твоя семья… Со своим именем ты можешь делать все, что угодно, оно нетронутое… Поздравь себя с тем, что обладаешь такими преимуществами, и положи яблоко… Не думай, что ты кому бы то ни было чем-то обязан, раз получаешь стипендию… Ты не для того ходишь в лицей, чтобы заменять привратника». Мальчик это знал: он поступил в лицей для того, чтобы получить прекрасное образование и впоследствии стать префектом или министром. «Каждый вечер тверди себе, что хочешь стать президентом республики. Способ достичь этого прост: тебе достаточно быть во всем первым, – до сих пор это тебе вполне удавалось».
И в самом деле, в лицее Шатору, ныне носящем его имя, он был первым учеником. Был не только круглым отличником благодаря знанию классиков – он выделялся и характером, гордостью, независимым умом. «Я был почтителен без покорности, усерден без рвения. У меня был крупный, четкий почерк, тетради с двойными полями». Учителя его уважали. Он же был обязан им «свободной жизнью, не знающей границ душой. Благодаря им при виде горбуна я вспоминал Терсита[185], при виде сморщенной старухи – Гекубу[186]. Я знал слишком многих героев, для меня не могло существовать других красоты и уродства, кроме героических… Я верил – и сейчас верю – в ивы, арфы и лавры. Я, как и все мои одноклассники, доверял гению… Провинция презирает все, что не выходит за рамки таланта. Но мы знали наизусть все стихи, все великолепные ответы».
Став писателем, он не утратит благородного школярства. За поворотом каждой из его фраз искушенный читатель уловит намек на какую-нибудь известную цитату и разглядит быстро промелькнувшую на огромной высоте тень великого человека. В «Эльпеноре» он будет подражать Гомеру, переделав его по-своему. Он всегда с удовольствием будет говорить о писателях, которыми восхищается: Расине, Нервале, Лафонтене. Он был не только первым учеником по французскому, греческому и латинскому языкам и истории, он был первым и в беге. Совершенный юноша должен быть совершенен телом и душой. С равной легкостью он преодолевал барьеры во время бега с препятствиями на сто десять метров и сдавал экзамены. По приглашению директора парижского лицея он в 1900 году впервые приехал в Париж. В выпускном классе лицея Лаканаля он слушал лекции Шарля Андлера[187], переводчика и комментатора Ницше, прекрасного преподавателя, пробудившего в нем интерес к немецкой литературе (к «Зигфриду», «Ундине»), затем поступил в Эколь Нормаль. Он полюбил Париж, являющийся центром притяжения всей провинциальной Франции.
Вот «Молитва на Эйфелевой башне»: «У меня перед глазами пять тысяч гектаров мира, на которых более всего было помыслено, более всего сказано, более всего написано. Самый свободный, самый утонченный и самый нелицемерный перекресток планеты… Вот гектар, на котором приобрели больше всего морщин у глаз, всматриваясь в полотна Ватто. Вот гектар, на котором чаще всего выступали венозные узлы у тех, кто бегом относил на почту посылки с книгами Корнеля, Расина и Гюго… Вот квадратный дециметр, на который в день смерти Мольера пролилась его кровь». В этих строках, как и в сотнях других строк Жироду, сквозит огромная гордость, почти физически ощутимая любовь к Франции, к ее литературе и искусству. Эта любовь у Жироду не имела ничего общего со злобным шовинизмом (Кто и когда лучше говорил о великих немцах? О великих американцах? Кто более сурово обличал длинные ура-патриотические и воинственные речи Ребандара?), эта любовь напоминала простодушную радость девушки, которой повезло родиться красивой. Какое счастье принадлежать Франции – и быть французом – и быть Жироду!
Ведь стремление к совершенству не покинуло его и на новом месте. Он стал первым в Париже, как был первым в Беллаке, как был первым в Шатору. В 1905 году он закончил Эколь Нормаль лучшим в своем выпуске и был счастлив, что он «один из тысячи французов, обеспечивающих связь между классическими авторами и повседневными переживаниями». Но вместо того чтобы стать преподавателем, он согласился занять место домашнего учителя в немецкой княжеской семье Сакс-Майнинген, после чего, объехав всю Европу, перебрался в Америку, где преподавал французский язык в Гарвардском университете. Странный космополитический маршрут для француза, так прочно укорененного на родной почве. Вернувшись во Францию, он стал секретарем влиятельного мерзавца, главного редактора «Матен» Мориса Бюно-Варийя[188]. В этой газете он вел литературную страницу, благодаря чему начал писать сам и вошел в литературные круги. Он стал завсегдатаем кафе Vachette[189], где подружился с молодым издателем Бернаром Грассе[190]. Человек смелый и обладающий вкусом, тот в 1909 году выпустил первую книгу Жироду «Провинциалки», а в 1911-м – «Школу равнодушных». Так появился новый писатель. Жид написал о нем статью примерно тогда же, когда Баррес открыл публике Мориака. Еще одно поколение достигло литературного совершеннолетия.
Сдав экзамены (блестяще, конечно же) и получив ученую степень лиценциата и право преподавать немецкий язык, Жироду тем не менее избрал другую карьеру – дипломатическую. В 1910 году, без труда пройдя конкурс, он начал работать в Министерстве иностранных дел в должности вице-консула. Секретариатом министра в то время руководил Филипп Бертело[191], человек поистине выдающийся, образованный, склонный к парадоксам, обаятельный игрок. Прочитанная в «Меркюр де Франс» фраза Жироду – «Прошла лошадь, а за ней, преисполнившись надежды, двинулись куры» – позабавила Бертело, и он пригласил ее автора в свой кабинет. Молодой вице-консул – элегантный без щегольства, гордый без заносчивости, красивый без пошлости – понравился начальнику, и тот взял его под свое крыло, как позже возьмет Клоделя, Морана и Леже[192]. Однако август 1914 года сделал из поэта сержанта.
Но этот сержант и на войне останется поэтом и вернется с нее с несколькими прекрасными книгами («Круг чтения для тени», «Восхитительная Клио»). Жироду, обладавший, как и полагается такому человеку, непоказным мужеством и превосходным чувством юмора, сделавшись офицером, стал также первым писателем, получившим военные награды. Война (которую он ненавидел) дала ему благодаря некоторым своим побочным особенностям возможность по-новому взглянуть на французов. Пехотный полк – все равно что деревня, где знаешь всех по именам, знаешь, у кого какие привычки. После двух ранений – на Эне и у Дарданелл – лейтенант Жироду по ходатайству Бертело, желавшего спасти от нелепой гибели этот превосходный ум, был послан военным инструктором сначала в Португалию, а затем в Соединенные Штаты (отсюда его «День в Португалии» и «Arnica America»). Закончив таким образом Великую войну на «отлично», он с наступлением мира вернулся на набережную Орсе, где его высказывания, его талант и расположение великого человека способствовали его назначению на должность в Управлении по осуществлению культурной деятельности за рубежом, которое он впоследствии возглавит. Жироду женился, у него родился сын Жан-Пьер, а в 1921 году он выпустил прекрасный роман «Сюзанна и Тихий океан».
Вот тогда я и узнал его – с его открытым взглядом за стеклами очков в роговой оправе, с его обаятельным обхождением и воздушной легкостью речи, – он говорил в свойственной ему одному манере, «на языке Жироду». Я и раньше восхищался его стилем, а после того, как его начальник Филипп Бертело впал в немилость у Пуанкаре, смог оценить и его характер. В жестком романе «Белла»[193] Жироду изобразил их обоих. Его книги приобрели особую весомость, когда он ввел в них историю и возбуждаемые ею страсти. Для того чтобы у него появились свои читатели, ценящие глубину понимания и поэтичность, достаточно было «Эглантины», «Жерома Бардини», «Битвы с ангелом» и «Выбора избранниц», но круг этих читателей оставался узок. Остальным Жироду представлялся трудным автором, пестрота картин слепила слабые глаза. Благодаря встрече с Жуве он стал драматургом, сделался кумиром молодежи, обрел мировую славу.
«Актер, – пишет Жироду, – не только исполнитель, он еще и вдохновитель». Такой актер-режиссер, как Жуве, хорошо знающий и чувствующий театр, становится для поэта советчиком. Но и автор, когда он привыкает работать с труппой (как было у Шекспира и Мольера), настолько сближается со своими актерами, что его персонажи естественно вписываются в эту живую среду. И тогда драматург, по словам Жироду, осознает свою первейшую миссию: быть постоянным поставщиком материала для театральной труппы, следовать за ней во время гастролей и выполнять заказы актеров. «Выбирая между Анри Беком[194] и Лопе де Вега, следует признать правым не Анри Бека, написавшего две или три пьесы, но Лопе де Вега, написавшего их три тысячи: в восемьдесят лет, облаченный во власяницу, он еще умудрялся за утро написать пару актов и полить свой сад, а за оставшееся время сочинить кантату для актера с хорошим голосом».
Об этом театре, не похожем ни на какой другой, разве что, может быть, на театр Аристофана, и вместе с театром Клоделя вернувшем на сцену стиль, мы поговорим позже. В тридцатые годы театр занимал главное место в творчестве Жироду. Дипломатическая карьера шла параллельно. Побыв в Министерстве иностранных дел руководителем информационной службы и управления печати, Жироду, провинившийся тем, что написал «Беллу» был задвинут на бесперспективную должность в Союзной комиссии по репарациям в Турции. После смерти Пуанкаре, начиная с 1934 года он снова в разъездах: назначение «инспектором дипломатических представительств» позволило ему красоваться на самых отдаленных островах в белых одеждах, в ореоле чистоты и порядочности. Однако безупречный гражданин страдал оттого, что жил в несовершенной Франции. Он сознавал разлад между Францией, распорядительницей светских церемоний, – и французом, мелочным и брюзгливым типом; между Францией, воплощением незыблемой стабильности, – и непостоянным, без царя в голове французом; между добросовестной труженицей Францией – и изворотливым французом. В политической книге «Полнота власти» он высказывает пожелание, чтобы каждый француз соответствовал Франции.
Шел 1938 год. Место Германии Гёте, Германии Сакс-Мейнингена заняла гитлеровская Германия. Когда началась война, Даладье пришло в голову сделать Жироду комиссаром по информации. Великому писателю, осуждавшему воинственные речи Ребандара, поручалась военная пропаганда. Жироду отделался от этого поручения с помощью юмора. Высшему чину, свысока обратившемуся к нему с вопросом о том, что французское Воображение намерено противопоставить немецкой Пропаганде, он ответил: «Великого Кира»[195].
В то время я несколько недель провел рядом с ним и смог убедиться в том, насколько он безупречно честен и насколько ненавидит ложь. Когда я уходил в армию, он сказал мне: «Я вам завидую». После июньского разгрома 1940 года он выпустил книгу «Без власти», где выступал против мобилизации, напоминавшей отъезд эмигрантов, изобличал армию, превратившуюся в гарнизон. После этого он жил в уединении, не теряя веры. Он знал, что впавшая в беспамятство родина в один прекрасный день очнется. Потом он внезапно умер в 1944 году. Причина смерти неизвестна. Некоторые говорили об отравлении, и в те темные времена возможно было все. «Если я в чем-то и уверен, – писал он когда-то, – то лишь в том, что, когда настанет мой черед, из меня получится прекрасная тень… Потому что я буду добросовестным». И Симон никогда не был настолько патетичен.
II
Говоря о писателе, французский критик обычно старается определить его происхождение. Тибоде выделял потомство виконта (Шатобриан) и потомство лейтенанта (Стендаль). Жироду не принадлежал ни к той ни к другой ветви. Кое-кто видел в нем реставратора прециозной литературы XVII века, то есть разновидности риторики, стилистическим изыскам придающей большее значение, чем смыслу. Но для Жироду, напротив, смысл имел первостепенное значение. Некоторые вспоминали барокко «с его жирандолями, свисающими посреди романа, подобно люстрам Кристиана Берара в декорациях „Школы жен“» (Крис Маркер)[196]; другим приходили на память «риторики» XV и XVI веков; наконец, наиболее образованные уловили некие отголоски Средневековья. «Имя Симона произносят столь же патетически, как имя Персеваля», – пишет Тибоде. Что верно, то верно – Жироду, подобно поэтам Средневековья, ищет в самых обычных вещах суть нашей жизни и, подобно им, любит перечисления и даже аллегории.
Но для того чтобы выявить происхождение автора, лучше всего обратиться к нему самому. Он сам лучше других знает, кем были те учителя, которые вдохновляли его, помогали ему раскрыться. Я не вижу, чтобы Жироду где-то много говорил о риториках или о представителях прециозной литературы. А то, что он вскормлен греческими трагиками и Гомером, что он «испытывал потребность править свою любовь к жизни на этих вечных точильных камнях», – видно сразу. И также очевидна его глубокая и неизменная привязанность к Расину и Лафонтену. Разве мог он не почувствовать своего родства с Расином, который в молодости утратил всякую связь с жизнью, целиком отдавшись учебе и ее радостям? Лицеист Жироду прекрасно понимал Расина в Пор-Рояле[197]. «У Расина нет ни одного чувства, которое не было бы литературным чувством. Красивый, рассудительный и элегантный, он блестяще прошел вслед за Софоклом и Гёте призывную комиссию в ряды великих писателей». Когда читаешь эссе о Расине, так и кажется, будто это мемуары Жироду, и ощущение это не исчезает вплоть до последней прекрасной фразы: «Судьба не прочь, грубо отняв у великого человека возможность творить, в последние несколько недель поманить ее возвращением».
Жироду посвятил пять лекций пяти искушениям Лафонтена, потому что испытывал потребность объяснить французский характер вообще – а заодно, таким окольным путем, и собственный. Потому что в каждом французе, помимо Жака-простака и мсье Прюдома[198], помимо озабоченности и самомнения, есть также все задатки, чтобы породить то чудо беспечности и ту невероятную свободу, какие воплотились в Лафонтене. Его жизнь чиста, как родниковая вода. Тема лекций: способы защиты Лафонтена от искушений блестящей цивилизации, пытавшейся использовать его простодушие для того, чтобы опорочить его вместе со всем человечеством. Что это за пять искушений? Буржуазная жизнь, женщины, свет, литература и философия скептицизма. Жироду встретился с теми же искушениями, что и Лафонтен, и частично уберегся от них, но все же не так успешно, как его герой, и, несомненно, в меньшей степени, чем ему того хотелось.
Первое искушение: буржуазная жизнь. Лафонтену нимало не было свойственно оказывать яростное сопротивление буржуазному миру. Сын главного лесничего Шампани, сам ставший лесничим и рано женившийся, на первый взгляд ничем не походил на мятежника. «Не говоря уж о том, что должность хорошо оплачивалась, а у жены было хорошее приданое». Лафонтен нашел способ отвлечься от этих провинциальных радостей – способ, доставлявший ему физическое наслаждение. Он любил одиночество и сон. Но и Жироду, куда более прочно вписанный в иерархию, все же находит лазейку: ускользает в вымысел – а то и попросту сбегает. Исчезновения Жерома Бардини[199] походят на признания. У меня на глазах Жироду, которого Эррио[200] (в то время премьер-министр) привез на международную конференцию, исчез в первый же день и появился снова лишь в последний. «Жироду, вас совершенно невозможно удержать», – говорил ему Эррио. Да, его, словно лафонтеновского волка, удержать было невозможно. Он не терпел ошейников.
Второе искушение: женщины. Опрятный, нарядный, элегантный, как и Жироду, всегда хорошо одетый, Лафонтен душевной чистотой не отличался. Маленький Расин таскал в карманах Софокла и Еврипида, Лафонтен – Рабле и Боккаччо. Лафонтен непостоянен. Он приходит в восторг, обнаружив существование промежуточной разновидности между лживыми болтуньями, которых он вывел в сказках, и выдуманными безупречными женщинами, которых описал в «Адонисе», – это светские женщины, неискренние, но красивые и остроумные: мадам д’Юксель, мадам де Севинье, мадемуазель де Скюдери[201]. «Должно быть, этот рассеянный чудак, говоривший о гнездах, росе и люцерне, нравился женщинам», – пишет Фарг[202]. Однако взаимная склонность между Лафонтеном и светскими женщинами никогда не заходила дальше «торжества аллегории дружбы». Что же до всего остального, по его словам, он довольствовался цыганками и местными красотками, которых встречал в поездках; подобных красоток было немало в Пуатье и даже в Беллаке.
Третье искушение: свет. Лафонтен, как и Жироду, подвергся этому искушению. Для одного это была Академия, для другого – дипломатическая карьера. Но и тот, и другой среди светских людей остались свободными. Лафонтен защищал впавшего в немилость Фуке[203], как Жироду – опального Бертело, и даже написал «Зачумленных зверей», жестокую сатиру на придворных. Расин и Буало соглашались восхвалять Людовика XIV, но ни Лабрюйер[204], ни Лафонтен на это не шли. Жироду тоже старался воспевать Францию, но без Ребандара.
Литературное искушение: Лафонтен, как и все поэты его времени, сочинил несколько героических од, но рассеянность и непоследовательность увлекли его в сторону ничтожной, казалось бы, Музы, вдохновившей его на создание шедевров – его басен; точно так же как автор «Полноты власти» остается главным образом автором «Интермеццо» и «Ундины».
И наконец, искушение скептицизмом и религией. После семидесяти четырех лет атеизма Лафонтен покаялся и попросил прощения у викария Сен-Рока и у «господ из Французской академии» за то, что сочинил когда-то книгу фривольных сказок. Жироду редко говорил о Боге. Возможно, он был вольтерьянцем. «Так ли Богу необходимо, чтобы мы о нем говорили? Писателю достаточно воспевать деревья, цветы и душевную радость, но не в связи с Богом, потому что он не для себя все это создал, а в связи с человеком». В «Битве с ангелом» Броссар, в котором легко узнать Аристида Бриана[205], говорит: «Ни в малейшей степени не атеист. Жизнь – чудовищное вырождение… Применять к Богу это определение существования настолько же кощунственно и ложно, насколько создавать Бога по собственному образу и подобию. Существование Бога и белая борода Бога хранятся на одном и том же складе бутафории». Все, что боги могут сделать для людей, – это не вмешиваться в их жизнь, не мутить воду. «Сохранить душевную чистоту в общении с Богом могут только те, кто не задает ему никаких вопросов».
В сочинениях Жироду нет никаких метафизических посланий. Если он и хочет нас чему-то научить, если и есть у него идеи, которые он защищает, то они связаны с земной жизнью, с провинцией, с влюбленными парами, с детьми, с фантастическим вымыслом. Его романы невозможно пересказать. Краткое изложение убило бы их. Это не повествование, а поэтические и юмористические вариации на темы, круг которых будет расширяться. Он не только не пытается быть реалистом, но намеренно создает совершенно ирреальные миры. Речь идет скорее не о традиционных романах – особенно в той группе произведений, которые можно было бы объединить вокруг «Симона», – но о фантастических балетах, где по воле автора равноправно оживают провинция и Париж, исторические герои и обычные люди. Жироду, как и Жюль Ренар, останавливается на забавных подробностях, но, если Ренар безжалостно подчеркивает шутовство своих персонажей, Жироду охотно наделяет своих героев величием и красотой.
И он рассказывает о них с юмором. Даже когда Жироду пишет о войне, тон рассказа остается мужественным и вместе с тем непринужденным. «Меня вызывает лейтенант. Я привык к офицерским прихотям. Вас внезапно может выдернуть из казармы незнакомый капитан, пожелавший узнать расписание пассажирских судов, идущих в Китай с заходом в порты наибольшего числа островов, или узнать программу экзаменов на степень доктора права». Капрал-связист читает маленькие книжки, которыми сержант Жироду немедленно завладевает всякий раз, как только обрыв линии вынуждает того отлучиться. «Он буквально проглатывает книги, и я никогда второй раз не нахожу у него ту же самую». Иногда товарищ спрашивает его: «Что ты читаешь?» – «Сердце на ладони». – «А теперь что читаешь?» – «Жерминаль»[206]. Ему сообщают, что на центральной станции около вишни линия оборвалась. Он уходит, а мне достается «Печаль египетских танцовщиц». Между этими сценами гибнут люди, но комедия остается комедией.







