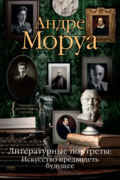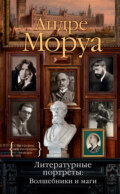Андре Моруа
Прометей, или Жизнь Бальзака
По вечерам он играл в бостон или вист с бабулей; с годами характер у нее смягчился, она питала слабость к внуку и порою умышленно проигрывала ему небольшие суммы, которые он употреблял на покупку книг. Оноре все больше увлекался чтением, ему нравились трудные, редкие, необычные книги; в нем, казалось, без всяких оснований крепли честолюбивые надежды, он не сомневался, что его ожидает слава, богатство и любовь. Если верить свидетельству его сестры Лоры, Бальзак, несмотря на вечное безденежье, с юности пользовался успехом у женщин. «Он хотел нравиться и вскоре стал героем весьма пикантных приключений; они еще слишком живы у многих в памяти, и я не решаюсь о них рассказывать. Могу только заверить, что, пожалуй, ни один мужчина не имел бо́льших оснований уже на заре своей жизни сделаться фатом». И затем Лора Сюрвиль вспоминает о том, как Оноре выиграл пари, заключенное с бабушкой, добившись благосклонности одной из самых хорошеньких женщин Парижа, имя которой госпожа Саламбье необдуманно назвала, будучи уверена, что тут уж она никак не проиграет ста экю, служивших ставкой в споре. Однако Оноре выиграл, выиграл – несмотря на вечно растрепанные волосы и большой рот с уже выщербленными зубами: пылкое красноречие, красивые глаза, в которых сверкал ум, а быть может, также и молодость принесли ему победу. Бабуля отнюдь не была ханжой, и надо признаться, что в этом «небесном семействе» играли в довольно странные игры.
IV. Ученические годы гения
Как и Мольер, он хотел сначала сделаться глубоким философом, а уж потом писать комедии.
Бальзак
Тысяча восемьсот девятнадцатый год внес большие перемены в жизнь семейства Бальзак. Граф Дежан, начальник Бернара-Франсуа, неожиданно предложил своему подчиненному, которому исполнилось семьдесят три года, подать в отставку. Старик терял внушительное жалованье – семь тысяч восемьсот франков в год; и, несмотря на все его попытки добиться увеличения пенсии, на просьбу принять во внимание его прежнюю службу в качестве секретаря Королевского совета, размер годового пенсиона был определен ему всего лишь в тысячу шестьсот девяносто пять франков. К этой скромной сумме прибавлялись только доходы госпожи Бальзак (дом в Париже, ферма неподалеку от Тура), небольшие сбережения, помещенные в государственные бумаги, да пресловутая тонтина Лафаржа. В связи с тонтиной вставал вопрос о долголетии, и тут уж Бернар-Франсуа никого не боялся. Он знал сотню способов продлить жизнь и не раз вспоминал о венецианце Корнаро, который к сорока годам подорвал свое здоровье и тем не менее умер столетним старцем; он говорил на эту тему с утра до вечера, посмеиваясь над другими участниками тонтины, которые умирали один за другим: Бернар-Франсуа именовал их «дезертирами».
Итак, будущее сулило чудесное обогащение, но пока что доходы семьи сильно уменьшились и продолжать жизнь зажиточных буржуа в квартале Марэ стало невозможно. У Бальзаков были свои представления о достоинстве, и они не желали ронять себя в глазах соседей. Уж лучше поселиться где-нибудь за пределами Парижа. Жилье, провизия, слуги – все там будет не так дорого. Двоюродный брат госпожи Бальзак, Клод-Антуан Саламбье, согласился купить дом в Вильпаризи, на дороге в Мо, и сдавать его внаем своим родственникам. Селение это, расположенное на полпути между Парижем и Мо, насчитывало пятьсот жителей; беленные известью дома без украшений вытянулись вдоль главной улицы, которая была частью шоссе Париж – Мец. Отсюда в разных направлениях уходили дилижансы. Поэтому в селении насчитывалось шесть постоялых дворов, там останавливались пешеходы и верховые, бо́льшую часть постояльцев составляли обычно возчики, коммивояжеры и торговцы. На главной улице постоянно слышался стук колес, крики форейторов, возгласы бродячих комедиантов, выступавших с дрессированными животными. Почтальон доставлял корреспонденцию из соседнего городка Клэ.
В числе местных именитых жителей были: граф д’Орвилье, весьма скромный «замок» которого стоял против дома Бальзаков; Габриэль де Берни с семьей – парижане, приезжавшие сюда только на лето, и какой-то полковник в отставке. Двухэтажный дом Бальзаков имел пять окон по фасаду и увеличивался мансардой; в саду так густо разрослись кусты, что за ними не видно было плодовых деревьев и огорода. На втором этаже были три отапливаемые комнаты, где жили госпожа Саламбье, госпожа Бальзак и Лора. Ветеран тонтины Лафаржа, железный человек, довольствовался комнатой без камина, и дети побаивались «сквознячка из-под папиной двери». Лоранс спала в кабинете, расположенном рядом с комнатой Лоры. Когда Оноре приезжал домой, его помещали в мансарде. В доме были две служанки – глуховатая соседка Мари-Франсуаза Пелетье, которую все называли мамашей Комен, и кухарка Луиза Лорет, вскоре вышедшая замуж за садовника Пьера-Луи Бруэта.
Обитатели селения радушно встретили это живописное семейство, где, как пишет Мари-Жанна Дюри, «каждый был достаточно умен, образован, говорлив, недурно писал, но при этом отличался обидчивостью и раздражительностью». Бернар-Франсуа все еще одевался по моде Директории, обладал завидным здоровьем, обедал в пять часов вечера, причем меню его состояло главным образом из фруктов (один из пресловутых рецептов долголетия!), а спать ложился с курами. Его комнату украшал книжный шкаф, ключ от которого он всегда носил при себе; выйдя на пенсию, старик целыми днями читал. Тацит и Вольтер помогали ему спокойно переносить нервные припадки супруги и обидные замечания тещи – она называла зятя «несносным хвастуном» и завидовала его бодрости. «Хорошее расположение духа изменяло Бернару-Франсуа только в тех случаях, когда, несмотря на выработанный им режим, его теории долголетия оказывались слегка поколебленными. Если у него разрушался зуб, этот прискорбный случай сильно огорчал его и повергал в уныние», – пишет в своей книге Мари-Жанна Дюри. Но он быстро успокаивался. «Все бренно в этом мире, – говаривал он, – непреходяще одно только душевное равновесие». Если он страдал от подагры, то тешил свое тщеславие тем, что «это недуг аристократический», который восходит к самому царю Давиду. Больше всего Бернар-Франсуа сожалел, что, в отличие от вышеупомянутого царя, ему не дано жить в окружении шестисот юных наложниц.
Вдова Саламбье ездила в Париж, чтобы испросить совет у врачей и «ясновидящих»: она боялась, по ее собственному выражению, «выйти из игры», другими словами – «погрузиться в небытие». Лоранс доживала последние месяцы в пансионе и больше интересовалась балами, нежели учением. Лора усердно играла на фортепьяно, занималась английским языком; благодаря своему веселому и добродушному нраву она умела смягчать драмы, разражавшиеся в семье. Одной из подлинных семейных драм, о которой, по счастью, не знали соседи, был смертный приговор, вынесенный 14 июня 1819 года судом присяжных в Тарне Луи Бальса, брату Бернара-Франсуа: он был обвинен в убийстве работавшей у него на ферме молодой женщины Сесиль Сулье, которую якобы соблазнил. Беременную служанку нашли задушенной. Возможно, Луи Бальса был неповинен в ее смерти, а убийцей был нотариус Альбар, родственник того самого Альбара, в конторе которого начал свою карьеру Бернар-Франсуа. Как бы то ни было, но Луи Бальса гильотинировали в Альби 16 августа 1819 года. В переписке семьи Бальзак мы не находим даже намека на эту трагедию. Такое молчание красноречивее слов. Бернар-Франсуа не сделал ни малейшей попытки спасти своего брата. Забота о сохранении репутации взяла верх над родственными чувствами и даже над стремлением к справедливости. Этот добропорядочный буржуа никогда не грешил чрезмерной добротой.
Оноре не мог, да и не хотел покидать Париж. В январе 1819 года он сдал экзамены на бакалавра права. Теперь родители рассчитывали на старшего сына, надеясь, что он упрочит благосостояние семьи. Бернар-Франсуа упивался «блестящим каскадом замыслов, которые обрушивал на него сын». Мы уже знаем, что мэтр Пассе предлагал молодому человеку работу в своей нотариальной конторе, обещая в будущем передать ему дело. Выгодная женитьба позволила бы Оноре купить эту контору. Сын-нотариус, прочно стоящий на ногах, дочери, выданные замуж за молодых инженеров, выпускников Политехнического училища, да еще, если повезет, за дворян, – так выглядел успех в глазах обитателей квартала Марэ. Оноре упорно противился всем планам на его счет. Он тоже был честолюбив и горд, тоже стремился к успеху, но жаждал литературной славы. Почему? Быть может, потому, что он столько читал и с увлечением слушал рассказы о головокружительной карьере Бомарше; возможно, сыграли роль и брошюры отца. В семье все питали слабость к сочинительству. Однако если тут достаточно любили изящную словесность и не просто держали в книжном шкафу творения классиков, но читали их, то все же гораздо большее значение придавали богатству. Можно ли, занимаясь литературой, составить себе состояние? По мнению госпожи Бальзак, все дело было в этом. И в доме завязался жаркий спор. Даблен, дядюшка Даблен, удалившийся на покой торговец скобяными товарами, который слыл оракулом в своем кругу, где его считали образцом просвещенного человека, обладавшего тонким вкусом, заявил, что из Оноре ничего, кроме письмоводителя, не выйдет. Но Бернар-Франсуа лучше знал своего сына. Он ценил ум Оноре и возлагал на юношу большие надежды. Коль скоро мальчик утверждает, что у него есть талант, пусть докажет на деле. Надо дать ему возможность испробовать свои силы и положить на это два года, а родители будут давать сыну полторы тысячи франков в год.
Следует сказать, что такое предложение свидетельствовало о великодушии. Сумма эта составляла немалую часть доходов семьи, и ее уделяли молодому человеку не для продолжения занятий, суливших ему надежное положение в обществе, а для того, чтобы он писал драмы или романы. Такая наивная вера трогает, и за этот самоотверженный поступок можно простить госпоже Бальзак мелочную экономию на завтраках сына и всегда гневный взгляд. Она сняла для Оноре за шестьдесят франков в год мансарду в старом доме, помещавшемся на улице Ледигьер под номером девять, неподалеку от библиотеки Арсенала. Здесь он должен был провести время искуса. Однако Бальзаки стыдились признаться своим друзьям из квартала Марэ в том, что содержат в Париже сына, «который ничего не делает», и было решено говорить всем, будто Оноре живет в Альби у кузена. Вот почему он должен был меньше показываться на людях и выходить на улицу только после того, как спустятся сумерки. Связь между ним и Вильпаризи поручили поддерживать мамаше Комен – она часто ездила в Париж за покупками. Оноре и сестры окрестили ее «вестницей богов Иридой».
Если верить Бальзаку, его мансарда в шестиэтажном доме была конурой, «не уступающей венецианским „свинцовым камерам“». В это темное, низкое логово вела грязная лестница со сломанными ступеньками. «Как ужасна была эта мансарда с желтыми грязными стенами! От нее так и пахнуло на меня нищетой… в щели между черепицами сквозило небо… Комната стоила мне три су в день, за ночь я сжигал на три су масла, уборку делал сам… на прачку… не больше двух су, два су на уголь, и два су мне оставалось на непредвиденные расходы»[26]. В действительности если в его мансарде и пахло нищетой, то это была лишь временная нищета молодого буржуа, сына зажиточных родителей, которому достаточно было вернуться к ним в Вильпаризи, чтобы вновь жить, не ведая нужды.
Оноре сам покупал провизию и сам готовил себе пищу. По условиям договора, заключенного с родителями, затворник с улицы Ледигьер ни с кем не виделся, за исключением дядюшки Даблена, которого он именовал своим Пиладом; тот изредка поднимался на шестой этаж, с тем чтобы надавать своему юному другу кучу советов, сообщить о том, что происходит в недоступном ему мире, и рекомендовать его вниманию «обитателей третьего этажа», у которых была довольно хорошенькая дочка, и владельцев дома, сдававших внаем мансарду. Чтобы укрыться от ветра, проникавшего в окно и дверь, Оноре смастерил ширму из синей бумаги, купленной за шесть су. Большую радость приносили затворнику визиты «вестницы богов Ириды», мамаши Комен, доставлявшей письма от Лоры; послания эти были забавные, нежные, а иногда ворчливые, ибо сестра, случалось, пересказывала упреки, которые мать обращала к своему блудному сыну.
«Папа сказал нам, что ты воспользовался свободой прежде всего для того, чтобы приобрести квадратное зеркало в позолоченной раме и гравюру для украшения комнаты; мама и папа этим недовольны. Милый брат, ты сам распоряжаешься своими деньгами, вот почему ты должен с умом употреблять их на оплату квартиры, стирку белья и еду. Когда мы думаем о том, какую брешь создадут потраченные тобою восемь франков в той сумме, которую в трудную для нас пору мама могла тебе выделить, то все мы – и прежде всего она – со страхом спрашиваем себя, на что же ты станешь жить; мама просит тебе передать, что ты совершил неловкость, позволив себе эту покупку, ибо этим дал понять, что приобретенное ею для тебя зеркало ни к чему и что она только напрасно истратила пять франков, а ведь она сейчас в стесненных обстоятельствах; вот почему она просит тебя прислать ей это зеркало с мамашей Комен, ибо в такой комнате, как твоя, два зеркала, разумеется, не нужны. А потому, милый Оноре, впредь будь осмотрительнее и не повторяй подобных ошибок; мне хочется и приятно писать тебе только ласковые, нежные слова, я готова в крайнем случае передавать тебе мамины советы, а выполнять ее сегодняшнее поручение мне не доставляет никакого удовольствия, ну ни малейшего».
Итак, все дело было в том, что слишком обидчивая мамаша не могла вынести, как это сын предпочел другое зеркало тому, которое выбрала она сама. Дальше Лора сообщала домашние новости:
«На вакациях у нас в Вильпаризи будет много народу, а ты ведь знаешь, как это важно в деревне! Все думают, что ты – по дороге в Альби, и возносят молитвы за путешествующих… Мы еще не знаем, окажутся ли дамы де Берни подходящими для нас знакомыми… Бабуля подарила нам три шляпки из простроченной соломки – теперь такие носят; они просто прелесть, сам посуди, как мы ими гордимся… Окрестности Вильпаризи чудесны, особенно хороши леса. Каждое утро, с шести до восьми часов, я сижу за фортепьяно; пальцы сами разыгрывают гаммы, а мысли мои уносятся на улицу Ледигьер».
Прелестный лепет юной девушки приводил Оноре в восхищение; он находил время отвечать ей длинными письмами. Брат, как и сестра, писал быстро, не раздумывая, «одним духом». То была «сердечная болтовня», она журчала, как чистый родник.
Мадемуазель Лоре, 12 августа 1819 года
«Ты хочешь узнать, дорогая сестра, подробности о моем переезде и моем образе жизни. Вот они! О своих покупках я уже писал маме; но сейчас ты содрогнешься: что там покупки – я нанял слугу!..
– Слугу, брат мой? И о чем ты только думаешь?
Слугу господина Наккара зовут Тихоня, моего зовут Я-сам. Пробудившись, я звоню ему, и он убирает мою постель.
– Я-сам!
– Чего изволите, сударь?
– Ночью меня кто-то искусал, взгляни, не завелись ли клопы.
– Помилуйте, сударь, какие еще клопы!
– Ладно.
Он начинает подметать, но делает это не слишком умело… Вообще-то, он славный малый; он старательно оклеил белой бумагой полки в шкафу возле камина, аккуратно сложил туда мое белье и даже сам приделал замок. Из синей бумаги, купленной за шесть су, и рамы, которую ему кто-то дал, он соорудил мне ширму; а потом побелил комнату – от книжной полки до самого камина.
Если он вздумает ворчать, чего пока еще ни разу не случалось, я пошлю его в Вильпаризи за фруктами или же в Альби – узнать, как поживает мой двоюродный братец».
О своей работе Бальзаку, увы, почти нечего сказать.
«Поверишь ли, целую неделю я все размышлял, мебель с места на место переставлял, из угла в угол шагал, потом что-нибудь жевал, но толком так ничего и не сделал. Роман „Бредни“[27] теперь кажется мне очень трудным, пожалуй, он мне не по силам. Пока что я только учусь и совершенствую свой вкус».
Оноре читал запоем: стихи и прозу, французских и иностранных авторов, изучал философию истории, задавался вопросом, не сумеет ли он – после всех бурных перемен, принесенных революцией, а главное – после кодекса Наполеона – дополнить труд Монтескьё, написав книгу «Дух новых законов».
Лоранс (ей было семнадцать лет), как и Лора, писала брату; без всяких к тому оснований она считала себя глупенькой.
«Я вывожу из терпения бабулю, на всех нагоняю тоску, и они по праву сердятся на меня… Мама не делает никакого различия между двумя своими Лорами; должно быть, это ей нелегко дается, ведь сестрица – не мне чета… Почему так бывает в жизни: одна сестра – душечка, а другая – никудышечка?»
Еще одно словцо из семейного лексикона Бальзаков! В словарях вы «никудышечку» не найдете. Лоранс признавалась, что она завидует тому, как хорошо играет на фортепьяно «милая сестрица». Но на самом деле Лора и Лоранс нежно любили друг друга. Романтичная Лоранс уходила в свои заросли сирени, там она мечтала о будущих женихах и уже успела похоронить семерых – в их числе были и «танцующие пастушки́», которых ей представлял кузен Саламбье, басонщик; девушка немного стыдилась, когда при посторонних он называл ее «кузина» и принимался разглагольствовать о своей лавке.
Как и все в семействе Бальзак, Лоранс позволяла себе весьма смелые насмешливые высказывания в духе Вольтера. Побывав на торжественном богослужении в столице, она писала сестре:
«После проповеди всякий, должно быть, чувствовал себя осужденным на муки ада и ввергнутым в геенну огненную; но бедные мои ноги заледенели, и я поняла, что еще не нахожусь в преисподней; вот почему я по-прежнему расположена совершать греховные проступки: ходить в театры, на балы и в концерты, во все эти мирские вертепы, рассадники разврата, где невинность и целомудрие… и так далее… и тому подобное».
Дети Бернара-Франсуа дерзко осмеивали общепринятые представления людей благонамеренных.
Оноре смотрел из своего окна на кровли Парижа, «бурые, сероватые или красные, аспидные и черепичные». Он обнаруживал «своеобразную прелесть… полосы света, пробивавшиеся из-за неплотно прикрытых ставен… сквозь туман бледные лучи фонарей бросали снизу желтоватый свет… у чердачного окна с полусгнившей рамой молодая девушка занималась своим туалетом», и он «видел только… длинные волосы, приподнятые красивой белою рукой»[28]. Он проникался поэзией Парижа и по вечерам, чтобы подышать воздухом, бродил по Сент-Антуанскому предместью или шел на кладбище Пер-Лашез. В предместье он наблюдал за рабочими, смешивался с их толпою и вместе с ними возмущался хозяевами мастерских.
Иногда, следуя за какой-нибудь четой и прислушиваясь к разговору, он вдруг ощущал, будто сливается с этим мужчиной и с этой женщиной. Тут проявлялся его дар ясновидения.
«Моя наблюдательность приобрела остроту инстинкта: не пренебрегая телесным обликом, она разгадывала душу – вернее сказать, она так метко схватывала внешность человека, что тотчас проникала и в его внутренний мир; она позволяла мне жить жизнью того, на кого была обращена, ибо наделяла меня способностью отождествлять с ним себя самого, так же как дервиш из „Тысячи и одной ночи“ принимал образ и подобие тех, над кем произносил заклинания… Слушая этих людей, я приобщался к их жизни; я ощущал их лохмотья на своей спине; я сам шагал в их рваных башмаках; их желания, их потребности – все передавалось моей душе, или, вернее, я проникал душою в их душу. То был сон наяву»[29].
Откуда взялась в нем эта способность? Он обладал ею с детства.
На кладбище Пер-Лашез, стоя на холме между могилами, он видел Париж, «извилисто раскинутый» вдоль берегов Сены, – Париж в синеватой пелене, сотканной из дыма и городских испарений. Зажигались огни. Глаза его жадно устремлялись к этим сорока тысячам домов. Между Вандомской площадью и куполом Дома инвалидов обитал в особняках тот высший свет, куда он хотел проникнуть и куда он надеялся силой собственного гения проложить себе путь в будущем.
Семья дала ему двухлетний срок, чтобы он мог проявить свой талант. За что приняться? Любознательность толкала его к философии. Он пытался постичь общество, мир, человеческие судьбы. В ту пору молодые люди зачитывались «Общей анатомией» Биша́ и «Анатомией мозга» Галля, ученого, столь любезного доктору Наккару. В Вандоме, в Туре, а затем в Париже Оноре изучал труды мыслителей, не столь близких механицизму, – труды Декарта, Спинозы, Лейбница. В библиотеке, расположенной неподалеку от улицы Ледигьер, он взял книгу Мальбранша «Разыскания истины». Бальзак и сам ощупью искал собственную философскую теорию. Сохранились философские заметки, которые он набрасывал в 1817–1820 годы. Они свидетельствуют о его упорном желании создать свою доктрину, «сорвать последние покровы» с истины и о страсти к чтению самых разных авторов, унаследованной от Бернара-Франсуа. Тут фигурируют вперемежку Платон и Бель, Диоген и Аристотель, святой Бернар и Рабле, решения Латеранского собора и труды индийских философов, Ламарк, Гоббс и другие. Он на всю жизнь сохранит вкус к перечислению имен людей выдающихся.
Он предполагал написать «Трактат о бессмертии души», хотя сам в это бессмертие не верил: «Увядание душевных сил доказывает, что и душа подчиняется законам, управляющим жизнью тела: она рождается, растет, умирает… Нет никакого сомнения в том, что память слабеет, что сила духа, мужество покидают человека, хотя он еще продолжает существовать».
Короче говоря, это был бы скорее трактат, отрицающий бессмертие души. «Мы еще не убеждены в существовании души. Как можно утверждать ее бессмертие, если даже не установлено, что она существует?.. У нас нет иного бессмертия, кроме памяти, которую мы оставляем после себя, да и то при условии, что мир вечен». К тому же наш теолог, обитавший в мансарде, обнаружил, что догмат о бессмертии души был утвержден Латеранским собором: «Положение это заимствовано нами не у Христа, а у Платона».
Самое важное состоит не в философских взглядах молодого Бальзака, которые к тому же менялись, а в том, что он испытывал потребность в собственной философской доктрине. Он «не допускал, чтобы выдающийся талант мог обойтись без глубокого знания философии… Он был занят тем, что усваивал богатое наследие философии древних и новых времен»[30]. Позднее, диктуя близкому другу предисловие[31], в котором много автобиографического, он вспомнит о том времени, когда «господин де Бальзак, ютившийся на чердаке неподалеку от библиотеки Арсенала, работал без отдыха, сравнивая, исследуя, резюмируя произведения философов и медиков древности, Средних веков и двух последующих столетий, посвященные мозгу и мышлению человека. Подобная склонность ума говорила об определенном предрасположении». Слова эти не были бахвальством, мы находим многочисленные следы его огромного труда: философская основа романов Бальзака была разработана им до того, как он приступил к их созданию. В ту пору, когда он жил на чердаке, он заложил фундамент, на котором позднее воздвиг свое монументальное творение.
Для того чтобы получить нужные для его духовных поисков книги, Оноре обращался к кому только мог. У дядюшки Даблена он просит Библию на латинском языке с французским переводом, у Лоры – Тацита из отцовской библиотеки.
«Лора, моя дорогая, моя любимая Лора, неужели никак нельзя утянуть Тацита („утянуть“ на семейном языке означало „украсть“, „утащить“)? У кого же все-таки ключ? Неужели папа никогда не выходит из комнаты?»
В ожидании Тацита он читал произведения других писателей древности. Вот что он писал Теодору Даблену:
«Я обдумывал обвинительную речь в духе тирад Цицерона против Катилины, – речь, направленную против вас, дядюшка. Как? Целый месяц прошел, а вы ни разу не заглянули на улицу Ледигьер почердачничать со мною!»
Увы! Бальзак слишком хорошо знал, что одними философскими химерами не проживешь. Театр сулил больше земных благ. И он просит у дядюшки Даблена «Сицилийскую вечерню» Казимира Делавиня и «Марию Стюарт» Пьера Лебрена. Пьесы бывшего клерка из конторы адвоката Гийонне-Мервиля – Эжена Скриба – уже ставили многие театры. Но Скриб писал водевили; Бальзак метил выше. Отчего бы ему не создать пятиактную трагедию, да еще в стихах? В свое время он сочинил несколько поэм («Людовик Святой», «Иов»), но сам потешался над ними, ибо они свидетельствовали только о том, что их автор «лишен версификаторского дара». В самом деле, трудно представить, до какой степени он плохо чувствовал ритм стиха. И все же, прочтя два тома Вильмена, который сделал модным имя Кромвеля, Оноре решил избрать лорда-протектора героем своей трагедии. Он уже разработал ее план.
Лоре Бальзак, 6 сентября 1819 года
«Трепещи, дорогая сестра! Мне потребуется по крайней мере семь или восемь месяцев для того, чтобы сочинить сцены и переложить их стихами, но еще больше времени уйдет на окончательную отделку.
Главные мысли уже на бумаге; там и сям разбросаны несколько стихов, но я семь или восемь раз до основания изгрызу ногти, прежде чем мне удастся воздвигнуть свой первый монумент. (Ах, если бы ты только знала, с какими трудностями сопряжены подобные работы!) Достаточно тебе сказать, что великий Расин два года отделывал „Федру“, предмет зависти всех поэтов! Но ты только подумай: два года, два года, целых два года!
Мне необыкновенно приятно, трудясь до изнеможения (скоро я стану работать днем и ночью), приобщать к своим занятиям дорогих моему сердцу людей; мне кажется, если Небо одарило меня хотя бы крупицей таланта, то самым большим удовольствием для меня будет сознание, что слава, которой я могу достичь, распространится и на тебя, и на милую нашу матушку. Подумай только, какую радость я испытаю, если мне удастся прославить имя Бальзак! Какой счастливый удел – побеждать забвение… Вот почему, когда мне случается набрести на удачную мысль и я облекаю ее в звучный стих, мне чудится, будто я слышу твой голос: „Вперед, смелее!“ Я мысленно прислушиваюсь к звукам твоего фортепьяно и опять сажусь за стол, с новым жаром принимаюсь за работу!»
Само собой разумеется, он не желал творить, угождая вкусам современников. Он думал о потомстве. Труд писателя вовсе не казался ему легким. Оноре делает любопытные статистические подсчеты. В трагедии должно быть две тысячи стихов; стало быть, потребуется от восьми до десяти тысяч усилий мысли.
«Ах, сестра, как мучительна оборотная сторона славы! Черт побери, да здравствуют лавочники!.. Вот счастливцы! Впрочем, нет, они всю жизнь проводят, торгуя мылом и швейцарским сыром!.. В таком случае долой лавочников! Да здравствуют литераторы!»
Порою он отдыхал от своего «Кромвеля», «делая наброски к небольшому роману в античном духе…».
«Выхожу редко, – писал он, – но когда у меня ум за разум заходит, я развлекаюсь прогулкой на кладбище Пер-Лашез!.. Но, даже навещая мертвых, я замечаю только живых».
Да и в своей мансарде на улице Ледигьер он порою принимал живых. Мать привозила свиной окорок, и это улучшало его обычный рацион. Дядюшка Даблен по-прежнему навещал его. Оноре всякий раз ожидал его прихода, чтобы поговорить о театре, о книгах, о политике с этим торговцем скобяными товарами, любившим классиков и придерживавшимся либеральных взглядов. «Коварный дядюшка, вот уже шестнадцать долгих дней я вас не видел. Как это дурно с вашей стороны, ведь вы – единственное мое утешение… Знайте, целую неделю я живу как в преисподней. Я ничего не видал, ни о чем не слыхал, никто мне и словечка не написал; даже мамаша Комен и та не показывается».
Ему уже осточертели англичане-цареубийцы, и все же он днем и ночью заставлял себя воспевать их французским александрийским стихом. «Я твердо решил: хоть околею, но доведу до конца „Кромвеля“ и напишу еще кое-что, прежде чем матушка потребует у меня отчета, на что я убил время». Впрочем, театр должен был стать только первым шагом. Он писал Лоре, которой привык поверять свои заветные мысли, что Французская революция еще далеко не закончена и что в дни политических кризисов возникает потребность в литераторах, ибо они знают человеческое сердце, – словом, если он будет держаться молодцом, а Оноре на это надеется, то добьется не только литературной славы, но и славы великого гражданина. «Я уподобляюсь Перетте с кувшином молока… Если в Вильпаризи ненароком продают гениальность, купи для меня, да как можно больше».
Он мечтал о том, чтобы в его мансарде стояло фортепьяно и можно было бы отдохнуть между двумя тирадами из трагедии, играя любимую пьесу – «Сон Руссо» Крамера. Запрет показываться на людях тяготил его. В октябре 1819 года он писал Теодору Даблену:
«Я еще не видел ни одной пьесы своего старого генерала Корнеля. А это очень плохо для новобранца. Так хочется посмотреть „Цинну“, что порою просто подмывает купить билет в огражденную перилами ложу. Кто, черт побери, разглядит меня из партера в толпе?»
Оноре похудел, побледнел, глаза у него ввалились, отросла борода, и вид был такой, точно он «вышел из больницы или играет роль в мелодраме». Он страдал от сильной зубной боли, но лечиться не хотел, заявляя, что «волки никогда не обращаются к дантистам и люди должны следовать их примеру». Это великолепное рассуждение, «достойное нашего папы», привело к тому, что у Бальзака уже в юности был щербатый рот.
Сердце его осталось в Вильпаризи. Не так-то легко было оторваться от «небесного семейства». У бабушки «совсем разыгрались нервы», но она все же тайком оплачивала счета переплетчика, которому задолжал Оноре. Мамаша Ирида-Комен, прозванная также «балаболкой», приносила ему письма от Лоры, где на все лады повторялось одно: «Пиши, пиши, пиши». Он выполнял ее просьбу и восхищался эрудицией сестры, цитировавшей Монтескьё: «Счастливы братья, имеющие таких сестер, как моя Лора». Она подтрунивала над его амурными похождениями, героиней которых была то едва знакомая ему барышня с третьего этажа, то еще какая-нибудь девица. «Ох уж эта Лора! Она желает видеть во мне Ловеласа! Но почему, скажите на милость? Добро бы я был Адонисом или Селадоном, а китайскому болванчику место не в алькове у дамы, а на ее камине». Оноре бы хотел, чтобы она представила его себе в ночном одеянии: на нем шерстяная фуфайка, а поверх – старый каррик, ибо в мансарде ледяная стужа; он просил сестру прислать ему колпак из красной мериносовой шерсти, подбитый ватой, словом, a la papa[32]. Его ужасало, как много масла сгорает в лампе. И тут же он выражал тревогу, что Лора слишком уж часто говорит о некоем Сюрвиле. Это был молодой инженер-путеец, окончивший Политехническое училище. Теперь Сюрвиль принимал участие в ремонтных работах на обводном канале реки Урк, он жил на одном из постоялых дворов в Вильпаризи. Сумев познакомиться с обеими сестрами Бальзака, он стал завсегдатаем их дома.