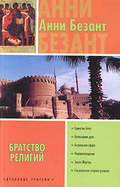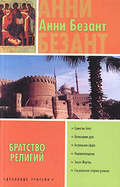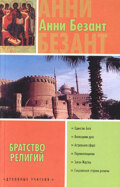Анни Безант
Исповедь
Заключение лорда Кольриджа было великолепно по языку, мысли и теплоте тона. Нельзя себе представить ничего более трогательного, чем конфликт между истинным религиозным чувством, ненавидящим ересь, и решимостью быть справедливым, несмотря на все предубеждения; он делал все усилия, чтобы его христианские предубеждения не передались также присяжным и не побудили их поступиться справедливостью. Он убеждал их делать то, чего требует справедливость, и не поступать с неверующим так, как они не действовали бы против обыкновенных подсудимых. Затем он говорил против преследований за убеждения, признал, что в священном писании существует много необъяснимого и высказал опасение, что священные истины, если во имя их возбуждается преследование, могут оказаться орудием насилия, что идет совершенно в разрез с евангельским духом. По ясности и нравственной высоте, эта красноречивая речь, произнесенная мелодичным голосом, была бесподобна, и лорд Кольридж показал на деле, что истинно христианский судья должен руководствоваться справедливостью по отношению к противникам своей религии.
Ожидание приговора привело всех в напряженное состояние, и когда, наконец, раздались слова «не виновен», их встретили громом рукоплесканий, строго, но справедливо остановленных судьей. Вся Англия с сочувствием отнеслась к приговору и осудила обвинение, как возмутительную попытку политических врагов м-ра Брэдло помешать его политической карьере. Так, «Pall-Mall Gazette» писала:
«Каковы бы ни были личные или политические протесты, возбуждаемые действиями м-ра Брэдло, даже его самые непримиримые враги не могут отрицать блеска целого ряда побед, одержанных им в суде. Его оправдание в деле о святотатстве, в субботу, было последним столкновением, в котором ему удалось самым решительным образом сразить своих врагов. Эта систематическая травля м-ра Брэдло, продолжающаяся уже столько времени, заключает в себе столько мелочности и пошлости, что следует заставить зачинщиков пострадать за нее. Мудрые и значительные слова, сказанные верховным судьей в заключительной речи, следует запомнить навсегда. «Следует карать тех людей», – говорил он, – «которые извращают закон даже с лучшими намерениями и, по словам апостола, творят зло, чтобы оно повело к добру, достойному осуждения». «Не придерживаясь строгости апостола, мы можем только сказать, что зачинщики подобных преследований должны быть присуждены к денежным взысканиям»».
В отдельном от м-ра Брэдло процессе гг. Фута и Рамсэя, м-р Фут сам защищал себя в очень талантливой речи, которую судья назвал в высшей степени замечательной. Лорд Кольридж обратился с внушением к присяжным, говоря им, что преследование несимпатичных большинству убеждений крайне несправедливо, и что никакое преследование, не доходящее до полного искоренения, не имеет значения; он упомянул также в саркастическом тоне о том, как легко достается следование добродетели преследователям. «В большинстве случаев, – сказал он, – преследование, если только оно не является более решительным, чем это возможно в Англии XIX в., должно быть бесполезным. Верно также то, что это очень легкая форма добродетели. Гораздо труднее спокойно и беспритязательно следовать в жизни тому, что мы считаем заветом Божиим. Это труднее исполняется и не производит сенсации в глазах света. Гораздо легче обратить свое усердие против кого-нибудь, отличного от нас, и под видом заботливости о славе Бога, нападать на человека, имеющего другие убеждения, но жизнь которого, быть может, более приятна Богу. И если нападения совершаются людьми, жизнь которых далеко не безупречна, и набожность которых заключается исключительно в возбуждении процессов против других, то это, несомненно, возбуждает большее сочувствие к обвиняемому, нежели к обвинителю. Еще хуже, если такого рода люди действуют не из убеждения, что Бог нуждается в их вмешательстве, и если к мотивам их поведения примешиваются партийные или политические чувства, совершенно чуждые всему, что есть высокого и благородного в человеческой природе; всякий, кто поступает таким образом не ради чести имени Божьего, а ради интересов партийных, кажется мне заслуживающим глубокого презрения».
В конце-концов, результатом процесса было значительное увеличение числа членов «национального общества свободомыслящих», широкое распространение наших изданий, популярность и влиятельное положение в обществе м-ра Фута и то, что он оказался мучеником за свободу слова. Его нарушение требований хорошего тона забудется, стойкость его убеждений останется навсегда в памяти. История не спрашивает, говорил ли что либо безтактное человек, пострадавший за свои еретические убеждения, она спрашивает, был ли он тверд в борьбе и верен познанной им истине? Наказание, которому подвергнут был м-р Фут по приговору суда, было очень тяжким: двадцать два часа в сутки он проводил в одиночном заключении, в его камере был один только стул без спинки, а для спанья – доска с тоненьким тюфяком, занятием его было плетение соломы, и только в последние месяцы заключения ему дозволено было читать…
Конец 1883 года прошел среди обычного тяжелого труда. Биль об уничтожении обязательной присяги был отменен, а агитация, возбужденная м-ром Брэдло, все разрасталась, либеральная пресса склонилась на его сторону. В Амстердаме состоялся вскоре международный конгресс, собравший в голландской столице многих из наших единомышленников. Для меня лично год этот представлял большой интерес, так как я познакомилась тогда впервые с рабочим движением. Я вникала мало до тех пор в экономические основания социалистического учения. Я не была знакома с социалистическим учением, так как изучала только в молодости английских экономистов старой школы. В начале февраля мне в первый раз попалась в руки газета, называемая «Justice», в которой были нападки на м-ра Брэдло.
Весна ознаменовалась двумя событиями – м-р Брэдло опять лишился депутатского места, вследствие возобновленного постановления палаты об его удалении, и с торжеством вернулся в палату, избранный в четвертый раз 4032 голосами, т. е. значительно возросшим с последних выборов числом избирателей. Другим событием было освобождение м-ра Фута из голлоуэзской тюрьмы и его триумфальное возвращение домой, устроенное друзьями. 12-го марта ему и его товарищам устроен был торжественный прием в научном клубе и передано было много подношений от друзей и сочувствующих.
17-го апреля в St. James's Hall, в Лондоне, между м-ром Брэдло и м-ром Гейдманом произошел публичный диспут, побудивший меня серьезно заняться этими вопросами.
В это время также я познакомилась с Джоржем Бернардом Шо, большим оригиналом в жизни. Он был гениален в своем искусстве выводить из себя энтузиастов партий и имел особую страсть выдавать себя за негодяя. При моей первой встрече с ним на лекции в South Place Institute он отрекомендовал себя «праздношатающимся», и я отозвалась о нем довольно резко в «Reformer», потому что праздношатающиеся были мне ненавистны, и вдруг я узнаю, что Бернард Шо очень беден, потому что его убеждения заставили его предпочитать материальную нужду духовному порабощению; назвал же он себя праздношатающимся только потому, что ему безразлично было какого о нем будут мнения. Конечно, я извинилась пред ним за свое строгое суждение, но почувствовала внутреннюю досаду за то, что он провел меня. Тем временем я все более отдалялась от политики и отдавалась все более народному делу. В июне я очутилась в числе протестующих против билля сэра Джона Леббока, который устанавливал норму в 12 часов – в день для труда малолетних рабочих. «12-ти часовой рабочий день – сущее варварство», писала я. «Если закон признает возможность 12 часовой работы, жизнь сделает это общим правилом По-моему, законным количеством рабочих часов «должно быть восемь часов в пять дней недели и не более пяти часов на шестой. Если работа изнурительного свойства, этот срок слишком большой». Новая окраска моего образа мыслей обнаружилась, когда я стала требовать, чтобы в народных школах детям давали есть, потому что иначе они падают под двойным бременем – обучения и голода.
В январе 1885 г. появились первые нападки на мои воззрения; они исходили от м-ра В. П. Баля, пославшего в «Reformer» возражение на высказанную мною мысль о снабжении пищей детей городских школ. Возникла небольшая полемика, в которой я отстаивала свой взгляд, уклоняясь от вопроса – социалистка ли я по своим убеждениям. Я не решалась примкнуть открыто к социалистической партии из-за её враждебного отношения к м-ру Брэдло. На его сильный, настойчивый характер, окрепший в резко выраженном индивидуализме, доводы молодого поколения не имели влияния. Он не мог изменить своих воззрений из-за того, что народилось новое понимание жизненных задач, и он не видел до чего отличен социализм наших дней от прежних социалистических мечтаний о неосуществимом идеале лучшего строя общества. Могла ли я решаться на поступок, который должен был привести к столкновению с самым дорогим другом, ослабить глубокую дружбу, так давно установившуюся между нами? Вся моя душа, благодарность, которую я чувствовала к м-ру Брэдло – все восставало против мысли о союзе с теми, которые так несправедливо поступали относительно него.
Общие выборы произошли осенью того же года, и Нордгэмптон в пятый раз избрал м-ра Брэдло, полагая этим конец долгой борьбе, потому что м-р Брэдло принес присягу, заняв свое место при возобновлении заседании в январе; тотчас же затем он внес в палату предложение «билля о присяге», который давал бы право каждому заменить присягу заверением истины своих слов. М-р Брэдло был избран большим количеством голосов, чем когда либо прежде – 4,315 голосов было за него; он вступил в парламент с ореолом своей громкой борьбы и сделался таким образом сразу одним из передовых деятелей, сила и значение которого были признаны всеми в палате. Произошла попытка вновь возбудить протест против его избрания, но председатель палаты, м-р Пиль, сразу разрушил ее. Сэр Мейкэль, Гикс Бич, м-р Сесиль Райкс и сэр Джон Геновэй обратились письменно к председателю, прося его принять участие в проектируемом протесте, но м-р Пиль ответил, что он не имеет ни власти, ни права не допустить к присяге законно избранного члена палаты. Этим закончилась шестилетняя парламентская борьба, из которой победитель вышел с расшатанным здоровьем и с окончательно расстроенными материальными средствами; следствием пережитых волнений была его ранняя смерть. Он достаточно долго жил, чтобы оправдать свое избрание, чтобы доказать свое значение парламенту и всей Англии, но умер слишком рано, не успев сделать для своей родины всего того, на что его делали способным его долгая подготовка, большие знания, отважность и высокая честность.
Я подверглась сильным нападкам за свою пропаганду со стороны радикальных членов партии свободомыслящих и, пересматривая теперь направленные против меня в то время статьи, я вижу, про меня говорили, что во мне «столько же твердости, как в кувшине с молоком». Тот же любезный критик говорил, что, по дошедшим до него слухам, «м-сс Безант, как большинство женщин, заимствует свои экономические идеи от знакомых мужчин, занимающихся этими вопросами». Я имела глупость оправдываться перед подобным противником, не убедившись еще что самозащита прямая потеря времени, которое могло бы быть употреблено с гораздо большей пользой на служение другим людям. Я бы, конечно, не стала теперь тратить времени на то, чтобы написать следующее: «С той минуты, как критик начинает пользоваться тем, что автор – женщина и этим опровергать высказываемые ею мысли, серьезный читатель понимает, что у критика нет более серьезных возражений. Положительно, все эти глупые нападки на женскую неспособность к самостоятельному мышлению и деятельности утратили свою силу и на них можно только ответить насмешкой над бесконечным «мужским самодовольством» критика. Могу прибавить, что подобные стрелы особенно недействительны против меня. Эти слова были излишни, как всякая самозащита, и вызывали, как всякое возражение, продолжение полемики. Но еще не пришла пора самообладания, знающего истинную цену суждений других людей, безразличного к похвале и к хуле; я еще не знала, что не нужно отвечать злом на зло, гневом на гнев; я еще не видела нравственного закона в словах Будды: «ненависть нельзя победить ненавистью; она побеждается только любовью».
По мере того как с наступлением зимних месяцев страдания населения увеличивались, митинги лишенных заработка становились все многочисленнее.
Начался 1887 год. Социалисты употребляли всю свою энергию на организацию помощи лишенным заработка; они побуждали разные общественные учреждения доставать заработок уволенным рабочим, вносили в муниципальные советы предложения о том, как утилизировать продуктивные силы незанятых рабочих, выискивая разные средства помочь бедственному их положению. Мне пришлось испробовать свою энергию в четырехдневном диспуте с м-ром Футом и в письменной полемике с м-ром Брэдло. Напечатанные отдельными брошюрами отчеты о диспуте и о полемике с м-ром Брэдло, разошлись в очень большом количестве. Серия дневных диспутов между ораторами различных партий организована была вскоре в South Place Institute и между мной и Корри Грантом произошел оживленный спор, в котором я доказывала, «что существование классов населения, живущих на незаработанные средства, губительно для общества и должно было бы быть прекращено законодательным порядком». Другой диспут произошел письменно в «National Reformer» между пастором Гэндель Роу и мной по вопросу: «имеет ли атеизм логические основания и возможно ли существование атеистической системы, которая бы руководила нравственной стороной человеческой жизни». С наступающей осенью нищета становилась все грознее, так что в сентябре я писала: «несомненно только одно – общество должно заняться рабочими, лишенными возможности заработка. Некоторое развлечение от дел доставлял нам устроившийся в то время чэринг-кроский парламент, в котором мы с большим рвением обсуждали «злобы дня». Организована была дружная партия, которая победила либеральное правительство, забрала в руки бразды правления и после тронной речи, в которой королева обращалась к палате с неслыханной до того (и после того) простотой и искренностью – мы внесли в парламент несколько биллей истинно героического характера. Бернард Шо, в качестве председателя городского управления, и я, в качестве министра внутренних дел, резко критиковали резкие меры правительства.
Следующий из моих письменных диспутов произошел в октябре на тему «о христианском учении», и это была пятая из серий моих чтений и диспутов в эту зиму. В том же месяце произошла тяжелая для меня, но необходимая перемена: я отказалась от очень ценного для меня положения соредактора «National Reformer», и номер от 23-го октября появился только за подписью Чарльза Брэдло. Эта перемена не имела влияния на мою работу в газете, но я из члена редакции сделалась только сотрудницей. Причины этого шага яснее всего изложены были мною печатно: «В течение последнего времени», писала я, «до меня стало доходить все более и более жалоб с разных сторон, сбивающих с пути различные мнения членов редакции по вопросу о социализме. Несколько месяцев тому назад я предложила устранить это осложнение, отказавшись от соредакторства; но мой товарищ по изданию, с свойственным ему великодушием, попросил меня не делать этого и посмотреть, нельзя ли вести дело по-прежнему. Но трудность, вместо того чтобы исчезнуть, все увеличивалась, и какой-нибудь исход становился неизбежным; мы оба чувствовали, что читатели в праве требовать разрешения неопределенного положения газеты. Раскол с м-р Брэдло по рабочему вопросу совершился по моей вине, а не по его, и поэтому я должна выйти из состава редакции. Во всех других вопросах нашей обширной программы мы сходимся и, вероятно, будем всегда продолжать смотреть одинаково. Перехожу по этому на прежнее положение сотрудника, снимая таким образом с «National Reformer» всякую ответственность за мои взгляды».
К этому м-р Брэдло прибавил следующее:
«Я считаю почти лишним прибавить к сказанному выше, как глубоко я сожалею о необходимости для м-сс Безант отказаться от совместного со мной ведения журнала, и как искренно я скорблю об её отказе от положения, в котором она оказала так много услуг делу свободомыслия и радикализма. Я надеюсь, что «National Reformer» не утратит в ней постоянную сотрудницу, содействие которой крайне драгоценно. В течение 13-ти лет эта газета обязана была значительной частью своих достоинств её неутомимому плодотворному труду. Я согласен с ней, что издание должно иметь определенное направление, и я считаю эту определенность тем более необходимой, что каждому сотруднику газеты предоставляется полная свобода пера. Я понимаю и выражаю глубокое уважение пред героическим самоотвержением, внушившим м-сс Безант строки, к которым я прибавляю эти несколько слов. Чарльз Брэдло.
Бесконечно тяжело было мне порвать связь, за которую я так дорого заплатила тринадцать лет тому назад; но справедливость требовала этого шага. Если приходится принять решение, сопряженное с нравственными страданиями, то долг чести требует, чтобы по возможности брать трудности и страдания на себя, нельзя возлагать жертвы на других или платить выкуп за себя чужими деньгами. Долг чести необходимо должен быть законом для человека с стремлениями к идеалу, и нарушение верности этому стремлению есть единственная истинная измена в жизни.
У меня была еще одна причина, побуждавшая меня отделиться от м-ра Брэло, но я не решалась назвать ее ему, потому что, с свойственной ему щепетильностью в вопросах чести, он бы упрямо отказался допустить мой выход из состава редакции. Я видела перемену, произошедшую в общественном мнении, видела, как постепенно склонялись на его сторону либералы, державшиеся прежде вдали от него; я знала, что на меня они смотрели крайне недружелюбно, и что, если бы мое участие в его действиях было бы менее заметным, ему было бы гораздо легче следовать своему пути. В виду этого, я старалась все более уходить на второй план и не сопровождала более м-ра Брэдло на митинги. Я уже не могла быть ему полезной в его общественной деятельности, напротив мое сообщничество приносило ему вред. Пока он был отверженным и окружен всеобщей ненавистью, я с гордостью стояла за него; но когда его стали окружать друзья, которые всегда являются вместе с успехом, я могла быть наиболее полезной ему, отстранив себя от его дела. Но всю литературную совместную работу я продолжала по-прежнему, и теоретические разногласия не нарушили его доброго отношения ко мне, хотя, после последовавшего вскоре присоединения моего к теософическому обществу, он потерял веру в здравость моих суждений.
В течение того же октября рабочими, лишившимися заработка, стали устраиваться процессии по городу и вследствие излишней строгости полиции дело дошло до нескольких столкновений. Сэр Чарльз Баррен считал своим долгом разгонять лондонские митинги вооруженной силой, подобно тому как это делается префектами континентальных городов, и неизбежным результатом его образа действий было возникновение враждебного чувства между народной массой и полицией.
Наконец, мы сформировали оборонительную лигу для помощи бедным рабочим, которых привлекали к суду и осуждали только на основании показаний полиции; сами же они не имели никакой возможности обратиться к законным средствам защиты. Я организовала для подобных случаев общество состоятельных людей, которые обещали являться каждый раз, когда их вызовут по телеграмме, будь то днем или вечером, и, внеся залог, брать на поруки всякого из рабочих, арестованных за пользование всегда существовавшим правом устраивать процессии и говорить на митингах. Беру один пример: арестованы были м-р Берлей, известный военный корреспондент, и м-р Винкс, обвиняемые в подстрекательстве народа к мятежу; вместе с ними взят был и рабочий Найт. Я пошла в полицейский комиссариат и предложила залог за Найта. Начальник полиции Гоуард согласился взять залог за Берлея и Винкса, но не за Найта. На следующий день, в полицейском управлении потребовали за Найта неправдоподобно большой залог в 400 ф. ст. Эта сумма доставлена была моими верными союзниками, и в следующем заседании прокурор м-р Паленд отказался от обвинения в виду отсутствия достаточных показаний. Вскоре запрещено было устройство митингов на Трафальгер-сквере и приняты были неожиданно крутые меры.
Мне приятно вспомнить при этом случае, с каким сочувствием м-р Брэдло отнесся к нашей тяжелой борьбе с полицией, и следующая выписка из его газеты показывает, с каким великодушием он умел признавать заслуги тех, которые шли по иному пути, чем он: «Так как я недавно выказал очень существенное разногласие», писал он, «с моей смелой и преданной делу союзницей, и так как это разногласие сделалось еще более заметным вследствие её выхода из состава редакции, то я чувствую тем большую потребность выразить ей мое сочувствие в настоящую минуту. Я бесконечно благодарен ей не только за организацию защиты жертвам полиции, но и за её ежедневные посещения полицейских участков и тюрем, где она значительно повлияла на улучшение обращения с заключенными с одной стороны и на успокоение раздражения с другой. Я не могу сказать, что считаю подобное занятие подходящим для женщины делом, особенно, среди лондонской зимы, но должен выразить свое мнение, что действовала она великолепно и принесла громадную пользу. Я особенно настаиваю на этом именно потому, что взгляды м-сс Безант и мои еще более разошлись, чем я это считал возможным, в принципиальных вопросах, составляющих основу борьбы, которая становится все более и более серьезной». Чарльз Брэдло всегда обнаруживал подобную широту взглядов и готовность признавать достоинства даже в людях, идущих против его принципов.
Негодование толпы возрастало; полицию старались бойкотировать, при чем тактичное и сдержанное поведение толпы не давало никакого повода прибегать к насильственным мерам. Наконец, положение полиции сделалось невыносимым и торийское правительство почувствовало недружелюбность лондонского населения; сэр Чарльз Баррен был тогда смешон и его заменило более распорядительное лицо.