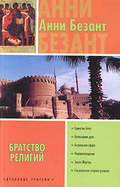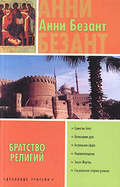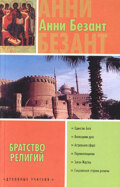Анни Безант
Исповедь
Глава VII
За делом
После первой беседы в Turner Street, м-р Брэдло приехал ко мне в Норвуд. Любопытно, что он не принял моего первого приглашения и советовал мне хорошенько подумать, прежде чем звать его к себе. Он сказал мне, что ненависть к нему в английском обществе простирается и на людей, стоящих в дружеских с ним отношениях, и что я могу дорого поплатиться за хорошее к нему отношение. Но когда я вторично написала ему, повторяя свое приглашение и говоря ему, что все могущие оказаться последствия я приняла во внимание, он сейчас же приехал ко мне. Его слова оправдались, моя дружба с ним удалила от меня даже многих из называющих себя свободными мыслителями, но поддержка и радость, которые принесла мне эта дружба, тысячу раз вознаградили меня за связанные с нею потери, и я никогда не испытала ни тени сожаления о том, что встретилась с ним в 1874 г. и приобрела в нем истинного друга. Он ни разу не сказал мне жесткого слова; когда мы расходились в мнениях, он не старался навязать мне своих мыслей; мы обсуждали все пункты разногласия как равные; он оберегал меня, как истинный друг, от всякого страдания и делил со мной то горе, которое нельзя было предотвратить. Все, что было светлого в моей бурной жизни, исходило от него и было результатом его нежной заботливости, постоянного участия, великодушной дружбы. Он был наиболее чуждым эгоизма человеком из всех, кого я знала, и соединял необыкновенную силу характера с большим терпением. Моя живая, порывистая натура находила в нем спокойную силу, которой ей недоставало самой, и училась у него сдерживать свои порывы.
Он был в высшей степени веселым и приятным товарищем в редкие часы отдыха, выпадавшие на нашу долю. В течение долгих лет он приходил ко мне утром после нескольких часов, которые уделял обыкновенно для приема бедных, нуждающихся в юридических или иных советах; он приносил с собой книги и бумагу и работал у меня целыми днями, не мешая работать и мне в его присутствии, обмениваясь лишь от времени до времени несколькими словами, делая перерыв только для завтрака и обеда, и работая опять вечером до десяти часов, когда он уходил домой, сохраняя свою привычку рано ложиться спать. Иногда он проводил со мной час, играя в карты. Все наше время почти всецело уходило на занятия и общественные дела, но иногда мы устраивали себе праздник, и тогда он превращался в мальчика, готового на всевозможные шалости и поражал неожиданностью своих оригинальных выдумок. Все окрестности Лондона полны для меня светлых воспоминаний о наших странствованиях – Ричмонд, где мы бродили по парку и отдыхали под вековыми деревьями, Виндзор с своими рощами, Кью, где мы пили чай в странно убранной маленькой комнатке, Гэмптон-Корт с своей романтической природой, Меденгэд и Тэплоу, куда нас привлекала река, и более всего Броксборн, где м-р Брэдло любил проводить целые дни с удочкой в руках и бродить по берегу, который он знал до малейшей извилины. Он был страстным рыболовом и научил меня всем тайнам этого искусства, высказывая мне глубокое презрение за мое отвращение к рыбе, попадавшейся мне на удочку. Во время этих прогулок он говорил мне о своих надеждах на будущее, о своей работе, о долге, который он должен исполнить относительно людей, считавших его своим вождем, о том времени, когда он попадет в парламент и будет стремиться к осуществлению на законодательном поприще тех реформ, за которые он ратовал пером и словом. Как часто он воодушевлялся, говоря о своей любви к Англии, своем преклонении пред парламентом, своей гордости прошлым своей родины. Очень ясно сознавая, какое пятно накладывали на нее завоевательные войны и жестокость в обращении с завоеванными народами, он все таки оставался англичанином до мозга костей; более всего, конечно, он считал долгом англичан, как нации, достигшей могущества и обладающей им, понимать нужды подвластных ей народов и быть справедливой добровольно, если даже ничего к этому не принуждает. Его заступничество за Индию в последние годы его жизни не было внезапно принятым на себя обязательством. Он защищал ее, заступался за нее в течение многих лет в печати и с кафедры и был ярым борцом за её права задолго до того, как сделался членом парламента.
Чрез несколько дней после нашей первой встречи м-р Брэдло предложил мне место в редакции National Reformer и маленькое жалованье, которое мне было назначено – только одна гинея, так как проповедники реформ были народ бедный – было очень существенным пополнением моих средств. Мое сотрудничество началось с 30-го августа 1874 г., со статьи, подписанной псевдонимом «Аякс», и продолжалось до самой смерти м-ра Брэдло; с 1877 г. я сделалась помощницей редактора, чтобы избавить м-ра Брэдло от всяких технических хлопот и утомительного чтения рукописей; некоторое время я принимала также участие в издательской стороне дела. Вначале я писала под псевдонимом, потому что для работы, которую я исполняла для м-ра Скотта, было бы пагубно появление моего имени на столбцах страшного «National Reformer» и до тех пор пока эта работа – начатая и уплаченная заранее – не была закончена, я не чувствовала себя вправе пользоваться своим именем. Впоследствии я стала подписывать свои статьи в «National Reformer», а брошюры, которые я писала для м-ра Скотта, появлялись под псевдонимом.
Избранный мною псевдоним был внушен знаменитой статуей «Аякса, взывающего о свете», снимок с которой находится в хрустальном дворце близ Лондона. Раздающаяся из мрака мольба о свете, хотя бы этот свет принес с собой крушение всего, вызывала горячий отзвук в моей душе. Видеть, знать, понимать, даже если свет ослепляет, знание удручает и понимание разбивает самые дорогие надежды – этого жаждал всегда стремящийся в высь дух человека. Многие видят в этом слабость, безумие, но я уверена, что сильнее всего это стремление сказывается в лучших людях нашей страны, что с уст тех, кто больше всего помогал снять бремя невежества с изможденных согбенных плеч спотыкающегося человечества, чаще всего срывался среди мрака и пустоты молящий страстный возглас: «дайте нам свет».
Свет может прийти в виде ослепляющей молнии, но все-таки это будет свет, который озарит нас.
Теперь, наконец, наступило время воспользоваться даром слова, который я открыла в себе в Сибсэйской церкви; он должен был помочь мне действовать на сердца и умы всей Англии. В 1874 г. я впервые пыталась говорить, а в 1875 окончательно взяла в руки это сильное оружие и не переставала уже с тех пор пользоваться им. В первый раз я попыталась говорить на одном собрании на открытом воздухе, взяв на себя чисто фактический доклад; я увидела тогда, что могу говорить свободно и гладко; во второй раз я приняла участие в прениях либерально-социалистического союза по вопросу об открытии музеев и картинных галерей по воскресеньям. Первую лекцию я прочла 25-го августа 1874 г. в зале кооперативного института. М-р Грининг, тогдашний секретарь института, предложил мне прочесть лекцию, предоставив мне самой выбор сюжета. Я решила, что первая моя лекция будет посвящена женскому вопросу и избрала поэтому темой реферата «политическое положение женщин». В этот августовский вечер перед собранием в кооперативном институте выступила очень нервная женщина. Когда приходится идти к зубному врачу и стоишь уже у дверей с желанием спастись бегством, прежде чем представительный лакей откроет двери и взглянет на посетителя с улыбкой сострадательного участия и сознания своего превосходства, тогда мир кажется мрачным и жизнь сплошным заблуждением. Но эти чувства ничтожны и слабы в сравнении с замиранием сердца и дрожанием колен у злополучного лектора, в первый раз выступающего перед публикой – пред его глазами поднимается зловещий призрак человека, взявшего на себя роль оратора, но лишившегося вдруг языка, а перед ним ряды внимающих лиц, внимающих – молчанию. Но к моему удивлению, это жалкое чувство исчезло как только я поднялась со стула и взглянула на лица, толпящиеся предо мной. Я не чувствовала более смущения и нервности от начала лекции до конца, и слыша как мой голос звучал над головами сосредоточенно внимающих слушателей, я ощущала радость от сознания своей силы и была чужда всякого страха. Начиная с того вечера и до сегодняшнего дня я испытывала всегда то же самое; до начала лекции или собрания, на котором я должна говорить, я прихожу в нервное состояние, хотела бы провалиться сквозь землю, чувствую страшное сердцебиение, а иногда близка к обмороку. Но как только выхожу на эстраду, как становлюсь опять совершенно спокойной, чувствую себя властительницей толпы и вполне владею собой. Я часто внутренне смеюсь над своим волнением и дрожью, зная, что все пройдет, когда я начну говорить, и все-таки я не могу победить физической боязни, хотя и знаю, что она ложная. Мне говорят иногда: «у вас слишком больной вид, чтобы выходить на эстраду». А я слабо улыбаюсь, говорю, что это ничего не значит, и часто думаю, что чем нервнее я чувствую себя пред началом, тем увереннее буду говорить, выйдя на эстраду. Вторую лекцию я прочла 27-го сентября, в маленьком храме м-ра Монкюра Конвэя в St. Paul's Road и повторила ее несколько недель спустя в одной униатской часовне, где, был священником Петер Дин. Это была лекция об «истинной основе нравственности»; она была напечатана впоследствии отдельной брошюрой и имела большой успех. Вот все, чем ознаменовалась моя ораторская деятельность в течение 1874 г., но, кроме того, я принимала закулисное участие в избирательной борьбе в Нордгэмптоне, где открылась кандидатура на место члена парламента, вследствие смерти м-ра Чарльса Гильпина. М-р Брэдло выступал в этом участке кандидатом радикальной партии в 1868 г. и получил 1,086 голосов, затем в феврале 1874 г. он получил 1,653 голоса; эта толпа избирателей образовала сплошную и лично преданную партию приверженцев, которым и удалось осуществить избрание своего вождя в 1880 г. после 12 лет упорной борьбы, и вновь избирать его много раз в течение долгой борьбы, последовавшей, за его избранием и кончившейся его полным торжеством. Они никогда не колебались в своей преданности «нашему Чарли», но крепко стояли за него и в периоды неудач, как и в дни торжества, когда он был изгнанником так же, как и тогда, когда он являлся триумфатором; они любили его глубоким страстным чувством, настолько же делающим честь им, как и драгоценным для него. Он иногда плакал как ребенок при виде доказательства их любви к себе, хотя и обладал твердостью духа, не слабевшей ни пред какой опасностью, и умел спокойно переносить ненависть и глядеть с суровой невозмутимостью в глаза врагам. Твердый как железо по отношению к врагам, он делался слабым как женщина, встречая доброту; упругий как сталь, он не поддавался никакому давлению, но ласка делала его мягким как воск. Джон Стюарт Милль уже в 1868 г. понял его своим проницательным взглядом и имел смелость признать это. Он сильно поддерживал его кандидатуру и сделал крупный взнос в кассу избирательных издержек. В своей автобиографии он писал (стр. 311, 312):
«Он (Чарльс Брэдло) пользовался симпатиями рабочих классов; я слыхал, как он говорит, и вынес высокое мнение о его способностях; он сам доказал, что менее всего может считаться демагогом, выступивши ярым противником господствующих в демократической партии взглядов на два столь важные предмета, как теория Мальтуса и пропорциональное представительство. Люди подобного склада, которые, разделяя демократическое миросозерцание рабочих классов, решают все-таки политические вопросы совершенно самостоятельно и имеют храбрость защищать свои индивидуальные взгляды против народной оппозиции, очень нужны, как мне кажется, в парламенте; и я думаю, что взгляды м-ра Брэдло (если даже он слишком невоздержанно высказывал их) не должны препятствовать его избранию».
Говорили, что, поддерживая кандидатуру м-ра Брэдло в Нордгэмптоне, м-р Милль потерял свое место в парламенте, как представитель Вестминстера; при тогдашнем состоянии общества это предположение могло оказаться истиной.
Во время этих выборов, в сентябре 1874 г. (это были вторые выборы в том же году, так как общие выборы состоялись в феврале, м-р Брэдло был выставлен кандидатом и потерпел поражение, будучи сам в это время в Америке), я отправилась в Нордгэмптон, чтобы корреспондировать о ходе избирательной кампании в «National Reformer» и провела там несколько дней в водовороте борьбы. Виги были ожесточены против м-ра Брэдло еще более ториев. Настойчивые усилия направлены были на то, чтобы найти кандидата для либеральной партии, который в состоянии был бы воспрепятствовать избранию м-ра Брэдло, и разъединяя либеральную и радикальную партии между собой, допустил бы скорее избрание тори, чем ненавистного радикала. Гг. Бэль, Джэмс и д-р Пирс являлись на сцену и тотчас же исчезали. М-р Яков Брайт и Арнольд Морлэй были названы кандидатами, но без всякого успеха. Произносилось также имя м-ра Эртона. Майора Лумлэя ввел и поддерживал м-р Бернал Исборн. Д-р Кенили выразил свою готовность выручить вигов. М-р Тиллет из Норвича, м-р Кокс из Бельпера тоже были приглашены, но ни один из них не соглашался выступить противником истинного радикала, который вел две избирательные кампании в Нордгэмптоне и был избранником радикальных рабочих уже в течение шести лет. Наконец, м-р Вильям Фоулер, банкир, взял на себя задачу передать представительство либерального и радикального избирательного участка члену торийской партии, и в самом деле ему удалось устроить избрание м-ра Мируэтера, торийского адвоката безупречной репутации. М-р Брэдло получил 1,766 голосов, т. е. на 133 голоса больше против февраля.
Во время этих выборов я впервые видела нечто похожее на народный мятеж. Сильные нападки вигов на м-ра Брэдло и гнунсые клеветы, которые распространялись о нем, затрагивая его личную жизнь и семейные отношения, довели до бешенства всех, кто его знал и любил, и когда выяснилось, что виги одержали победу благодаря неразборчивости своих средств и тому, что они передали участок тори, общее возмущение перешло в открытую ярость. Один пример может служить образчиком того, до чего доходили клеветники. Известно было, что м-р Брэдло разошелся с своей женой, и на основании этого говорили, что, будучи противником брака, он бросил жену и детей, доведя их таким образом до рабочего дома. Причина разлада была известна лишь немногим, потому что м-р Брэдло относился по-рыцарски к женщинам и ни за что бы не ограждал своей собственной чести ценой доброго имени женщины, на которой женился в молодости и которая была матерью его детей. Но со времени его смерти, единственная, пережившая его дочь, открыла, из преданности к памяти отца, печальную истину: она выяснила, что м-сс Брэдло была склонна к пьянству; долгие годы муж переносил её недуг и делал все возможное, чтобы вылечить ее; наконец, отчаявшись в излечении, он поместил свою жену в деревне, на попечение родственников, оставил ей дочерей, а сам уехал работать для прокормления семьи. Ни один человек не мог бы поступить более благородно и разумно в таких тяжелых обстоятельствах, но, быть может, с его стороны было излишним донкихотством скрывать настоящее положение дел и не заботиться о том, что о нем говорят в обществе. Его норгэмптонские избиратели не были знакомы с фактами, но знали его правдивым, благородным человеком, и эти злые нападки на его личный характер доводили их до бешенства, Во время избирательной агитации произошло несколько стычек из-за этих клевет, и в борьбе с такими низкими орудиями врагов, народ потерял всякую власть над своими страстями. Когда м-р Брэдло сидел совершенно обессиленный в отеле после объявления результата выборов, хозяин вбежал к нему, умоляя его выйти к толпе и постараться успокоить ее, потому что иначе дело может дойти до кровопролития в «Пальмерстоне», где жил м-р Фаулер; толпа осаждала двери и бросала камни в окна. Позабывши свою усталость, м-р Брэдло вскочил на ноги и поспешил на защиту тех, которые оскорбляли его и одержали теперь победу над ним. Ставши сам у входа, где только что сняли и разбили дверь, он повалил несколько человек из самых неистовых громителей, оттиснул толпу назад, успокоил ее убеждениями и порицанием и наконец, рассеял ее. Но в девять часов ему нужно было уехать из Нордгэмптона, чтобы поспеть на пароход в Америку в Квинстоун, и когда узнали об его отъезде, подавленный им мятеж снова разгорелся. Наконец, вмешалась полиция, прочитано было постановление о мятежах, вызваны солдаты, полетели камни, расшибались головы и окна, но никаких серьезных последствий стычка не имела. Больше всего пострадали «Пальмерстон» и типография «Mercury», органа вигов; в них совершенно исчезли окна и двери. На следующий день после выборов я вернулась домой и серьезно заболела воспалением легких. Вскоре после моего выздоровления я оставила Норвуд и поселилась в маленьком домике в Бэзуатере, где оставалась до 1876 г.
В том же году (1875), когда я выступила с пропагандой свободомыслия, основано было теософическое общество. Я часто с удовольствием вспоминала впоследствии, что в то время, когда я начала свою ораторскую деятельность в Англии, Е. П. Блаватская работала в Америке, подготовляя почву для образования теософического общества, которое и было основано в ноябре 1875 г.
Открытое чтение лекций я: начала в South Place Chapel в январе 1875 г.; м-р Монкюр Конвэй был председателем. В «National Reformer» 17-го января появилось извещение, что м-сс Анни Безант («Аякс») прочтет лекцию «о гражданской и религиозной свободе». Таким образом я отбросила свой псевдоним и вышла на поле битвы, с поднятым забралом. Диалектическое общество в течение многих лет устроивало свои собрания в помещении, нанимаемом у клуба социальных наук. Когда члены начали собираться, как всегда, 17-го февраля, дверь оказалась закрытой и им пришлось оставаться на лестнице. Выяснилось, что не прочтенная еще лекция «Аякса» показалась нестерпимой дли слабых нервов «социальных наук» и вход в обычную залу заседания был закрыт на этот раз и навсегда членам диалектического общества. Последние перекочевали вместе с «Аяксом» в отель Charing-Cross.
12-го февраля я в первый раз отправилась читать лекции в провинцию, и устроив в тот же вечер собрание в Биркенгэде, поехала ночным поездом дальше в Глэзгоу. Там происходили какие-то бега, кажется собачьи и многие из пассажиров, толпящихся на дебаркадере, были грубы и неприятны. Моим знакомым удалось все-таки найти мне купе и они не отходили от меня до отхода поезда. Но уже когда поезд двинулся, дверца вагона шумно распахнулась и кондуктор впихнул пассажира, который шатаясь уселся на диван. Придя немного в себя, он встал, и рассыпав по полу деньги, которые держал в руке, мутным взором глядел в пространство. Я с ужасом увидела, что он пьян. Положение мое было не из приятных, так-как поезд был курьерский и остановка предстояла очень не скоро. Мой неприятный спутник ползал несколько времени по полу, собирая рассыпавшиеся деньги; затем он медленно поднялся и обратил внимание на присутствие еще одного человека в купе. Он несколько времени пристально глядел на меня и затем предложил закрыть окно. Я кивнула головой в знак согласия, не желая вступать с ним в разговор и чувствуя смертельный ужас от сознания, что очутилась среди ночи в курьерском поезде наедине с человеком, недостаточно пьяным, чтобы быть беспомощным, но слишком пьяным, чтобы владеть собой. Никогда до того и никогда с тех пор я не ощущала такого ужаса. Я вижу его до сих пор, еле держащегося на ногах, с блуждающими глазами и отвисшим ртом; я же сидела не двигаясь и наружно совершенно спокойная, как это всегда бывает со мной в опасности, прежде чем я вижу возможность исхода, и только нащупывала в кармане перочинный ножик, приняв отчаянное решение пустить в ход это слабое оружие при первой надобности. Мой сопутчик стал подходить ко мне, когда вдруг послышался резкий шум и поезд замедлил ход.
– Что это? – промолвил мой пьяный сопутчик.
– Это тормозят, чтобы остановить поезд, – ответила я медленно и спокойно, хотя чувство облегчения, которое я ощущала, еле позволяло мне отчетливо произносить каждое слово.
Пьяный уселся с тупым видом глядя на меня, а чрез несколько минут поезд подъехал к станции – остановка была следствием поданного сигнала. Моя неподвижность сразу исчезла. Я побежала к окну, подозвала кондуктора и быстро сказала ему, что путешествую одна и очутилась в купе с полупьяным человеком. С обычной вежливостью железнодорожных служителей, он перевел меня в другое купе, перенес туда мой багаж, закрыл меня на ключ и наведывался ко мне. на каждой станции, пока мы не прибыли благополучно в Глэзгоу.
В Глэзгоу мне наняли комнату в отеле общества трезвости, и мне показалось до того необычайным и грустным очутиться вдруг одной, одинешенькой в чужой гостинице и в чужом городе, что и готова была разрыдаться. Это чувство, которому я не хотела поддаться из гордости, зависело, вероятно, отчасти от серого и неприглядного вида окружавшей меня обстановки. Теперь все это изменилось, но в то время гостиницы общества трезвости были крайне неопрятны. Воздержание от спиртных напитков и грязь не стоят, казалось бы, в связи одно с другим, но все-таки мне редко случалось бывать в гостиницах общества трезвости, в которых вода употреблялась бы в больших количествах для иной цели, чем для питья. Из Глэзгоу я отправилась на север, в Абердин, где меня встретила строгая, требовательная аудитория. Ни один звук не прерывал молчания, когда я вошла в залу и поднялась на эстраду; осмотрительные шотландцы не намеревались аплодировать неведомой ораторше с первого взгляда на нее; им нужно было сначала узнать, какова она. Они слушали угрюмые и молчаливые; я не могла тронуть их; они были созданы из гранита, подобно ихнему городу, и минутами мне казалось, что я рада была бы снять с себя голову и бросить ею в них, лишь бы прошибить эту крепкую стену. Около двадцати минут спустя какая-то удачная фраза вызвала шиканье одного из пресвитерьянцев. Я не замедлила ответить на вызов, это вызвало взрыв рукоплесканий, и лед растаял. Никогда с тех пор я не имела основания жаловаться на холодность абердинской аудитории. Обратный путь из Абердина в Лондон был тяжелым и длинным; мне приходилось ехать третьим классом в холодную февральскую погоду. Но все эти трудности содержали в себе долю радости, которая искупала все физические неудобства и сознание того, что я нашла себе дело, вносило в жизнь новую отраду.
28-го февраля я в первый раз появилась на эстраде в научном клубе в Лондоне, и была встречена с той теплотой и задушевностью, с которой свободомыслящие всегда готовы встретить всякого, кто приносит жертвы для того, чтобы вступить в их ряды. Зала этого клуба соединяется в моем уме с воспоминанием о многих тяжких столкновениях, о победах и поражениях, при чем побежденная или победительница, я всегда встречала там радушный привет. Любовь и преданность, с которой эти товарищи по убеждению поддерживали меня, вознаграждали меня в стократ за те слабые услуги, которые я имела возможность оказывать делу свободы; это дружеское отношение препятствовало возникновению какой либо горечи в моей душе по поводу неприязни некоторых, которые, быть может, забыли справедливость и доброе чувство. На здоровье мое ораторская деятельность оказала укрепляющее влияние. У меня всегда была несколько слабая грудь и когда я обратилась к доктору с вопросом, выдержу ли длинные часы лекций и речей, стоя на эстраде, он ответил: «это или вылечит или убьет вас». На самом деле это окончательно вылечило слабость легких и я сделалась сильной и здоровой, между тем как прежде всегда отличалась слабостью и болезненностью.
Было бы скучно передавать шаг за шагом историю восемнадцати деть моей ораторской деятельности; поэтому я избирала только несколько инцидентов, иллюстрирующих целое. И замечу также кстати, что часто мне и другим делали упреки, что нас привлекает к пропаганде выгодность пропаганды. Упрек этот противоречив почти до комичности истине. Однажды, я провела неделю в Нортумберлэнде и Дергэме, прочла двенадцать лекций и в результате оказался дефицит в одиннадцать шиллингов. Конечно, нечто подобное не могло повториться в позднейшие годы, когда, благодаря упорному труду, я создала себе имя, но я думаю, что каждый из моих единомышленников может вспомнить подобные же инциденты из времени своих дебютов. Несомненно, что каждый из нас, начиная, с м-ра Брэдло и до самого незначительного из его сподвижников, мог бы гораздо легче найти себе хороший заработок во всякой другой области труда и пользоваться при этом всеобщим одобрением, вместо нападок, которыми их осыпало общество. Я много читала в первые годы в Нортумберлэнде и Дергэме; рудокопы, живущие там, в большинстве случаев хитрый и упрямый народ, но к тем, кому они доверяют, они относятся с большой сердечной теплотой. В Сегилле и Бедлингтоне мне часто приходилось ночевать у них в хижинах и обедать у них за столом. Я ясно вспоминаю один вечер, когда мой хозяин, сам рудокоп по ремеслу, пригласил около дюжины товарищей ужинать вместе со мной. Разговор шел о политике и вскоре я убедилась, что мои собеседники более сведущи в английской политике, лучше понимают политические метода и, в общем, более интересны, чем большинство обыкновенных людей, которых приходится встречать на званых обедах в так называемом «обществе». Они принадлежали к неинтеллигентному классу, презираемому «джентльменами» и не имели внешних достоинств последних, но в политическом отношении они были гораздо более развиты и подготовлены к исполнению гражданского долга. Я так же отлично помню, как тряслась десять миль на повозке мясника, отправляясь читать лекции в каком-то отдаленном от железной дороги местечке. На каменистой и крутой дороге нас так растрясло, что у меня ныли все кости и мне казалось, что, выйдя на эстраду, я упаду наземь, как мешок, на половину наполненный камнями. Как эти радушные, добрые рудокопы были добры ко мне, как заботились о моих удобствах и с каким материнским участием относились ко мне женщины! Да, если мои противники, не знавшие меня лично, были часто злы и жестоки по отношению ко мне, то я находила вознаграждение в любви и почете, которым окружали меня простолюдины всей Англии: их привязанность брала верх над ненавистью и облегчала часто мое усталое, страдающее сердце.
Во время чтений в Лейчестере, в 1875 г., я натолкнулась на первый пример искажения истины врагами, и это доставило мне больше страдания и горя, чем это можно выразить. Один из моих ярых клерикальных противников объявил в прениях, следующих за лекцией, что я автор книги под заглавием «элементы социальных наук». Я никогда не слыхала об этой книге, но когда он заявил, что она стоит за отмену брака, и прибавил, что м-р Брэдло согласен с автором книги, я поспешила возразить ему. Не будучи знакома с книгой, я была хорошо знакома с взглядами м-ра Брэдло и знала, что в вопросе о браке он был скорее консерватором, чем революционером. Он был врагом учения «свободной любви» и открыто содействовал агитации, которую так героически вела в течение многих лет м-сс Иосифина Бутлер. Вернувшись в Лондон после лекции, я, конечно, навела справки о книге и её содержании, и узнала, что она написана одним доктором медицины несколько лет тому назад и прислана для отзыва в «National Reformer», так же как и в другие журналы и газеты. Книга состояла из трех частей – первая защищала с медицинской точки зрения то, что принято называть «свободной любовью»; вторая часть была чисто медицинская; третья состояла из ясного изложения закона о росте народонаселения по теории Rev. м-ра Мальтуса и – идя по следам Дж. Стюарта Милля – доказывала, что состоящие в браке обязаны добровольно ограничивать количество детей сообразно с своими средствами к существованию. М-р Брэдло, разбирая книгу, сказал, что она написана «с честной и чистой целью», и рекомендовал рабочим книгу для ознакомления с теорией роста народонаселения. Его враги воспользовались этой рекомендацией и объявили, что он разделяет взгляды автора на временность брачного союза и, несмотря на его неоднократные протесты, они приводили изречения против брака из книги, как взгляды самого м-ра Брэдло. Гнуснее такого образа действия ничего нельзя придумать, но таковы были на самом деле орудия, которые употреблялись против него в течение всей его жизни, причем нападавшие на него очень часто представляли самый невыгодный контраст с ним. Не находя никакого предлога к обвинениям в его писаниях, они воспользовались этой книгой, чтобы уронить его в глазах тех, которые не были знакомы с его взглядами из первых рук. Его враги опасались не его взглядов на брак – в этом отношении, как я уже упоминала, он был консерватором, – а его радикализма. Чтобы дискредитировать его как политического деятеля, они старались запятнать его в глазах общества с нравственной стороны, а для этого утверждение, что человек стремится «уничтожить брак и семью», самое подходящее орудие, которое должно непременно нанести рану. Это было источником его самых тяжелых конфликтов, еще более усилившихся вскоре вследствие его защиты теории Мальтуса. На меня тоже обрушились те же нападки и я вдруг очутилась оплеванной за взгляды, которых совершенно не разделяла.
Чтение лекций и дело пропаганды сопровождалось часто печальными инцидентами в то время. В Даруэне, в Ленкешире, в июне 1875 года, бросание камней считалось дозволенным аргументом против излагающей свои взгляды. В Свэнси, в марте 1876 г., опасность буйного отношения слушателей была настолько велика, что хозяин потребовал ручательства за невредимость помещения и ни один из моих знакомых в городе не решился брать на себя председательство на моей лекции. В сентябре 1876 г., в Гойлэнде, вследствие происков м-ра Геббльтвэта, методиста старинного образца, и двух протестантских миссионеров, зала, куда я пришла читать лекцию, оказалась переполненной толпой, которая встретила меня ревом, обступала эстраду, грозила мне кулаками и вообще выказывала больше жара, чем сочувствия. Воспользовавшись наступившей на минуту паузой, я начала говорить, и шум сменился тишиной. Но когда я уходила из залы, шум возобновился и я медленно пробиралась к выходу среди толпы, которая бесновалась, грозила и наступала на меня, при чем, однако, те, которые были ближе всего, почему-то отступали и очищали мне дорогу. Выйдя из залы на улицу, толпа сделалась еще отважнее в темноте и стала подступать ко мне с кулаками; но один только из направленных на меня ударов достиг меня и попытки опрокинуть коляску не удались, благодаря кучеру, который пустил лошадей во всю прыть. Несколько позже м-р Брэдло и я были вместе в Конгльтоне, куда нас пригласили м-р и м-сс Кольстенгольм-Эльми. М-р Брэдло говорил на митинге в тот же вечер под аккомпанемент летящих в дребезги окон, и я, сидя с м-сс Эльми около эстрады, получила сильный удар в затылок от камня, брошенного кем-то в залу. От места собрании до нашего дома нужно было пройти версты полторы и все время за нами шла толпа, бросая камни, распевая из всех сил гимны и прерывая их от времени до времени проклятиями и ругательствами. На следующий вечер я читала лекцию и наша свита бросающих камни поклонников проводила нас до самой залы собрания. Среди лекции кто-то крикнул: «Вон ее!» и известный в околотке силач по имени Бербери, который пришел на митинг вместе с несколькими друзьями только для того, чтобы мешать, встал как по сигналу против эстрады и громким голосом прервал меня. М-р Брэдло, занимавший председательское кресло, пригласил его сесть и когда он все-таки продолжал мешать, объявил ему, что нужно или сидеть спокойно, или выйти из залы. «Выведете меня!» крикнул Бербери, становясь в вызывающую позу. М-р Брэдло сошел с эстрады, подошел к буяну, который тотчас же бросился на него и хотел его повалить. Но он не принял в соображение громадной физической силы своего противника и когда свалка кончилась, Бербери оказался побежденным. Среди всеобщего возбуждения он был оттеснен к двери, при чем м-р Брэдло пользовался им же, чтобы оттеснить его товарищей, порывающихся вступиться за него; у дверей он сдан был, наконец, полиции. Председатель вернулся тогда к своим нормальным функциям, обратившись ко мне с кратким внушением: «Продолжайте». Я стала говорить дальше и смогла спокойно закончить лекцию. Но когда мы вышли на улицу, начиналось опять бросание камней и один из них расшиб висок м-сс Эльми. Постепенно этот бурный элемент нашей деятельности ослабевал и то, что я испытала в этом отношении, сущие пустяки сравнительно с приключениями моих предшественников. Первые раза появления м-ра Бредло на эстраде сопровождались серьезными свалками и точно также м-сс Гэрриет Ло, очень энергичная и талантливая ораторша, пережила не один бурный вечер, когда читала лекции и произносила речи.