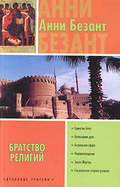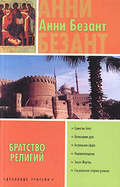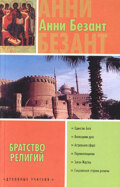Анни Безант
Исповедь
Глава IV
Замужняя жизнь
Последний год моей девической свободы приближался к концу. Как объяснить мне здравомыслящим читателям, каким образом я сделалась невестой прежде чем мне минуло девятнадцать лет, и почему я была замужней женщиной-ребенком, когда мне исполнилось двадцать лет? Оглядываясь назад на то, что происходило двадцать-пять лет тому назад, я чувствую глубокую жалость к девушке, переживавшей тогда критический момент жизни с таким беспомощным непониманием брака, полной таких неисполнимых грез и совершенно не подходящей к роли жены. Я уже говорила, что в мечтаниях моей юности любви уделялось мало места, отчасти вследствие того, что мне не приводилось читать романов, отчасти потому что я преисполнена была мистических порывов.
Все девушки носят в себе зародыш страсти и развитие её зависит от характера, приносимого ими в жизнь, и от влияний окружающей обстановки. У меня в детстве и юности были два идеальных образа, на которые обращены были нежные всходы страсти – моя мать и Христос. Я знаю, что это сопоставление покажется странным, но я стараюсь восстановить факты моей жизни такими, как они были, а не придавая им условного освещения. У меня были друзья среди мужчин, но не было ухаживателей, – по крайней мере, насколько я тогда знала; впоследствии я слыхала, что у моей матери несколько раз просили моей руки, но она каждый раз отклоняла предложения в виду моей крайней молодости; я имела друзей, с которыми охотно беседовала, потому что они знали гораздо больше чем я, но им не было уделено места в моих грезах. Все мои мысли направлены были на идеал божественного совершенства во Христе, и я мечтала сделаться сестрой в какой-нибудь общине, чтобы посвятить всю свою жизнь культу Христа и служению Его бедным. Я знала, что мать будет противиться осуществлению этой мечты, но мысль об избавлении от суетности обыденной жизни какой-нибудь великой жертвой неудержимо влекла меня.
Одним из результатов подобного взгляда на религию является идеализация священника, посланника и избранного служителя Божия. Выше всякого титула, дарованного земными монархами, кажется это отличие, пожалованное как бы самим «Королем над королями»; с ним на простого смертного нисходит божественное величие и венчает голову священнослужителя венцом тех, кто входит в число «королей и священников Божиих». При подобном понимании священнического сана, положение жены пастора, уступающее только идеалу монашеской жизни, казалось в высшей степени привлекательным, самая же личность избираемого пастора играла при этом второстепенную роль: «священный сан», близость к «святым вещам», благословение Божие, которое, казалось, простирается и на жену – все это придает пасторской жизни обаяние в глазах тех, которые склонны к самопожертвованию и имеют сильно развитое воображение. Обаяние это особенно сильно действует на живые умы, чистые сердца и души, отзывчивые на всякий благородный порыв, на всякий призыв к личному самопожертвованию. Когда впоследствии эти чуткие души достигают тех высших ощущений, тени которых манили их, когда они доходят до подвигов самопожертвования, о которых в юности до них доходили только слабые отзвуки, тогда покрывало ложного пророка падает и обнажает скудость его духовных сил; жизнь оказывается загубленной или же среди непогоды и бушующих волн она теряет мачты и паруса, но достигает, наконец, спасительной гавани, обретая более высокую веру.
Летом 1866 г. я сделалась невестой молодого пастора, которого встречала весной в миссионерской церкви, при чем наше знакомство было очень поверхностным. Мы провели неделю в обществе друг друга и были единственными молодыми членами небольшого общества, проводящего вместе летние праздники. Во всех прогулках, катаниях верхом и в экипажах мы естественным образом составляли неразлучную пару. За несколько часов до своего отъезда он сделал мне предложение, считая мое согласие несомненным в виду того, что я допускала его постоянное сообщество в течение недели. Относительно других девушек такое предположение было бы совершенно справедливым, но оно было ошибочно в применении ко мне, занятой совершенно иными мыслями. Я была поражена его предложением и моя чуткая гордость была задета тем, что при строгости моих принципов могло казаться обвинением в кокетстве; не решаясь последовать внушению первой минуты и ответить отказом, я уклонилась от всякого ответа. М-ру Безанту нужно было спешить на поезд и он успел только взять с меня слово держать все происшедшее в тайне до тех пор, пока он сам не переговорит с моей матерью. Он авторитетно заявил, что было бы неблагородно с моей стороны выдать его тайну, и уехал, оставив меня в полном отчаянии. Последовавшие затем две недели принесли мне первые нравственные страдания в жизни – у меня была тайна от матери и, несмотря на все мое страстное желание рассказать ей все, я не решалась сделать этого из опасения совершить нечестный поступок. Встретившись с пастором Безантом по возвращении в Лондон, я решительно отказалась от дальнейшего соблюдения тайны, и затем из какой-то непонятной слабости и опасения причинить страдания, я очутилась невестой человека, к которому не чувствовала и не выказывала никакой любви. Несколько месяцев прошло прежде чем мать моя согласилась на официальное обручение; она говорила, что я слишком еще ребенок, чтобы связывать себя словом. Мое внутреннее сопротивление при мысли о замужестве бледнело перед возникающей перспективой стать женой священника и трудиться на пользу церкви и неимущих. У меня не было случая утолить возрастающую жажду полезного труда пока я жила в мирной и счастливой домашней обстановке; религиозный энтузиазм изгонялся моей матерью как все резкое и неуравновешенное. Все что было истинно глубокого и правдивого в моем характере возмущалось против беспечности и бесполезности моего образа жизни; я жаждала труда, стремилась всей душой посвятить себя, как это делали святые, служению церкви и неимущим, борьбе против греха и нищеты. Какими ничего не говорящими словами были для меня тогда грех и нищета! «Положение жены пастора дает больше возможности приносить пользу, чем всякое другое» – этим доводом меня можно было убедить легче всего.
Осенью состоялось официальное обручение и четырнадцать месяцев спустя я вышла замуж. Во время промежутка между обручением и свадьбой я раз попыталась порвать с женихом, но когда я заикнулась об этом матери, вся её гордость возмутилась против моих слов. Неужели я, её дочь, смогу не сдержать слова и запятнать себя обманом по отношению к человеку, которому дала слово стать его женой? Моя кроткая мать умела быть настойчивой, когда дело шло о вопросе чести, и я уступила её желанию, привыкши видеть закон в каждом взгляде или слове её, если только это не касалось религии. Таким образом я вышла замуж зимой 1867 г., не имея более ясного представления о браке, чем четырехлетний ребенок. Моя жизнь протекала до тех пор в мире фантазий, в которые не проникало никакое представление о зле; я была ограждена от всяких страданий и забот, была в полном неведении относительно брачной жизни, не была подготовлена к ней и очутилась вполне беззащитной, когда у меня внезапно открылись глаза на действительность. Вспоминая об ощущениях того времени, я настойчиво утверждаю, что не может быть более рокового заблуждения, чем воспитание девушек в неведении обязанностей и трудностей предстоящей им в замужестве жизни; тем труднее приходится им, когда жизненный опыт застигает их вдали от привычной обстановки, от старых друзей, от прежнего убежища на груди матери. Эта «безграничная невинность», быть может, красива и привлекательна, но обладание ею крайне опасно, и Ева должна познать добро и зло прежде чем она покидает эдем материнской любви. Много несчастных браков происходит от впечатлений первой поры совместной жизни, от сотрясения, испытываемого чуткой душой чистой, невинной девушки, от её беспомощного возмущения и охватывающего ее ужаса. Мужчины, воспитанные в гимназиях и университетах, и познавшие жизнь в сношениях с окружающим миром, едва ли в состоянии допустить возможность истинно детского неведения во многих девушках. Тем не менее такое неведение существует, у некоторых девушек по крайней мере, а матери должны бы были уберегать своих дочерей от слепого подчинения супружескому игу.
Прежде чем покончить с спокойной порой девичества и начать повествование о бурном жизненном пути, я должна упомянуть об одном происшествии, отмечающем пробуждение во мне интереса к внешнему миру политической борьбы. Осенью 1867 г. мать моя вместе со мной гостила у наших близких друзей Робертсов в Пендльтоне, близ Манчестера. Робертс был «адвокатом бедного люда», как его с любовью называла не одна сотня людей. Он был близким другом Эрнеста Джонса и всегда был готов отстоять бедного человека совершенно безвозмездно. Он принимал деятельное участие в агитации против работы женщин в рудниках. Часто рассказывал он мне, как он сам видел женщин, работающих не по силам, обнаженных до пояса и в юбках, едва доходящих до колен; грубые, говорящие площадным языком, они утратили всякое представление о женской скромности и грации. Видел он также работающих там же маленьких детей, трех и четырех лет, поставленных караулить двери; они иногда засыпали от изнеможения и тогда их будили руганью и пинками, заставляя вновь приниматься за непосильный труд. Глаза старого адвоката блистали и голос его громче звучал, когда он говорил об этих ужасах, но затем лицо его просветлялось, когда он прибавлял, что после того, как все было кончено и рабству положен был предел, ему приходилось бывать в каменноугольных местностях, и женщины, стоя у дверей, брали на руки детей, показывая им адвоката Робертса и посылая ему вслед приветствия и благословения за то, что он сделал. Этот милый старик был моим первым наставником в общественных вопросах и я была понятливой ученицей. Я не интересовалась политикой, но бессознательно проникалась взглядами окружавших меня людей. Я смотрела на рабочий класс, как на людей, которых нужно обучать, о которых нужно заботиться и всегда обращалась с ними с большой вежливостью, зная, что мне, как леди, следует относиться с одинаковой учтивостью ко всякому человеку, будь он богат или беден. Но для м-ра Робертса «бедные» были рабочими пчелами, производителями богатства, имевшими право на самоуправление, а не на то, чтобы о них заботились, на справедливое к ним отношение, а не на благотворительность, и он проповедовал мне эти идеи при всяком удобном и неудобном случае. Я была его любимицей и часто отвозила его по утрам в контору, очень гордясь тем, что мне доверяли править лошадью по многолюдным улицам Манчестера. «Какого вы мнения о Джоне Брайте?» вдруг спросил он меня однажды, пристально глядя на меня из под нависших бровей. «Я никогда не задумывалась о нем», был мой небрежный ответ. «Это, кажется, невоспитанный господин, постоянно затевающий скандалы?» «Ну да, я так и знал», накинулся он на меня. «Я всегда это говорил. Все вы, благовоспитанные девицы, не дошли бы в рай, если бы там пришлось соприкоснуться с Джоном Брайтом, самым благородным борцом за народное дело».
Таков был этот вспыльчивый и милый «демагог», как его называли, в доме которого мы гостили, когда полковник Келли и капитан Дизи, два фенианских вождя, были арестованы в Манчестере и преданы суду. Все ирландское население пришло в волнение; 18-го сентября полицейский возок, в котором их везли в сальфордскую тюрьму, должен был остановиться под железнодорожным мостом в Бельвю, потому что внезапно упала одна из лошадей, подстреленная кем-то по дороге. Чрез минуту возок был окружен и пущены в ход отмычки, чтобы открыть дверцу воска. Она сопротивлялась; целый отряд полицейских приближался на помощь осажденным и необходимо было открыть дверцу, чтобы дать узникам время скрыться. Нападающие крикнули конвойному Бретту, сидящему внутри, чтобы он передал ключи. Он не соглашался и кто-то крикнул: «прострелить замок!» Чрез минуту дуло револьвера было приставлено к замку и он отлетел; но Бретт, который нагнулся, чтобы посмотреть через скважину замка, получил пулю в голову и упал замертво в тот момент, когда дверь открылась. В одну минуту Эллен, семнадцатилетний юноша, выломал дверцы отделений, занятых Келли и Дизи и вытащил их оттуда; в то время, как двое или трое помогали им добраться до верного убежища, остальные бросились промеж беглецов и полиции, и с револьверами в руках отстояли безопасность их побега. Когда фенианские вожди благополучно скрылись, остальные стали расходиться и молодой Виллиам Эллен, который думал только о своих вождях, выстрелил из своего револьвера на воздух, не желая проливать крови для своей собственной защиты. Обезоруженный по своей собственной вине, он попался в руки полиции, которая повалила его, избила и отвела его ослабевшего и покрытого кровью в тюрьму, где он встретил нескольких товарищей совершенно в таком же положении, как он сам. Тогда Манчестер совершенно сошел с ума, и расовая ненависть вспыхнула ярким пламенем; ирландскому рабочему опасно было очутиться в толпе англичан, англичанину рискованно было попасть в ирландский квартал. Друзья заключенных осаждали дом «адвоката Робертса», прося его заступиться за них, и он отдался со всей своей страстностью защите их дела. Человек, который по чистой случайности убил конвойного, успел благополучно скрыться и никто из других не причинил серьезных увечий людям. Назначена была специальная комиссия под председательством судьи Блэкборна – «вешателя», как с возмущением называл его м-р Робертс, и вскоре она прибыла в Манчестер, несмотря на все старания м-ра Робертса изменить место разбирательства; он знал, что в Манчестере трудно было рассчитывать на справедливый разбор дела. 25 октября заключенные предстали пред своими судьями, закованные в кандалы, и м-р Эрнест Джонс, их защитник, напрасно протестовавший против этого нового оскорбления, отказался от защиты и вышел из залы заседания. Следствие шло с такой быстротой, что 29 октября Эллен, Ларкин, Гульд (О'Брайн), Магир и Кондон сидели на скамье подсудимых, обвиненные в убийстве.
Первый раз мне привелось увидеть разъяренную толпу в тот день, когда мы поехали в суд; на улицах были баррикады, солдаты стояли с оружием в руках, вход в здание суда охранялся военными отрядами. Внезапно нашу коляску, едущую шагом, остановила ирландская часть толпы, и по окнам раздались удары могучих кулаков и ругательства по адресу «проклятых англичан, отправляющихся смотреть, как будут убивать молодцов». Положение становилось критическим, потому что в карете нас сидело три пожилые женщины и две молодые девушки; тогда меня осенила мысль, что толпа просто не знает, кто мы, и дотронувшись до одной из угрожающих нам рук, я сказала тихим голосом: «Друзья, это жена и дочери м-ра Робертса». «Робертса! адвоката Робертса! Да благословит его Господь! Пропустите его карету!» И все угрожающие лица осветились приветливой улыбкой, проклятия сменились благословениями и дорога к суду была мгновенно очищена для нашей коляски.
Увы! если за оградой здания суда толпа была возбуждена сочувствием к заключенным, то в зале заседания общее настроение было против них и при самом открытии разбирательства обнаружилось враждебное отношение прокурора и членов суда. Защитниками назначены были Дигби Сэймур и Эрнест Джонс и м-ру Робертсу казалось, что они недостаточно пользуются своим правом отвода присяжных заседателей; он знал, как и мы все, что многие из назначенных присяжными громогласно заявили о своей ненависти к ирландцам, и м-р Робертс настаивал на их отводе в противоположность к пассивному отношению защитника. Тщетно судья Блэкборн грозил арестовать мятежного адвоката. «Дело идет о жизни этих людей, милорд», с возмущением ответил он. «Выведите этого человека!» приказал взбешенный судья, но когда судебные пристава приблизились медленным шагом – они разделяли общую всему бедному люду любовь и уважение к этому неустрашимому борцу, – судья вдруг отменил свое распоряжение и позволил ему остаться в зале.
Несмотря на все старания м-ра Робертса, в составе присяжных оказался один человек, объявивший, «что ему безразлично, что бы ни доказало следствие и что он рад бы был повесить всех этих ирландских негодяев». Последствия показали, что не он один придерживался этого взгляда, потому что допущены были самые гнусные свидетельские показания; женщины самого низкого разряда призваны были в свидетельницы и их показания принимались безапелляционно; этим путем разбито было доказательство alibi Магира, признанное впоследствии высшей инстанцией и вернувшее свободу обвиненному. Ничего не могло спасти сужденных заранее людей от ожидавшего их приговора; с того места, где я сидела, я ясно видела, как в маленькой комнатке, за залой заседания, судебный служитель хладнокровно приготовлял еще задолго до произнесения приговора черные шапочки для подсудимых. Приготовленный заранее ответ «виновен» был повторен относительно каждого из пяти подсудимых, и подсудимые были спрошены, согласно обычаю, не могут ли они что-нибудь сказать в защиту от смертного приговора. Юноша Эллен произнес очень отважную и мужественную речь, сказал, что он выстрелил только на воздух и что если бы он выстрелил как следует, то, быть может, смог бы спастись; затем он прибавил, что помогал спасти Келли и Дизи, не сожалеет об этом и готов умереть за Ирландию. Магир и Кондон заявили, что не были на месте происшествия, но что они готовы, как и Эллен, умереть за отечество. Смертный приговор был произнесен и как эхо на саркастическое «Да смилуется Господь над вашими душами»! пять отчетливых голосов, ни на минуту не вздрогнувших от страха, произнесли хором «Боже, спаси Ирландию»! и осужденные исчезли один за другим из виду прежде, чем я успела отвести полные слез глаза от их скамьи.
После этого наступило грустное время. Тяжело было видеть отчаяние несчастной невесты Эллена, которая на коленях умоляла нас «спасти её Виллиама». Ничего невозможно было сделать для отмены приговора и 23 ноября Эллен, Ларкин и О'Брайн были казнены чрез повешение на дворе Сальфордской тюрьмы. Если бы они были борцами за свободу Италии, Англия осыпала бы их почестями; на своей же родине она похоронила их как простых убийц в глинистой земле тюремного двора.
Я узнала гораздо позже с большим удовольствием, что м-р Брэдло и я были в 1867 г. до некоторой степени сообщниками, хотя и не знали о существовании друг друга, при чем, конечно, он сделал тогда очень многое, а я могла только выказать участие к осужденным, как девушка, впервые познавшая гражданские обязанности. В «National Reformer», 24 ноября, я прочла речь, произнесенную м-ром Брэдло в защиту обвиняемых в Клеркенвиль Грине. Еще раньше, в октябре, он напечатал горячую статью, отстаивая независимость Ирландии.
В декабре 1867 г. я оставила тихую пристань счастливой и безмятежной девичьей поры и очутилась среди бурного моря жизни, волны которого нахлынули на меня тотчас же. Я и мой муж оказались с самого начала неподходящими друг к другу. У него были очень строгие понятия об авторитете мужа и покорности жены; он придерживался теории о том, что муж глаза дома, и обращал большое внимание на подробности в домашнем быту, был точен, методичен, часто выходил из себя и с трудом успокаивался. Я же, привыкшая к свободе, была равнодушна к подробностях в хозяйстве, порывиста, вспыльчива и горда как дьявол. Мне никогда не приходилось слышать резкого слова к себе, никто мне не приказывал, мне всегда старались облегчить путь ко всему, и ни одна забота не касалась меня до тех пор. Резкость вызвала во мне сначала изумление, потом слезы негодования, а спустя несколько времени гордое, вызывающее сопротивление, холодное и твердое как железо. Легкомысленная, веселая, восторженная девушка превратилась и очень живо превратилась – в серьезную, гордую, сдержанную женщину, хоронившую глубоко в своем сердце все надежды, опасения и разочарования. Я по всей вероятности была плохой женой с самого начала, хотя мне кажется, что при другом обращении, я понемногу превратилась бы в удовлетворительную подделку под общераспространенный тип жен. Но печальным началом моей новой жизни было полное неведение, с которым я вступила в нее, и которое было причиной моих первых впечатлений ужаса и обиды. Кроме того, я понятия не имела о хозяйстве и об экономном обращении с деньгами – я прежде никогда не получала карманных денег и ни разу не купила себе хотя бы пары перчаток. При всем своем желании исполнять хозяйственные обязанности, я не умела возиться с мелочами, старалась поскорей сделать, что было необходимо, и вернуться к своим излюбленным книгам. В душе я постоянно тосковала о матери, хотя и не высказывала этого, убедившись, что это возбуждает ревность и злобу в моем муже. К окружающим меня чужим людям я не чувствовала никакой симпатии. Меня навещали дамы, которые умели разговаривать только о детях и о прислуге – а эти вопросы были для меня крайне томительны, они же были точно так же чужды всего, что наполняло мою жизнь, вопросов религии, политики и науки, как я была далека от их разговоров о женихе горничной, о расточительности кухарки, употребляющей масло, когда можно было отлично обойтись жиром. Мудрено ли, что, живя в подобной атмосфере, я сделалась молчаливой, грустной и угнетенной?
Моя живая, увлекающаяся натура, полная энтузиазма, столь привлекательного в девушке для молодых людей, не соответствовала идеалу спокойной, удобной жены, и должна была быть очень в тягость пастору Франку Безанту. И в самом деле, мне не следовало выходить замуж, потому что в мягкой, любящей и податливой девушке скрывалась, незаметно для себя и для окружающих, женщина с строгой, настойчивой волей, с душевной силой, жаждавшей простора и возможности проявить себя, восстающей против ограничений, с страстными порывами, еле сдерживающимися под давлением. Какой неподходящий характер для подруги жизни, предназначенной для того, чтобы дополнять мирную картину домашнего очага. Que le diable faisait elle dans cette galère? часто спрашивала я себя впоследствии, оглядываясь на свою прошлую жизнь. Зачем неразумная девушка так глупо распорядилась своей жизнью? Но, вникая в жизнь своей души, я поняла те противоречия моей натуры, которые толкнули меня на ложный путь. Во мне всегда было странное сочетание слабости и силы, и я тяжело поплатилась за свою слабость. В детстве на меня находили мучительные припадки застенчивости; если у меня развязывался шнурок от ботинки, я сгорала от стыда и была уверена, что все взоры обращены на злополучный шнурок. Молоденькой девушкой я избегала общества чужих, считала себя ненужной никому, никем не любимой, и чувствовала живую благодарность ко всякому, кто выказывал мне расположение. Сделавшись самостоятельной хозяйкой, я боялась своей прислуги, и предпочитала удовлетвориться дурноисполненной работой, чем делать, выговор за нее. Даже в то время, когда я уже говорила на собраниях и вела диспуты с большим жаром, я часто терпела неудобства в отелях, лишь бы только не призывать лакея и не отдавать приказаний. Готовая к борьбе с трибуны, в защиту дорогого мне дела, я боюсь ссор и разногласий в домашнем быту и, будучи хорошим борцом на митингах, я очень нерешительна в частной жизни. Как часто я проводила тягостные минуты, собираясь с духом, чтобы сделать выговор кому-нибудь из подчиненных мне, когда этого требовал долг, и как часто, с другой стороны, я упрекала себя за малодушие и отсутствие ораторской силы, если не решалась высказать строгое порицание какому-нибудь юноше или молодой девушке за небрежное отношение к работе. В жизни достаточно было неприветливого взгляда или слова, чтобы я уходила в себя, как улитка в раковину, между тем как в публичных диспутах возражения возбуждали во мне красноречие. Вследствие этого, я и вступила в брак слепым и глупым образом и переносила душевные страдания около года; после того, пробужденная резким и несправедливым отношением, онемевшая и застывшая от неожиданности первых впечатлений жизни, я окружила себя ледяной стеной, за которой переживала нравственную муку, чуть не убившую меня; только с течением времени я научилась жить и работать в панцире, от которого отскакивают удары, оставляя не уязвленным защищенное тело, и этот панцирь я снимала только перед немногими.
Мои первые литературные попытки относятся к 1868 г.; я принялась писать в двух очень различных направлениях: стала сочинять маленькие незатейливые рассказы и предприняла в то же самое время более серьезный труд – «жизнеописания святых, значащихся под черными буквами». Считаю нужным пояснить тем, кто не сведущ в церковной организации, что англиканская церковь посвящает известное число дней памяти разных святых; некоторые из них обозначены красными буквами, и церковь празднует их установленным богослужением; другие же значатся под черными буквами, и для них не полагается особой службы. Мне показалось интересным взять каждый из этих дней в отдельности и написать биографию относящегося к нему святого; я взялась очень ревностно за эту работу и добросовестно стала собирать материал из разных исторических и легендарных источников. Совершенно не знаю судьбы этой книги; я обратилась сначала для издания её к Макмиллану, отославшему меня к какому-то издателю религиозных книг для детей; много времени спустя ко мне обратилось какое-то церковное братство, предлагая издать книгу, если я пожертвую ее в их пользу; дальнейшая участь этого первого труда мне неизвестна.
Короткие рассказы имели более счастливую судьбу. Я послала первый в «Family Herald» и несколько недель спустя получила ответное письмо; когда я распечатала конверт, из него выпал чек. С тех пор я заработала своим пером не мало денег, но никогда не чувствовала такого истинного наслаждения, как при получении этих первых тридцати шиллингов. Это были первые заработанные мною деньги и я так же гордилась самостоятельным заработком, как своим авторством. С свойственной мне тогда наивностью и утилитарным пониманием религии, я стала на колени и принялась благодарить Бога за оказанную мне милость. Я уже видела себя в мечтах зарабатывающей груды золотых гиней и сделавшейся опорой семьи. Эти деньги были «мои собственные», и мысль об этом наполняла меня приятным сознанием независимости. Я тогда еще не представляла себе всей прелести английских законов, и того достойного положения, в которое они ставят замужнюю женщину. Я не предполагала, что весь заработок замужней женщины принадлежит по закону её владельцу и что она не может владеть никакой обособленной собственностью[2]. Самые деньги мне не были нужны тогда; я только рада была иметь для раздачи деньги, принадлежащие мне лично, и мне обидно было узнать, что деньги, в сущности, не мои.
После того я от времени до времени зарабатывала по несколько фунтов стерл. в том же журнале. Ободренная этим скромным успехом, я принялась за писание романа. Он занял у меня много времени, но был наконец закончен и отослан в «Family Herald». Увы, рукопись возвращена была обратно при вежливом письме, объяснявшем мне, что повесть носит слишком сильную политическую окраску для журнала, но что если бы я написала повесть «чисто-семейного характера» и с такими же литературными достоинствами, она бы вероятно была принята. Но в то время я уже была всецело поглощена своими религиозными сомнениями и повесть «чисто-семейного характера» так и не была написана. Вторым моим вкладом в отечественную литературу была богословская брошюра, точное заглавие которой я забыла; помню только, что в ней шла речь об обязательном для всех верующих христиан соблюдении постов и что она написана была в строго ортодоксальном тоне.
В январе 1869 г. родился мой маленький сын; я болела несколько месяцев до того и потом была слишком увлечена заботами о беспомощном маленьком существе, чтобы уделять время писанию, и моя литературная деятельность на время прекратилась. Ребенок внес новый интерес и радость в мою жизнь, и так как средства не позволяли нам держать няню, все мое время было поглощено уходом за ним. Моя страсть к чтению делалась менее лихорадочной, благодаря тому, что я читала, сидя у колыбели, и присутствие малютки успокаивало мою тоску о матери.
Следующие два года не принесли ничего нового. В августе 1870 г. у меня родилась дочь, и мое выздоровление было очень тяжелым и медленным, в виду общей слабости моего здоровья в последнее время.
Мальчик был у меня здоровый и веселый, но девочка была слабой от рождения, сделавшись жертвой несчастья своей матери; она родилась преждевременно, вследствие нравственного сотрясения, пережитого мною. Когда весной, 1871 г., дети вместе заболели коклюшем, слабость Мабель чуть не сделала болезнь роковой для неё. Она была слишком маленькой для тяжкой болезни, перешедшей вскоре в бронхит и затем в воспаление легких. Несколько недель она лежала при-смерти; мы оградили ее от огня ширмой и устроили нечто вроде палатки, наполненной паром для облегчения её прерывающегося дыхания; в этой атмосфере я сидела дни и ночи, в течение этих тяжелых недель, держа на руках измученного ребенка. Я страстно любила моих детей, потому что их доверчивая привязанность облегчала мои душевные страдания и их детские глазки не могли испытующим взором заглянуть в мое горе, становившееся все тяжелее с каждым месяцем. Пропитанная парами палатка сделалась моим миром, и там я отчаянно боролась с смертью за моего ребенка. Доктор объявил положение Мабель безнадежным и сказал, что смерть наступит во время одного из припадков кашля; самым ужасным было то, что даже капля молока вызывала конвульсивный кашель, и причинение излишнего страдания казалось жестоким по отношению к умирающему ребенку. Наконец, в одно утро он объявил, что она не доживет до вечера; днем я поспешила послать за ним, потому что тело внезапно распухло вследствие каверны в одной из плевр и того, что воздух попал в грудную полость. При докторе повторился припадок кашля, и казалось, что это будет последний. Он вынул маленький флакон хлороформа из кармана и выпустив каплю из него на платок, стал держать его близ лица ребенка до тех пор, пока конвульсии не улеглись от действия наркоза. «Теперь уже ничего не может повредить, – сказал он, – а наркоз ослабит боль». Он ушел, говоря, что не надеется застать ребенка в живых. Этот доктор, м-р Лористон Винтерботам, был одним из самых близких друзей времени моего замужества; он был столь же добр, как умен, и отличался большой деликатностью. Он никогда не касался ни словом моего семейного несчастья, пока, в 1878 г., не явился в суд дать свидетельское показание о жестокости, которая уже сама по себе обеспечила бы мне развод, а menso et thoro. Ребенок, однако, выздоровел, по-моему мнению, благодаря осенившей доктора счастливой мысли о хлороформе; я стала применять наркоз при первых признаках нового припадка кашля и предупреждала таким образом конвульсии и следующее за ними полное изнеможение, во время которого только слабое подобие дыхания в самой верхушке горла было единственным признаком жизни, да и то временами исчезало и я думала, что уже все кончено. В течение многих лет после того девочка оставалась болезненной и слабой, и нуждалась в самом тщательном уходе, но все таки эти недели тяжких испытаний оставили более глубокий след на матери, чем на ребенке. Когда для неё опасность миновала, у меня обнаружился полный упадок сил и я целую неделю лежала в постели без движения; оправившись наконец, я сразу вступила в борьбу, которая продолжалась три года и два месяца и чуть не стоила мне жизни – в борьбу, превратившую меня из верующей последовательницы англиканского учения в атеистку. Самым тяжким периодом борьбы были первые девятнадцать месяцев – время, одно воспоминание о котором наводит ужас, переживать же которое было истинно адским мучением. Тот, кто не испытал этого на себе, не может себе представить бесконечной муки, которую вносит зарождающееся сомнение в искренно верующую душу. Нет в жизни более страшных страданий, более острых и давящих своей тяжестью. Они разрушают, уничтожают единственный светлый луч надежды на загробное счастье, которого не может омрачить никакая жизненная буря; они окрашивают жизнь постоянным ужасом отчаяния, гнетущим мраком, от которого невозможно спастись. Только настойчивая духовная и нравственная потребность может внести сомнение в верующую душу, потому что оно как землетрясение расшатывает основы души и все дрожит и гнется от сотрясения. Пустое небо кажется лишенным жизни, мрак ночи не озаряет ни одним лучом света, ни один звук не оглашает мертвого молчания, ни одна рука не протягивается для поддержки. Никогда не пытавшиеся думать и меняющие убеждения как моды, говорят об атеизме как о результате порочной жизни и нечестивых стремлений. В своей пустой бессердечности и в еще более пустом недомыслии они себе даже приблизительно не представляют муку, с которой душа входит в сумрак слабеющей веры, более страшный чем ужас великой мглы.