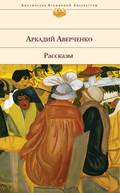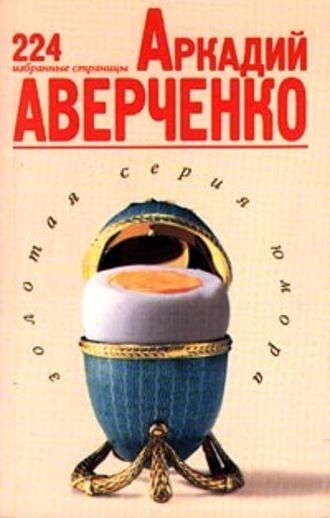
Аркадий Аверченко
Избранные страницы
Яд
Ирина Сергеевна Рязанцева
Я сидел в уборной моей знакомой Рязанцевой и смотрел, как она гримировалась. Ее белые гибкие руки быстро хватали неизвестные мне щеточки, кисточки, лапки, карандаши, прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица порхали к прическе, поправляли какуюто ленточку на груди, серьгу в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы самому странному и удивительному проклятию: всегда быть в движении.
«Милые руки, – с умилением подумал я. – Милые, дорогие мне глаза!» И неожиданно я сказал вслух:
– Ирина Сергеевна, а ведь я вас люблю!
Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась ко мне, и через секунду я держал ее в своих крепких объятиях.
– Наконец-то! – сказала она, слабо смеясь. – Ведь я измучилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня мучил?
– Молчи! – сказал я.
Усадил ее на колени и нежно шепнул ей на ухо:
– Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова «Хризантемы», которая – помнишь? – тоже так, со слабо сорвавшимся криком «наконец-то» бросается в объятия помещика Лаэртова. Ты такая же нежная, хрупкая и так же крикнула своим милым сорвавшимся голоском… О, как я люблю тебя.
На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая светскую условность, стали жить вместе.
Жизнь наша была красива и безоблачна.
Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли за отсутствием горючего материала.
Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало.
Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:
– Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?
– Видишь ли, – сконфуженно объяснила она, – ты немного неудачно обнял меня. Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчины должны обнимать за талию.
– Как… должен? – изумился я. – Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию? Странно! Если бы мне подвернулась талия, я обнял бы талию, а раз подвернулась шея, согласись сама…
– Да, такого правила, конечно, нет… но как-то странно, когда мужчины обвивают женскую шею.
Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение.
Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками мою шею (мужская шея – узаконенный способ) и сказала, целуя меня в усы:
– Не дуйся, глупый! Я хочу сделать из тебя интересного, умного человека… И потом… (она застенчиво поежилась) я хотела бы, чтобы ты под моим благотворным влиянием завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы. Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того – хотела бы сама завоевать для тебя славу.
Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким образом она могла бы завоевать для меня славу? Разве что сама бы вместо меня писала рассказы, при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня.
Или что она понимала под словом «вдохновительница»? Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее, или она должна была бы изредка просить меня: «Владимир, напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володечка, не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем спился, и антрепренер прогоняет его».
И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу «Без просвета», где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: «Я хочу, чтобы ты под моим влиянием завоевал себе самое высокое положение на поприще славы. Я хочу быть твоей вдохновительницей».
– Странно, – сказал я сам себе.
А во рту у меня было такое ощущение, будто бы я раскусил пустой орех.
С этих пор я стал наблюдать Ирину. И чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал.
Ирины около меня не было. Изредка я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова «Туманные дали», изредка около меня болезненно, с безумным надрывом веселился трагический тип решившей отравиться куртизанки из драмы «Лучше поздно, чем никогда»… А Ирину я и не чувствовал.
Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала гранд-кокет, обвивавшая мою шею узаконенным гранд-кокетским способом.
Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоздание, думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая, заломив руки изящным движением (зеркало-то – ха-ха! – висело напротив), говорила тихо, дрожащим, предсмертным голосом:
– Я тебя не обвиняю… Никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого мною человека… Но я вижу далеко, далеко… – Она устремила отуманенный взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: – Нет! Ближе… совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все цепи, благодетельницу смерть…
– Замолчи! – нервно говорил я. – Кашалотов, «Погребенные заживо», второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Петровной. Верно? Еще ты играла Ольгу Петровну, а Рафаэлов – Базаровского… Верно?
Она болезненно улыбалась.
– Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему, – сохрани обо мне светлую, весеннюю память.
– Не светлую, – хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет, – а «лучезарную». Неужели ты забыла четвертый акт «Птиц небесных», седьмое явление?
Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальчески губами и, неожиданно со стоном обрушиваясь на постель, за-крывала подушкой голову.
А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.
Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чаю, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала только одно тихое слово:
– Уходишь?
Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтоб упасть к ее ногам и примириться (все-таки я любил ее), но тотчас же спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и разиней.
– Слушай! – сказал я, укоризненно глядя на нее. – Прекратится ли когда-нибудь это безобразие?.. Вот ты сказала одно лишь слово – всего лишь одно маленькое словечко, и это не твое слово, и не ты его говоришь.
– А кто же его говорит? – испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.
– Это слово говорит графиня Добровольская («Гнилой век», пьеса Абрашкина из великосветской жизни, в четырех актах, между вторым и третьим проходит полтора года). Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: «Уходишь?» Вот кто это говорит!
– Неужели? – прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.
– Да конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись… Будем говорить откровенно… На сцене, – пойми ты это, – такая штука, может быть, и хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни? Милая, будем лучше сами собой. Ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слезливую Верочку, плод досугов какого-то Лимонова! Я говорю серьезно: будем сами собой!
На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, плача, крикнула:
– Я люблю тебя! Ты опять вернулся!
Так как она в неожиданном порыве обняла меня под мышками (способ непринятый), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: «Ты опять вернулся», – пропустил я мимо ушей.
Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду.
Ирина была неузнаваема.
Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком: «Володька пришел!» – выскочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки диковинные и на сцене мною не замеченные).
А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками пребольшой нос и, подмигнув, сказала: «Молчи, старый, толстый дурачок!» Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это нравилось больше прежнего: «О свет моей жизни! О солнце, освещающее мой путь!» Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ. Не писалось.
Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хорошему в некоторых порывах ребенку.
Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я еще не видел. Называлась она «Воробушек».
Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый, красивый блондин, она вскочила, засмеялась, шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно приветствовала:
– Здравствуй, старый, толстый дурачок!
Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.
Теперь я счастливый человек.
Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала. Сначала я лениво прислушивался, потом прислушивался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери.
И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинной, без надоевших театральных вывертов и штучек Ирины.
Она говорила кому-то, очевидно прачке:
– Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны. Разве так стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете – не беритесь стирать. Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее попортили.
Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой.
– Ирина, – шептал я, – настоящая Ирина.
А впрочем… Господа! Кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с прачкой?..
Сухая Масленица
I
Знаменитый писатель Иван Перезвонов задумал изменить своей жене.
Жена его была хорошей доброй женщиной, очень любила своего знаменитого мужа, но это-то, в конце концов, ему и надоело.
Целый день Перезвонов был на глазах жены и репортеров… Репортеры подстерегали, когда жена куда-нибудь уходила, приходили к Перезвонову и начинали бесконечные расспросы. А жена улучала минуту, когда не было репортеров, целовала писателя в нос, уши и волосы и, замирая от любви, говорила:
– Ты не бережешь себя… Если ты не думаешь о себе и обо мне, то подумай о России, об искусстве и отечественной литературе.
Иван Перезвонов, вздыхая, садился в уголку и делал вид, что думает об отечественной литературе и о России. И было ему смертельно скучно.
В конце концов писатель сделался нервным, язвительным.
– Ты что-то бледный сегодня? – спрашивала жена, целуя мужа гденибудь за ухом или в грудо-брюшную преграду.
– Да, – отстраняясь, говорил муж. – У меня индейская чума в легкой форме. И сотрясение мозга! И воспаление почек!!
– Милый! Ты шутишь, а мне больно… Не надо так… – умоляюще просила жена и целовала знаменитого писателя в ключицу или любовно прикладывалась к сонной артерии…
Иногда жена, широко раскрывая глаза, тихо говорила:
– Если ты мне когда-либо изменишь – я умру.
– Почему? – лениво спрашивал муж. – Лучше живи. Чего там.
– Нет, – шептала жена, смотря вдаль остановившимися глазами. – Умру.
– Господи! – мучился писатель Перезвонов. – Хотя бы она меня стулом по голове треснула или завела интригу с репортером каким-нибудь… Все-таки веселее!
Но стул никогда не поднимался над головой Перезвонова, а репортеры боялись жены и старались не попадаться ей на глаза.
II
Однажды была Масленица. Всюду веселились, повесничали на легкомысленных маскарадах, пили много вина и пускались в разные шумные авантюры…
А знаменитый писатель Иван Перезвонов сидел дома, ел домашние блины и слушал разговор жены, беседовавшей с солидными, положительными гостями.
– Ване нельзя много пить. Одну рюмочку, не больше. Мы теперь пишем большую повесть. Мерзавец этот Солунский!
– Почему? – спрашивали гости.
– Как же. Писал он рецензию о новой Ваниной книге и сказал, что он слишком схематизирует взаимоотношения героев. Ни стыда у людей, ни совести.
Когда гости ушли, писатель лежал на диване и читал газету.
Не зная, чем выразить свое чувство к нему, жена подошла к дивану, стала на колени и, поцеловав писателя в предплечье, спросила:
– Что с тобой? Ты, кажется, хромаешь?
– Ничего, благодарю вас, – вздохнул писатель. – У меня только разжижение мозга и цереброспинальный менингит. Я пойду пройдусь…
– Как, – испугалась жена. – Ты хочешь пройтись? Но на тебя может наехать автомобиль или обидят злые люди.
– Не может этого быть, – возразил Перезвонов, – до сих пор меня обижали только добрые люди.
И, твердо отклонив предложение жены проводить его, писатель Перезвонов вышел из дому.
Сладко вздохнул усталой от комнатного воздуха грудью и подумал:
«Жена невыносима. Я молод и жажду впечатлений. Я изменю жене».
III
На углу двух улиц стоял писатель и жадными глазами глядел на оживленный людской муравейник.
Мимо Перезвонова прошла молодая, красивая дама, внимательно оглядела его и слегка улыбнулась одними глазами.
«Ой-ой, – подумал Перезвонов. – Этого так нельзя оставить… Не нужно забывать, что нынче Масленица – многое дозволено».
Он повернул за дамой и, идя сзади, любовался ее вздрагивающими плечами и тонкой талией.
– Послушайте… – после некоторого молчания сказал он, изо всех сил стараясь взять тон залихватского ловеласа и уличного покорителя сердец. – Вам не страшно идти одной?
– Мне? – приостановилась дама, улыбаясь. – Нисколько. Вы, вероятно, хотите меня проводить?
– Да, – сказал писатель, придумывая фразу попошлее. – Надо, пока мы молоды, пользоваться жизнью.
– Как? Как вы сказали? – восторженно вскричала дама. – Пока молоды… пользоваться жизнью. О, какие это слова! Пойдемте ко мне!
– А что мы у вас будем делать? – напуская на лицо циничную улыбку, спросил знаменитый писатель.
– О, что мы будем делать!.. Я так счастлива. Я дам вам альбом – вы запишете те прекрасные слова, которыми вы обмолвились. Потом вы прочтете что-нибудь из своих произведений. У меня есть все ваши книги!
– Вы меня принимаете за кого-то другого, – делаясь угрюмым, сказал Перезвонов.
– Боже мой, милый Иван Алексеевич… Я прекрасно изучила на вечерах, где вы выступали на эстраде, ваше лицо, и знакомство с вами мне так приятно…
– Просто я маляр Авксентьев, – резко перебил ее Перезвонов. – Прощайте, милая бабенка. Меня в трактире ждут благоприятели. Дербалызнем там. Эх вы!!
IV
– Прах их побери, так называемых порядочных женщин. Я думаю, если бы она привела меня к себе, то усадила бы в покойное кресло и спросила – отчего я такой бледный, не заработался ли? Благоговейно поцеловала бы меня в височную кость, а завтра весь город узнал бы, что Перезвонов был у Перепетуи Ивановны… Черррт! Нет, Перезвонов… Ищи женщину не здесь, а где-нибудь в шантане, где публика совершенно беззаботна насчет литературы.
Он поехал в шантан. Разделся, как самый обыкновенный человек, сел за столик, как самый обыкновенный человек, и ему, как обыкновенному человеку, подали вина и закусок.
Мимо него проходила какая-то венгерка.
– Садитесь со мной, – сказал писатель. – Выпьем хорошенько и повеселимся.
– Хорошо, – согласилась венгерка. – Познакомимся, интересный мужчина. Я хочу рябчиков.
Через минуту ее отозвал распорядитель.
Когда она вернулась, писатель недовольно спросил:
– Какой это дурак отзывал вас?
– Это здесь компания сидит в углу. Они расспрашивали, зачем вы сюда приехали и о чем со мной говорили. Я сказала, что вы предложили мне «выпить и повеселиться». А они смеялись и потом говорят: «Эта Илька всегда напутает. Перезвонов не мог сказать так!» – Черррт! – прошипел писатель. – Вот что Илька… Вы сидите – кушайте и пейте, а я расплачусь и уеду. Мне нужно.
– Да расплачиваться не надо, – сказала Илька. – За вас уже заплачено.
– Что за глупости?! Кто мог заплатить?
– Вон тот толстый еврей-банкир. Подзывал сейчас распорядителя и говорит: «За все, что потребует тот господин, – плачу я! Перезвонов не должен расплачиваться». Мне дал пятьдесят рублей, чтобы я ехала с вами. Просил ничего с вас не брать.
Она с суеверным ужасом посмотрела на Перезвонова и спросила:
– Вы, вероятно… переодетый пристав?..
Перезвонов вскочил, бросил на стол несколько трехрублевок и направился к выходу.
Сидящие за столиками посетители встали, обернулись к нему, и – гром аплодисментов прокатился по зале… Так публика выражала восторг и преклонение перед своим любимцем, знаменитым писателем.
Бывшие в зале репортеры выхватили из карманов книжки и со слезами умиления стали заносить туда свои впечатления. А когда Перезвонов вышел в переднюю, он наткнулся на лакея, который служил ему. Около лакея толпилась публика, и он продавал по полтиннику за штуку окурки папирос, выкуренных Перезвоновым за столом. Торговля шла бойко.
V
Оставив позади себя восторженно гудящую публику и стремительных репортеров, Перезвонов слетел с лестницы, вскочил на извозчика и велел ему ехать в лавчонку, которая отдавала на прокат немудрые маскарадные костюмы…
Через полчаса на шумном маскарадном балу в паре с испанкой танцевал веселый турок, украшенный громадными наклеенными усами и горбатым носом.
Турок веселился вовсю – кричал, хлопал в ладоши, визжал, подпрыгивал и напропалую ухаживал за своей испанкой.
– Ходы сюда! – кричал он, выделывая ногами выкрутасы. – Целуй менэ, барышна, на морда.
– Ах, какой вы веселый кавалер, – говорила восхищенная испанка. – Я поеду с вами ужинать!..
– Очин прекрасно, – хохотал турок, семеня возле дамы. – Одын ужин – и никаких Перезвонов!
Было два часа ночи.
Усталый, но довольный Перезвонов сидел в уютном ресторанном кабинете, на диване рядом с хохотушкой-испанкой и взасос целовался с ней. Усы его и нос лежали тут же на столе, и испанка, шутя, пыталась надеть ему турецкий нос на голову и на подбородок.
Перезвонов хлопал себя по широким шароварам и пел, притоптывая:
Ой, не плачь, Маруся, – ты будешь моя!
Кончу мореходку, женюсь я на тебя…
Испанка потянулась к нему молодым теплым телом.
– Позвони человеку, милый, чтобы он дал кофе и больше не входил… Хорошо?
Перезвонов потребовал кофе, отослал лакея и стал возиться с какимито крючками на лифе испанки…
VI
В дверь осторожно постучались.
– Ну? – нетерпеливо крикнул Перезвонов. – Нельзя!
Дверь распахнулась, и из нее показалась странная процессия…
Впереди всех шел маленький белый поваренок, неся на громадном блюде сдобный хлеб и серебряную солонку с солью. За поваренком следовал хозяин гостиницы, с бумажкой в руках, а сзади буфетчица, кассир и какие-то престарелые официанты.
Хозяин выступил вперед и, утирая слезы, сказал, читая по бумажке:
– «Мы счастливы выразить свой восторг и благодарность гордости нашей литературы, дорогому Ивану Алексеичу, за то, что он почтил наше скромное коммерческое учреждение своим драгоценным посещением, и просим его от души принять по старорусскому обычаю хлеб-соль, как память, что под нашим кровом он вкусил женскую любовь, это украшение нашего бытия»…
В дверях показались репортеры.
VII
Вернувшись домой, Перезвонов застал жену в слезах.
– Чего ты?!
– Милый… Я так беспокоилась… Отчего ты такой бледный?.. Я думала – ушел… Там женщины разные!.. Масленица… Думаю, изменит мне…
– Где там! – махнув рукой, печально вздохнул знаменитый писатель. – Где там!
Магнит
I
Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон. Это радовало меня, как ребенка. Уходя утром из дому, я с напускной небрежностью сказал жене:
– Если мне будут звонить, – спроси кто и запиши номер.
Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монтера и телефонной станции, не имела представления о том, что я уже восемь часов имею свой собственный телефон, но бес гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы, и я, одеваясь в передней, кроме жены, предупредил горничную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:
– Если мне будут звонить, – спросите кто и запишите номер.
– Слушаю-с, барин!
– Хорошо, папа!
И я вышел с сознанием собственного достоинства и солидности, шагал по улицам так важно, что нисколько бы не удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:
– Смотрите, какой он важный!
– Да, у него такой дурацкий вид, как будто он только что обзавелся собственным телефоном.