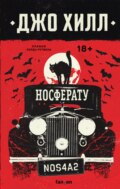Джо Хилл
Пожарный
Он повернулся к Нику, который вытирал слезы большим пальцем. Пожарный показал несколько быстрых жестов: сжатые кулаки, вытянутый палец, плотно сжатая ладонь, а вторая отлетает прочь с растопыренными пальцами. Он напоминал человека, балующегося с ножом-бабочкой, или музыканта, играющего на фантастическом невидимом инструменте.
Ник сложил вместе три пальца, как будто поймал в воздухе муху. Это Харпер поняла. Многие поняли бы. Нет. Дальше она не понимала – так быстро двигались его руки и лицо.
– Он говорит, что не может сходить в туалет. Он пробовал, но ему больно. Он не ходил по-большому с самой катастрофы.
Сестра Лин тяжело выдохнула, словно хотела напомнить всем, кто тут главный.
– Ясно. Вашего сына осмотрят… мигом. Элберт, вызовите каталку.
– Я уже говорил – это не мой сын, – ответил Пожарный. – Я проходил кастинг, но спектакль отменили.
– Значит, вы не родственник? – уточнила медсестра Лин.
– Нет.
– Тогда я не могу пропустить вас с ним на осмотр. Я… мне очень жаль, – сказала сестра Лин. Ее голос звучал неуверенно, и впервые за день в нем послышалась усталость. – Только родственники.
– Ему будет страшно. Он не поймет вас. А меня он понимает. Он может говорить со мной.
– Мы найдем человека, который сможет с ним общаться, – сказала сестра Лин. – И потом. Войдя в эти двери, он окажется в карантине. Туда входят только те, у кого драконья чешуя, и те, кто тут работает. Я не могу делать никаких исключений, сэр. Вы говорили, его мать погибла. Другие родственники у него есть?
– У него… – Пожарный замолчал, нахмурился и покачал головой. – Нет. Никого не осталось. Никого, кто мог бы прийти к нему.
– Ясно. Спасибо вам – за то, что привезли его под наше попечение. Теперь мы им займемся. Все сделаем в лучшем виде.
– Можно еще секундочку? – попросил Пожарный и, обернувшись к Нику, который смаргивал слезы, отсалютовал, потом словно подоил невидимую корову и наконец показал на грудь мальчика. Ответ Ника не требовал перевода. Он прижался к Пожарному и позволил себя обнять: нежно-нежно.
– Лучше бы вы этого не делали, сэр, – сказала сестра Лин. – А то подхватите заразу.
Пожарный не отвечал – и не уходил, пока не распахнулись двойные двери и медсестра не вытолкнула в холл каталку.
– Я приду его навестить. – Пожарный поднял мальчика и осторожно уложил на каталку.
Сестра Лин ответила:
– Вы больше его не увидите. Пока он в карантине.
– Просто справлюсь о его здоровье в регистратуре, – сказал Пожарный. Он печально, но беззлобно поклонился Элберту и сестре Лин и повернулся к Харпер: – Я ваш должник. И это серьезно. В следующий раз, когда понадобится что-нибудь потушить, надеюсь, мне повезет принять вызов.
Через сорок минут мальчик уже лежал под наркозом, а доктор Кнаб, детский хирург, оперировал его, чтобы удалить воспаленный аппендикс размером с абрикос. Мальчик поправился через три дня. А на четвертый исчез.
Сестры из послеоперационной палаты уверяли, что за дверь он не выходил. Окно было распахнуто, и возникла версия, что мальчик выпрыгнул. Но эта версия казалась безумной – послеоперационная палата находилась на третьем этаже. Он сломал бы обе ноги.
– Может, кто-то подставил ему лестницу, – предположил Элберт Холмс, когда персонал, уплетая китайскую лапшу, обсуждал происшествие.
– Никакая лестница не достанет до третьего этажа, – обиженно возразила сестра Лин.
– Достанет. Если это лестница на пожарной машине. – Эл говорил с набитым ртом, дожевывая рогалик.
4
В душные, жаркие дни середины лета, когда «контролируемый кризис» превращался в бесконтрольную катастрофу, глухой мальчик был не единственным пациентом, пропавшим из Портсмутской больницы. Еще одна женщина из зараженных сумела покинуть ее в последние дни перед тем, как все пошло – и не метафорически, а буквально – прахом.
Целый месяц дул северный ветер, и побережье Нью-Гемпшира накрыла мрачная бурая дымка от лесных пожаров в Мэне. Штат Мэн пылал от канадской границы до Скаухигана – мили голубых елей и ароматных сосен. От гари некуда было деться, отвратительный запах горелой хвои проникал всюду.
Харпер засыпала, вдыхая этот запах, и каждую ночь ей снился один и тот же сон: они с братом, Коннором, сидят у костра на берегу и жарят хот-доги. Иногда сосиски на прутиках превращались в обгорелые головы. Харпер просыпалась с криком. Иногда ее будил чей-нибудь плач. Медсестры спали посменно, в приемном отделении, и всем снились кошмары.
В больнице инфицированные делились на две группы: «симптоматически нормальные» и «тлеющие». Тлеющие то и дело дымились, постоянно готовые вспыхнуть. Дым поднимался от их волос, шел из ноздрей; глаза слезились. Полоски на коже нагревались так, что могли расплавить резиновую перчатку. Больные оставляли следы гари на унитазах и кроватях. Они были опасны. И, понятное дело, тлеющие постоянно балансировали на грани истерики. Тут, конечно, возникала проблема курицы и яйца: они паниковали, потому что их тела дымились, или дымились, потому что мозг постоянно находился в состоянии паники? Харпер не знала. Знала только, что с этими людьми нужно быть осторожной. Они кусались и визжали. Строили хитроумные планы – как достать солнце с неба. Считали себя настоящими драконами и пытались вылететь в окно. Приходили к выводу, что врачи прикарманивают и без того скудные запасы лекарств, и пытались захватить медработников в заложники. Создавали армии, конгрессы, религию; замышляли восстания, плели заговоры, плодили ереси.
А другие пациенты, хоть и отмеченные чешуей, в остальном оставались физически и эмоционально нормальными – до того момента, как вспыхнут. Они тосковали, не знали, куда деваться, и пытались верить, что кто-нибудь изобретет лекарство до того, как пробьет их час. Многие приехали в Портсмут, потому что уже ходили слухи, что остальные больницы просто переправляют больных в лагерь в Конкорде – оттуда несколько недель назад прогнали инспекцию Красного Креста, а у ворот там припаркован танк.
Все палаты в больнице были полны, но инфицированные продолжали прибывать. Кафетерий на первом этаже превратили в просторную спальню для самых здоровых. Там Харпер и познакомилась с Рене Гилмонтон – единственной черной в палате из двухсот пациентов. Рене говорила, что в Нью-Гемпшире легче встретить лося, чем черного. Она привыкла к тому, что на нее пялятся, как будто у нее голова в огне – люди много лет провожали ее взглядами.
Койки образовывали лабиринт по всему кафетерию, а Рене Гилмонтон оказалась в самом центре. Она уже была в больнице, когда Харпер устроилась туда работать – в конце июня; и превратилась в старожила – оставалась тут дольше остальных пациентов с чешуей. Сорокалетняя пухленькая Рене носила очки, а в ее аккуратных брейдах-косичках посверкивала седина. И поселилась в больнице она не одна: принесла с собой мяту в горшочке, которую звала Дэниель, и фотографию кота, мистера Трюффо. Если других собеседников не находилось, она говорила с ними.
Впрочем, у Рене обычно не было недостатка в собеседниках. В прошлой жизни она профессионально занималась филантропией: устраивала еженедельный завтрак с блинами в местном сиротском приюте, обучала английскому уголовников в тюрьме штата, держала страшно убыточный независимый книжный магазин, где проводились поэтические вечера. От старых привычек трудно отказаться: вскоре после прибытия Рене организовала ежедневные чтения для самых маленьких детишек и читательский клуб для взрослых пациентов. У нее было с десяток чуть подпаленных экземпляров «Моста короля Людовика Святого» – они ходили по рукам.
– А почему «Мост короля Людовика Святого»? – спросила Харпер.
– Отчасти потому, что это книга о необъяснимых трагедиях, – ответила Рене. – А еще потому, что она короткая. Мне кажется, людям нужна книга, которую они наверняка успеют дочитать. Неохота начинать «Игру престолов», если в любой момент можешь вспыхнуть. Обидно погибнуть посреди хорошей истории, так и не узнав, чем все кончилось. Я, конечно, понимаю, что все и каждый в каком-то смысле умирают посреди хорошей истории. Своей собственной. Истории детей. Внуков. Смерть – нечестная уловка для подсевших на истории.
В кафетерии Рене прозвали миссис Асбест: ее не лихорадило, она не дымилась, а если кто-то вспыхивал, Рене бежала к нему и пыталась вытащить наружу, хотя все остальные кидались наутек. Вообще-то врачи запрещали приближаться к горящим, и Рене часто получала выговоры. Накопилось множество свидетельств того, что одного вида горящего человека бывает достаточно, чтобы воспламенился другой. Цепная реакция стала привычным делом в Портсмутской больнице.
Харпер понимала, что нельзя привязываться к пациентам. Иначе вообще невозможно выполнять эту работу день за днем. Если она хоть к кому-то будет слишком ласкова, ежедневные смерти разорвут ее изнутри. Лишат ее лучших качеств: наивности и детской игривости, и веры в то, что доброта к другим может что-то изменить.
Полный защитный костюм был не единственной броней Харпер на работе. Еще она укутывалась в прозрачное, профессиональное спокойствие. Иногда она представляла, что находится на полномасштабном тренажере, а забрало маски – экран виртуальной реальности. Еще помогало не запоминать имена пациентов и менять палаты, чтобы все время видеть разные лица.
И все же в конце смены ей приходилось на полчаса запираться в кабинке дамского туалета, чтобы выплакать боль. И не ей одной. Многие медсестры включали послесменный рев в список дел на день. В девять вечера дамский туалет в подвале превращался в набитую горем бетонную коробку, в склеп, по которому эхом разносились всхлипы и прерывистое дыхание.
Но в Рене Харпер влюбилась – и ничего не могла с этим поделать. Может быть, потому, что Рене позволяла себе все, о чем старалась даже не думать Харпер. Она звала каждого по имени и заводила дружбу со всеми. Сажала дымящихся детишек с инфекцией к себе на колени, когда читала им вслух. И Рене заботилась о медсестрах не меньше, чем сестры о ней.
– Вы никому не поможете, если будете валиться с ног от усталости, – сказала как-то она Харпер.
«Я и так не помогу, – хотела ответить Харпер. – Я никому не помогаю». Но вслух ничего не сказала. Получится жалоба, а перекладывать свои печали на того, для кого этот день может оказаться последним, – нечестно.
Но Рене дожила до следующего дня. И до следующего. И до того, что был после.
И она не пыталась скрыть драконью чешую перчатками, шарфами и длинными рукавами. Чешуя образовывала ожерелье прямо на горле – изящные петли, присыпанные золотом; на руках красовались браслеты до локтей. Рене покрывала ногти черным лаком с золотыми блестками – в тон.
– Могло быть и хуже, – говорила Рене. – Какая-нибудь болезнь с гнойниками или недержанием. Или когда плоть гниет и отваливается. В свином гриппе ничего сексуального нет. А эта зараза, на мой взгляд, очень сексуальна. По-моему, я стала похожа на тигрицу! Толстую, немодно одетую тигрицу. На чересчур располневшую Женщину-кошку.
– Кажется, у Женщины-кошки не было полосок, – сказала Харпер. Она присела на краешек койки Рене и кивнула на фотографию кота. – Кто теперь приглядывает за таким симпатичным парнем?
– Улица, – ответила Рене. – Я выпустила его, когда собиралась сюда.
– Жалко.
– Пожары выгнали из домов всех мышей. Я уверена, что Трюффо как мохнатый сыр в масле катается. Как думаете, они останутся, когда мы вымрем? Коты. Или мы заберем их с собой?
– Коты выживут, и мы тоже. – Харпер изо всех сил старалась говорить уверенно. – Мы умные. И найдем разгадку.
Рене тоскливо улыбнулась. Глаза ее смотрели весело и сочувственно. На шоколадных радужках поблескивали золотые крупинки – то ли от драконьей чешуи, то ли Рене родилась с такими.
– И кто сказал, что мы умные? – спросила она с веселым презрением. – Мы даже не умеем управлять огнем. Думали, что умеем, но оказалось, это он нами управляет.
И тут в углу комнаты завизжала девочка-подросток. Харпер оглянулась и увидела, как прибежавшие ординаторы набрасывают огнеупорные одеяла на девочку, которая пытается подняться с койки. Ее накрыли и придавили. Пламя выбивалось из-под одеял.
Рене, печально глядя на все это, сказала:
– А ведь она только начала «Клан пещерного медведя».
Харпер искала встречи с Рене каждый раз, когда дежурство выпадало на кафетерий. Хотелось поговорить о книгах. Это было приятно: нормальная бесцельная утренняя болтовня, разговор, не имеющий никакого отношения к пылающему миру. Харпер сделала разговоры с Рене частью своего дня, прекрасно понимая, что совершает ошибку, что смерть этой женщины сломает что-то в ее душе. И что, оправившись от потери, Харпер станет жестче. А она не желала становиться жестче. Она хотела остаться прежней Харпер Грейсон, на глаза которой набегают слезы при виде пожилой четы, держащейся за руки.
Она знала, что Рене однажды уйдет; так и произошло. Харпер вкатила в кафетерий тележку с чистыми простынями и вдруг заметила, что на постели Рене лежит голый матрас; ее личные вещи тоже пропали. Вид пустой постели словно ударил под дых, и Харпер, отпустив каталку, повернулась и, с грохотом распахнув двойные двери, прошла мимо охранников и дальше по холлу. До женского туалета в подвале идти было слишком далеко. Харпер отвернулась к стене, уперлась в нее рукой и дала волю горю. Плечи заходили ходуном; она рыдала, рыдала и рыдала.
Охранник – это оказался Элберт Холмс – тронул ее за плечо.
– Мэм, – позвал он. – Господи, мэм, что случилось?
Сначала Харпер не могла вымолвить ни слова. Она пыталась вздохнуть, а тело сотрясалось. Нужно взять себя в руки. Она его напугала. Он всего лишь широкоплечий веснушчатый парнишка, всего пару лет назад игравший на школьном дворе в футбол, и вид женщины в слезах для него – перебор.
– Гилмонтон, – сказала наконец Харпер и закашлялась.
– А вы не знали? – с искренним изумлением спросил Элберт.
Харпер покачала головой.
– Она ушла, – объяснил Эл. – Просто прошла мимо утренних охранников.
Харпер тяжело дышала. Легкие болели, горло щекотали слезы. Зато теперь ей, похоже, хватит сил добраться до туалета, найти кабинку и уже там всерьез…
– Что? – спросила Харпер. – Что вы сказали?
– Упорхнула! – ответил Эл. – Просто ускользнула из больницы! Со своим цветком под мышкой.
– Рене Гилмонтон ушла? – переспросила Харпер. – Со своей мятой? И ее кто-то пропустил?
Эл посмотрел на нее широкими изумленными глазами.
– Вы посмотрите запись камеры. Она светилась! Как маяк! Посмотрите видео. Просто страх. В смысле, как в Библии пишут, – страх Господень. Дежурные так и драпанули – думали, она сейчас взорвется. Как живая ядерная бомба. Она и сама боялась, что взорвется, потому и бросилась наружу. Выбежала – и уж больше не возвращалась. Никто не знает, что с ней сталось. А она даже без обуви убежала!
Харпер хотелось сунуть руку под маску и стереть с лица слезы, но это было невозможно. Пришлось бы потратить почти полчаса. Чтобы снять защитный костюм, сначала нужно пять минут стоять под обеззараживающим душем. Харпер заморгала, чтобы согнать слезы.
– Это бессмысленно. Люди с драконьей чешуей не светятся.
– А она светилась, – сказал Эл. – Она читала что-то детишкам, перед завтраком, а девочка, что сидела у нее на коленях, вдруг как подскочит, потому что миссис Гилмонтон начала нагреваться. И тут люди закричали и бросились врассыпную. Она светилась, как гребаная рождественская елка – пардон за выражение, мэм. На видео у нее из глаз прямо лучи смерти вылетают! Она проскочила два поста охраны – это из карантина! А видок был – черт, тут кто хочешь под стол спрячется.
Через пять минут Харпер с четырьмя другими медсестрами уже смотрела видеозапись – в регистратуре в конце холла. Все в больнице смотрели ее. К концу смены Харпер видела запись раз десять.
Неподвижная камера показывала широкий коридор перед дверью кафетерия – пол из антисептической белой плитки. У двери стояли охранники – в защитных костюмах и спецназовских шлемах. Один, опершись о стену, не спеша проглядывал листы на планшете с зажимом. Другой, сидя на пластиковом стуле, подкидывал и ловил дубинку.
Дверь с грохотом распахнулась, и холл залился сиянием, как будто кто-то включил прожектор. В первый момент свет был так ярок, что словно стер черно-белое изображение, залив экран синеватым свечением. Потом сенсоры камеры наблюдения подстроились – немного. Рене осталась ярким призраком, колеблющимся сиянием в виде женской фигуры. Светящиеся завитки драконьей чешуи скрывали ее черты. Из глаз струился бело-голубой свет, который и в самом деле напоминал лучи смерти из научно-фантастических фильмов пятидесятых годов. Под мышкой Рене держала горшочек с мятой.
Охранник, который подбрасывал дубинку, шарахнулся прочь от Рене. Дубинка огрела его по плечу, и он свалился со стула. Второй охранник отшвырнул планшет, как будто тот превратился в кобру. Каблуки скользнули по плиткам, и охранник сел на пол.
Рене посмотрела на одного, на другого, подняла руку, словно успокаивая, и поспешила прочь.
Элберт Холмс сообщил Харпер:
– Она сказала: «Мальчики, не обращайте на меня внимания. Я просто хочу взорваться снаружи, чтобы никого не ранить».
Доктор Райалл, местный патологоанатом, не впечатлился. Он читал об исключительных случаях – драконья чешуя достигала критической массы и по какой-то причине затухала, не приводя к немедленному возгоранию человека. Он объяснял всем, кто соглашался слушать, что останки Рене Гилмонтон найдутся на расстоянии не более ста шагов от больницы. Однако несколько санитаров, прочесав высокую траву за автостоянкой в поисках поджаренных костей, ничего не нашли. Не нашлось и следов ухода Рене, никаких опаленных веток или сорняков. Как будто она не взорвалась, а испарилась, вместе с мятой в горшочке.
Центр контроля заболеваний собирался прислать в августе инспекцию для проверки карантинных процедур, и доктор Райалл говорил, что покажет проверяющим запись инцидента с Гилмонтон. Он был убежден, что они подтвердят его версию.
Но инспекторам из Центра контроля заболеваний так и не довелось увидеть запись, поскольку к августу от Портсмутской больницы осталась одна обгорелая труба, а доктор Райалл был мертв, как и Элберт Холмс, и сестра Лин, и больше пяти сотен пациентов.
5
Харпер не знала, как долго она уже стоит, глядя на горящую Портсмутскую больницу. Густой черный дым вздымался вверх на тысячу футов, грозовой тучей заволакивая небо. Солнце, еле пробивающееся через густой дым, превратилось в красную монетку. Кто-то из докторов спросил:
– Есть зефирки? – И засмеялся, но никто его не поддержал.
Электричество отрубилось минут через пять после того, как сигнализация подняла душераздирающий вой. Мигающие в темноте фонари дробили время на яркие застывшие полоски. Харпер пробиралась сквозь мерцающие тени, положив руки на плечи шедшей впереди медсестры, в шаркающей цепочке эвакуируемых. Воздух на первом этаже уже наполнился дымом и какой-то мелкой взвесью, но огонь пока бушевал где-то над головами. Сначала вой сирены очень пугал, но к тому времени, как Харпер выбралась на свет, звук уже наскучил – сорок пять минут она брела в толпе к выходу. Она не представляла себе масштабы беды, пока не вышла из здания и не обернулась.
Кто-то сказал, что выше второго этажа уцелевших нет. Еще кто-то сказал, что началось все с кафетерия: загорелся один пациент, потом другой, третий – как цепочка фейерверков, – и будто охранник в панике запер дверь, чтобы никто не выбежал наружу. Харпер так и не узнала, правда ли это.
Национальная гвардия появилась быстро, и военнослужащие оттеснили всех к дальнему концу автостоянки. Пожарный департамент Портсмута бросил на борьбу с огнем все силы, все шесть машин… хотя было понятно, что уже ничего нельзя поделать. Пламя рвалось из разбитых окон. Пожарные трудились под падающим черным пеплом с привычным профессиональным равнодушием, заливая громадную топку больницы мощными струями воды, которые, казалось, ничего не меняли.
У Харпер кружилась голова, как после сильного удара; она словно ждала от собственного тела отчета о повреждениях. От вида пламени и дыма она лишилась способности соображать.
В какой-то момент Харпер осознала странную вещь: один пожарный стоял с ее стороны заграждения, хотя ему полагалось быть у машин, среди своих собратьев по оружию. Впрочем, Харпер заметила его только потому, что пожарный смотрел на нее во все глаза. Он был в шлеме и грязно-желтой куртке, а в руке держал пожарный инструмент – длинный стальной лом с крючками и лезвием топора; этот человек показался Харпер знакомым. Крепкий долговязый мужчина в очках, с резкими чертами лица, он смотрел на нее как будто с печалью, а хлопья пепла падали мягкими черными завитками. Пепел черными полосками испещрил ее руки, перьями застревал в волосах. Один завиток ткнулся в кончик носа, и Харпер чихнула.
Она попыталась вспомнить, откуда знает этого печального пожарного, и принялась исследовать свою память мягкими, осторожными движениями, как руку ребенка в поисках перелома. Ребенок, точно: их знакомство было как-то связано с его ребенком. Точнее, не совсем его… Глупость какая-то; нужно просто подойти и спросить, почему он кажется ей знакомым. Но он уже ушел.
Внутри больницы что-то рухнуло. Видимо, крыша погребла под собой верхний этаж. Штукатурка, сажа и красный дым тучами вырвались из окон. Национальный гвардеец в закрывающей рот маске и в синих латексных перчатках поднял руки над головой, словно сдаваясь в плен.
– Люди! Мы снова отодвинем вас! Попрошу всех сделать три шага назад, ради вашей же безопасности. По-хорошему прошу. И лучше не дожидайтесь, пока начну по-плохому.
Харпер отступила на шаг, потом еще и покачнулась на каблуках, чувствуя головокружение и сухость во рту. Вот бы хоть один глоток холодной воды – прочистить горло, но воду найти можно только дома. Машины на стоянке не было – зачем машина, раз не приходится покидать больницу, – и Харпер повернулась, чтобы идти пешком.
Только пройдя полквартала, она поняла, что плачет. И непонятно – текут слезы от горя или от дыма, пропитавшего воздух. Пахло обедом в летнем лагере, подгоревшими хот-догами. Потом до нее дошло, что хот-догами пахнут обугленные трупы. «Это мне снится», – подумала Харпер. И ее вырвало в траву у тротуара.
На тротуаре и на мостовой толпились люди, но никто не смотрел на Харпер, пока ее тошнило. Никому она не была интересна на фоне громадного пожара. Людей привлекает пламя и отталкивает человеческое страдание – нет ли в этом ошибки? Харпер вытерла губы тыльной стороной ладони и пошла дальше.
Харпер не смотрела на лица в толпе и потому заметила Джейкоба только тогда, когда он взял ее за руку. И ему тут же пришлось подхватить ее. Ноги подкосились, и Харпер повисла на руках мужа.
– Господи, ты цела, – сказал он. – О господи. Я так испугался.
– Я люблю тебя, – сказала она, потому что так говорят, вернувшись из ада, потому что только это имеет значение в такое утро.
– Дороги перекрыты на целую милю, – прошептал Джейкоб. – Я так испугался. Всю дорогу ехал на велосипеде. Я нашел тебя. Я нашел тебя, миладевочка.
Он повел ее через толпу к телефонному столбу. Там был прислонен его велосипед – он ездил на нем с самого колледжа, – десятискоростной, с корзиной, укрепленной перед рулем. Джейкоб повел велосипед одной рукой, другой обнимая за талию Харпер, которая положила голову ему на плечо. Они шли навстречу толпе – все стремились к больнице, к черному столбу дыма, под падающий пепел.
– Каждый день – 11 сентября, – сказала Харпер. – Как жить, если каждый день – 11 сентября?
– Будем жить, сколько сможем, – ответил Джейкоб.
Она не поняла, что он имеет в виду, но прозвучали его слова умиротворяюще, даже мудро. Он говорил ласково, чуть касаясь ее губ и щек серебряно-белым шелковым платком. У Джейкоба всегда был с собой платок – эту старомодную привычку Харпер находила невыносимо приятной.
– Что ты делаешь? – спросила она.
– Пепел стираю.
– Да, – сказала она. – Пожалуйста.
Вскоре он остановился и сказал:
– Все чисто. Так лучше. – И поцеловал ее в щеку, потом в губы. – Даже не знаю, зачем я это сделал. Ты была немного похожа на диккенсовскую сиротку. Чумазую, но восхитительную. Вот что. Я тебя успокою. Поехали домой, там и выясним, насколько ты грязная девочка. Ну как?
Она засмеялась. Джейкоб обладал каким-то французским чувством абсурда; в колледже он был мимом в театральном кружке. А еще умел ходить по канату – ловок в постели, ловок в жизни.
– Это замечательно, – сказала она.
И Джейкоб ответил:
– Пусть целый мир пылает вокруг нас. Я буду обнимать тебя до самого конца. И не отпущу.
Она привстала на цыпочки и поцеловала его в соленые губы. Значит, он тоже плакал, хотя сейчас улыбался. Она положила голову ему на грудь.
– Я устала, – сказала она. – Устала бояться. И быть не в состоянии помочь людям.
Он мягко приподнял ее голову за подбородок.
– Тебе нужно забыть об этом. О том, что ты обязана все исправлять. Тушить все пожары. – Он посмотрел со значением на клубящийся дым. – Спасать мир – не твоя работа.
Он сказал это так нежно, так разумно, что у Харпер даже голова закружилась от облегчения.
– Ты должна заботиться о себе, – продолжил он. – И мне позволь заботиться о тебе. У нас так мало времени, чтобы правильно относиться друг к другу. Но мы этим займемся. Мы будем все делать правильно, начиная с сегодняшнего вечера.
Пришлось поцеловать его снова. Его губы хранили привкус мяты и слез; он нежно ответил на поцелуй, словно впервые, с осторожностью касаясь ее губ, как будто этот поцелуй был новым опытом… каким-то экспериментом. Когда он оторвался от нее, лицо его было серьезным.
– Это важный поцелуй, – сказал Джейкоб.
Они прошли по тротуару еще несколько шагов. Она прижалась головой к бицепсу Джейкоба и зажмурилась. Еще через несколько шагов он обнял ее крепче. Она словно плыла, засыпая на ходу, и споткнулась.
– Эй, – сказал он. – Хватит. Слушай. Нужно доставить тебя домой. Залезай.
Он закинул ногу на седло велосипеда.
– Куда залезать?
– В корзинку, – ответил он.
– Нет. Я не могу.
– Можешь. Ты так уже ездила. Я довезу тебя домой.
– Тут целая миля.
– Все время под горку. Залезай.
Они когда-то дурачились так в колледже – она ездила в корзинке перед рулем его велосипеда. Она была тогда стройной, да и сейчас при пяти с половиной футах роста весила всего 115 фунтов. Харпер посмотрела на корзинку, потом на длинный спуск с холма – прочь от больницы и по кривой.
– Ты меня угробишь, – сказала она.
– Нет. Не сегодня. Залезай.
Она не могла ему отказать. Что-то внутри нее хотело подчинения, хотело удобства. Она встала перед велосипедом, занесла ногу над колесом и опустилась в корзинку.
И они помчались; деревья по правую руку легко скользили мимо. Пепел кружил вокруг громадными хлопьями, падал на волосы Харпер и на козырек бейсболки Джейкоба. Скоро они разогнались так, что вполне могли разбиться.
Ветер свистел в спицах. Харпер выдыхала, и ветер уносил ее дыхание прочь.
Люди забывают, что время и пространство – одно и то же, пока не наберут скорость, пока сосны и телефонные столбы не начнут мелькать мимо. От скорости время растягивается, и секунда, за которую пролетаешь двадцать футов, становится длиннее других секунд. Харпер ощущала ускорение висками и животом; она была рада Джейкобу, рада тому, что покинула больницу, и рада скорости. Сначала она цеплялась за корзинку обеими руками, но потом, когда спицы загудели какой-то жужжащий мотив, раскинула руки в стороны и парила, словно чайка на ветру, пока мир ускорялся и ускорялся.
6
В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб вел Харпер по дому, а она зевала и зевала, как засидевшийся ребенок, которому давно пора спать. Харпер чувствовала спокойствие – по-прежнему бодрствуя, она уже не в силах была думать и не знала, что будет дальше, хотя все казалось вполне предсказуемым. Джейкоб отвел ее за руку в спальню. Это было правильно. Харпер устала – значит, нужно идти в спальню. Потом она неподвижно стояла, пока Джейкоб стаскивал с нее зеленую сестринскую форму. На работу она надевала розовые панталоны до пупа – их он тоже стащил. Харпер зевнула во весь рот и прикрылась ладонью, а он засмеялся, потому что в этот момент нагнулся, чтобы поцеловать ее. Она тоже засмеялась. Было весело зевать вот так ему в лицо.
В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб наполнил ванну на ножках, которая так нравилась Харпер. Даже непонятно, когда он успел, ни на миг не отрываясь от Харпер, но когда они подошли к ванне, она оказалась уже полна. Лампы были выключены, и горели свечи. Харпер очень обрадовалась ванне, потому что в больнице пропахла дымом и потом – дымом больше всего, – и покрылась пеплом, наверняка пеплом от сгоревших тел.
В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб выжимал мягкую мочалку на спину Харпер. Он тер ей шею и уши, потом собрал волосы на макушке и окунул ее в ванну. Харпер вынырнула, хохоча. Он тоже засмеялся и снова макнул ее в воду, а она, вынырнув, открыла рот, чтобы зевнуть, но получился поцелуй. Потом он велел ей встать, и она стояла в ванне, и он намыливал ее. Он намыливал ее груди, и поясницу, и шею, и долго намыливал между ног, а когда у нее уже не было сил терпеть, шлепнул по попе и велел садиться обратно в ванну, и она послушалась.
В ночь, когда сгорела больница, Джейкоб сказал:
– Такая мерзость, когда говорят «Я люблю тебя». Это как наклейка для прилива гормонов, с маленьким намеком на верность. Мне никогда не нравились эти слова. И я скажу вот что: мы вместе сейчас, и будем вместе до конца. У тебя есть все, что мне нужно для счастья. С тобой мне хорошо.
Он сжал мочалку, и теплая вода потекла по шее Харпер. Она закрыла глаза, но продолжала видеть через веки красноватые отблески свечей.
– Не знаю, – продолжал Джейкоб, – сколько нам осталось. Может, пятьдесят лет. Может, всего неделя. Знаю только, что мы не станем терять ни одной секунды. Мы будем жить и чувствовать вместе. И вот что еще я скажу, касаясь тебя и целуя, – и он касался ее и целовал, – ты лучшее, что есть в моей жизни. А я эгоист, и мне нужна каждая пядь тебя и каждая минута твоей жизни. Больше нет моей жизни. И нет твоей. Есть только наша, только наша жизнь, и мы проживем ее по-своему. Я хочу праздничный торт каждый день и голую тебя в постели каждую ночь. А когда придет наше время, мы тоже все сделаем по-своему. Откроем бутылку вина, которое купили во Франции, будем слушать любимую музыку и смеяться, и примем счастливые таблетки, и ляжем спать. Умрем мило, после вечеринки, вместо того чтобы вопить, как все эти унылые, отчаявшиеся, ждущие в больнице очереди на смерть.