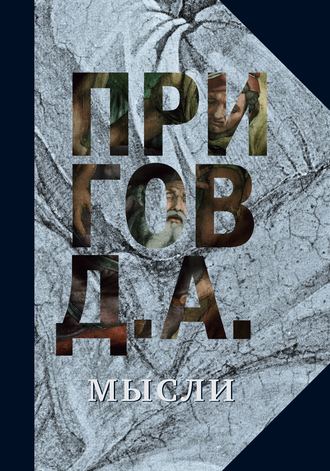
Дмитрий Пригов
Мысли
Культо-мульти-глобализм
Начало 2000-х
Начиная свое говорение, мысленно прикидывая его объем, наполнение и пафос, экстраполяционным, опережающим взором как бы оказываясь уже даже в его завершающей точке, я обнаруживаю себя в некой неадекватной, стеснительной, что ли, ситуации. В ситуации памятного студента-филолога на экзамене по истории партии – были такие экзамены по истории такой бывшей партии в бывшем Советском Союзе. Будучи спрошенным по поводу сроков, места проведения и прочих интимных подробностей какого-то из многочисленных съездов и, видимо, мало о том осведомленный, он ответствовал: «Говоря о таком-то съезде коммунистической партии, я не могу не начать с великого русского писателя Льва Николаевича Толстого и его гениальной “Анны Карениной”».
Помимо несомненной ловкости и всегдашней софистской изворотливости рефлектирующего сознания в данном случае, на опыте данного примера нельзя не обратить внимание на некую несомненную глобальную повязанность многих вроде бы разнесенных событий в пределах новой предложенной «оптики» и по-новому очерченного горизонта событий. Это ладно. Но нельзя также не заметить и некую константу мыслительных операций и набора предметного их наполнения, свойственного не только отдельному индивиду, но и всей человеческой культуре в конкретный исторический период. То есть, попроще и покороче, о чем бы ни разговорились трое, даже двое субъектов, что бы ни обсуждалось, все в результате сводится к двум-трем болевым проблемам данного времени. Опять-таки, как из анекдота про того замечательного солдата, который, спрошенный последовательно, о чем он думает глядя на разные объекты, отвечал, что думает о бабах. На вопрос же почему резонно заметил, что он всегда о них думает. И это есть правильно. Правильно и про солдата, и про баб, и про проблемы. Поскольку в данный момент именно они (проблемы, но не солдат и не бабы) стягивают на себя все остальные вопросы культуры и общества, которые в разной мере актуальности и артикулированности выговариваются через них. Как, к примеру (прошу прощения за обращение к образам если не низкой, то уж точно не высокой телесности, которые, к слову говоря, в данное время тоже весьма и весьма актуальны), даже небольшой нарыв стягивает на себя всю телесность, если и не отменяя остальные, то на время анестезируя и искривляя в поле своей болезненной актуальности все прочие физиологические функции. Но это только так, для примера.
Приступая же к основному повествованию, к основной теме своего краткого, насколько это возможно, сообщения, я хотел бы обратить внимание, что темы глобализации и мультикультурного мира и есть те самые Львы Толстые и Анны Каренины нашего времени, без которых вряд ли что-либо может быть решено и разрешено в гуманитарной сфере. Во всяком случае, любые дискуссии и обсуждения вертятся вокруг них, пусть даже и не называя их поименно. Естественно, я и не пытаюсь что-либо решить или разрешить, но только указать тоненьким указательным лучом не столько на их наличие, которое не нуждается в моих особых напоминаниях, но на некие черточки и знаки их взаимного неразрывного соположения. Именно это и есть основная тема и смысл моего нынешнего сообщения. А также мне хотелось привести некие сугубо личные соображения, обретенные на сугубо личном художническом опыте, по поводу культурных стратегий, направленных, если и не на овладение, то на сосуществование с этим феноменом и существование внутри него.
Для ярких апологетов как самой идеи мультикультуральности, так и радикального отстаивания какой-либо одной из ее составляющих (ну, всем известны элементы ее наполнения, которые приводятся в качестве наиболее презентативных, – субкультуры религиозных, национальных и сексуальных меньшинств и сообществ) данная проблема предстает в их или ее самодостаточности и противостоянии, антагонизме с другими, в особенности с идеей унификации и глобализации. Сами страсть и сила противостояния и выдвигаемых обвинений вполне культурно и психологически объяснимы и могут быть приняты в качестве достаточно веского исторического аргумента. Как правило, в противостоянии доминирующим культурам и дискурсам новые или репрессируемые вынуждены прилагать гиперусилия, скатываясь порой к неимоверному радикализму, в противопоставлении себя огромной противостоящей им, давящей и подавляющей массе – доходят до стрельбы порой, взрывают все вокруг себя и порой вместе с собою даже. Ужас, что бывает! Мы не утверждаем, что это простительно и допустимо, но это вполне может быть понято. И вообще, если мы не сможем понять всю страсть нынешнего радикализма, а также, к слову, пристрастие к наркотикам как новый, пусть и во многом перверсивный, вызов всесилию разрастающейся и меняющей конфигурацию и способы овладения обществом власти (вспомним исследования Фуко), как вызов личности этому всесилию – мы ничего не поймем в проблемах современного мира. Но это небольшое отступление. Теперь продолжим прерванную мысль о противостоянии субкультур культурам и дискурсам доминирующим. Так вот впоследствии же, сами приобретя достаточную массу и не испытывая прежнего сильного давления, эти радикальные стратегии борьбы и противостояния, унаследовав атавизмы радикализма и гипернапряжения предыдущего периода, предстают уже в некотором карикатурном образе неадекватности и, как ни печально, но в общем-то, закономерно сами являют несомненные черты и амбиции тоталитарности.
Однако, думается, что нынешний развитый, даже местами переразвитый, мультикультуральный мир вполне уже есть предмет вполне спокойного рассмотрения и академического исследования. И дело не в том, что все субкультуры выросли и образовались в полноценных и равноправных партнеров. Нет. Просто сам принцип, способ зарождения, стратегии выхода наружу и борьбы за власть в новом мультикультуральном мире вполне уже известны и прогнозируемы. Уже вполне явлен тип культурного поведения и стратегии, хотя конкретные социальные и политические цели и могут еще подвигать людей на те же самые поступки и подвиги, воспроизводя, являя как бы некий «культурный промысел» данного рода социокультурного, извините за выражение, производства.
И именно в драматургическом взаимоотношении с идеей и процессом глобализации проблема мультикультуральности обретает пафос истинного, неложного противостояния и дает исследователю некую остраненную точку если и не прохладного, то взвешенного наблюдения и возможности достижения верифицируемых результатов.
Вот, для примера, опишу простую ситуацию из своей почти каждодневной жизни обычного странствующего художника. Для начала, садишься где-нибудь в машину, неотличимую от подобных же машин по всему свету. Добираешься до аэропорта, похожего на все аэропорты мира. Привычно погружаешься в самолет, подобный всем самолетам, облетающим планету во всех направлениях. Наблюдаешь приятных, но совершенно неразличимых стюардесс, поедаешь неидентифицируемую пищу, ведешь беседы с незапоминающимися, впрочем, в своем большинстве вполне приятными антропоморфными существами. Нераспознаваемые небеса за окнами и несколько часов выключения из привычной рутины жизни нисколько не добавляют ситуации разнообразия и специфичности, что, собственно, вполне укладывается в общую тенденцию развеществления пространства и окружающей среды. Имеются в виду совместные мощные усилия экономики и производства, размывающие границы государств, чьим основным определением и идентификацией до недавнего времени были жесткие географические границы и территориальные приобретения. Я уж не поминаю интернетные контакты, лишенные не только телесных, половых, возрастных, географических и прочих примет, но и лишающие возможности личностных фиксаций – ты можешь иметь корреспондентом коллективного автора, а можешь общаться со многими корреспондентами, являющимися просто одной раздвоившейся или даже размножившейся в киберпространстве личностью. Но это так, отступление. Вернемся к нашему бескачественному путешествию. Значит, приземляешься на привычный и легко спутываемый с подобными же аэропорт. Садишься в знакомую машину и добираешься до гостиницы, напоминающую любую подобную же в любом городе мира. Поутру и несколько последующих дней в неразличаемом общеинтернационального вида выставочном зале или аудитории сооружаешь привычную инсталляцию, которую ты привычно сооружаешь по всему свету, или читаешь собственные, набившие оскомину стихи. Всему этому внимает обычная интернациональная публика, изъясняющаяся на таком же, как и твой, условном английском. После этого – ритуальный итальянский или китайский ресторан во всех странах света. Затем – гостиница, машина, аэропорт, самолет, аэропорт, машина, гостиница… Где был? Был ли? Помню, в ходе одного из таких вояжей, в некой неразличимой институции я обратился с извинениями к местным кураторам: Извините, но я не изъясняюсь по-шведски. – Мы тоже, – был мне ответ. Оказалось, я прилетел в Данию. Долетался!
Ну, естественно, все это немного утрировано.
Однако, во всех странах мира структура урбанистической жизни настолько унифицирована, что, попадая в любой новый город, заранее знаешь, что обнаружишь там полицейских, пожарных, скорую помощь, телефон, телеграф, почту, вокзалы, рестораны с меню и, возможно, официантами, городской транспорт, продовольственные и промтоварные магазины, кино, концертные залы, стадионы, парки, дискотеки, туалеты. В домах обнаружишь двери, окна, стекла, замки, лифты, кухни, туалеты, телевизоры, радио… Господи, что еще? Да, молодежь, детей, стариков. Рекламу и ночное освещение. Влюбленных, бомжей и криминальный элемент. И много-много-много всего иного, чего просто и не упомнишь по слабости памяти и быстротечности жизни.
И все это является не проявлением деятельности какого-либо злодейского центра с его коварными глобалистическими идеями и устремлениями, но как раз наиболее ярким и простым проявлением глобализма в его простоте, обусловленного несомненной тенденцией развития мировой урбанистической культуры как самой по себе, так и в аспекте фундирования ее уровнем общеантропологических оснований.
Именно утопия, вера в этот уровень общеантропологических оснований в момент нынешней дискредитации всех остальных социальных и культурных утопий и является последней утопией, основой и возможностью нынешнего существования общечеловеческой культуры. То есть в пределах этой утопии есть основание верить и полагать, что все, сказанное одним человеком, в результате может быть понято другим. Именно это и есть основание возможности существования мультикультурального мира. Вкупе с тенденцией к поносимой и попрекаемой глобализации оно предполагает пространство существования и возможность конвертации одного в другое. То есть предположение возможности страстного и пафосного говорения на любом культурном языке, знающего заранее, что оно может быть дешифровано как адресатом инвективы, так и возможным инокультурноговорящим соратником. Вечная драматургия свой—чужой приобретает несколько другую конфигурацию. Если раньше чужой всегда постулировался и проецировался за границы фратарного, племенного, государственного и религиозного сообщества, то есть отторгался в зону культурного небытия, то ныне он проецируется уже за пределы просто антропоморфного. И даже больше – в последнее время посредством проигрывания предельных антропологических и антропоморфических утопий (в основном в зоне фэнтези, и кино) способность мобильности и переводимости экстраполируется и за пределы антропоморфного существования, поделив уже мир на хороших и доступных людей и элиенов (монстров) и на плохих людей и монстров. Как и незыблемость и истинность мифологемы Франкенштейна уже не столь однозначна в наше время, во всяком случае, в той ясности и почти неоспариваемости, в какой она на протяжении многих веков являлась человечеству в разного рода модификациях от Голема до бесчисленных киберсуществ. Неведомо, конечно, насколько это представляет собой реальную утопическую картину ближайшего будущего, но идеологически и гносеологически расширяет космическое пространство людских возможностей и доверительности. Естественно, в данном случаем мы говорим об основной тенденции рыночно-ориентированных стран с достаточно развитым гражданским обществом. Вполне возможно, даже более всего вероятно, что большая часть человечества вообще не живет подобными идеями. Но при всем притом она является несомненным субъектом данного процесса, как раз и жестко вычленяющего полюса этой драматургии, разрешаемой зачастую не вполне мирно, даже вполне немирно. Но мы ведь с вами люди науки, мы ведь следим тенденции, отслеживаем процессы, выявляем закономерности, ошибаемся в результатах, меняем направления, не замечем реальности, погибаем в деталях, обманываемся в причинах, обнаруживаем сокрытое и достигаем результата.
Так вот.
В предыдущие времена проблема глобализации была заменяема, во всяком случае сводима к тотальности и тоталитарности больших претендующих и имеющих возможность реализовывать собственное доминирование дискурсов, которые и служили предпосылкой возможности говорения и понимания. И в этом смысле проблемы понимания и переводимости, а также унификации и однородности были представлены в иной конфигурации в качестве именно проблем взаимоотношения именно больших дискурсов, в пределах которых субкультурам предлагалось самим решать проблемы путем простого подключения к большому дискурсу. Нынешнее время, отменив (во всяком случае, как в идее и как в основной тенденции) доминации центра, больших и главных дискурсов и культур, предлагает идею взаимного равноправного существования, сосуществования и перевода различных, просто даже бесчисленных, прежде репрессированных меньшинств и культур. Возможно, я говорю вещи вполне банальные. Но на то они и банальные, чтобы быть в данное время актуальными. Вернее, на то они в данное время и актуальные, чтобы стать банальными.
И в этом отношении наше время и есть время модулей перевода, их разработки, актуализации и доминации. Собственно, на институциональном и производственном уровне эта тенденция проявляется в нарастании значения всевозможных посреднических и сервисных служб, а в производственном плане – основным продуктом производства становятся программы и технологии, то есть манипулятивно-проектные и операциональные схемы и системы. Думается, что именно определение и разработка модулей перевода и перехода из одних систем и культур в другие, взаимоотношения этих модулей и модусов, а также самой стратегийности подобного поведения и есть ныне доминанта любых разработок в сфере теории гуманитарных наук и культурологии. То есть осознанное существование на границе, в пограничной зоне. Известно, что граница принадлежит сразу обеим граничащим территориям и по сути является вещью вполне виртуальной. Эта ситуация предполагает и полагает исследователю существование в этой виртуальной зоне. Наверное, самым адекватным способом существования был бы аналогично-виртуальный, хотя ныне трудно предположить, что б это могло значить в конкретной реализации. То есть быть агентом глобализации в областях мультикультуральности и, наоборот, представителем мультикультуральности в атмосфере глобализации. Скорее всего, за аналог можно взять художественные и квазихудожественные проекты и жестово-стратегийные поведенческие модели в пределах современного искусства, в особенности, изобразительного. Имеются в виду постмодернистские художественные практики с их преодолением текстового уровня идентификации и реализации художника и перенесением их на уровень жестово-поведенческий и проективно-стратегический. Но это так, это к случаю. Это слишком долгий и сложный вопрос, требующий отдельного разговора.
То есть подчеркивается превалирование некой динамической модели мобильности относительно закрепленных статичных зон культурного обитания. Надо заметить, что подобная стратегия не совсем чужда человеческому существу как таковому, в особенности, нынешнему. Некой типологически сходной моделью, на которую можно условно спроецировать вышеприводимые взаимоотношения динамики и статики, следует считать различные уровни идентификации каждой конкретной человеческой личности. Чем их больше – тем большая подвижность, лабильность и пластичность. В идеале каждый современный человек включает в себя множества уровней идентификации – половой, семейный, культурный, религиозный, языковой, государственный, профессиональный, клубный, товарищеский, коммунальный и, возможно, еще какие-то в разных территориях, странах и обстоятельствах. Именно нынешняя урбанистическая жизнь нарастила этот слоеный пирог идентификаций, по сравнению с прошлыми несколькими основными, среди которых явно выделялся какой-то один доминантный – в разные времена это были уровни местной, религиозной, национальной или государственной идентификации. Думается, что именно выход на первый план проблемы мобильности и переводимости «в» и «из» различных экзистенциальных и социальных сфер обитания является основной тенденцией нашего времени. Ну и будучи активированы, эти мобильность и динамика постепенно от обслуживающе-сервисного функционирования и функции переходят к доминированию и самодостаточности.
Конечно, подобные домыслы весьма далеки от конкретностей нынешней академической жизни и способов закрепления материалов и плодов научных исследований. Сие надо воспринимать, скорее, как экстремы, некий горизонт возможностей. Хотя человеческая культура, прижатая к последней тонкой стенке утопии общеантропологических оснований, уже сейчас проявляет беспокойство и предпринимает определенные поиски наиболее подходящих форм и агрегатных состояний в попытках переступить возможный рубеж новой антропологии или тотальной виртуализации человеческой культуры. Подобные радикальные высказывания и экстремы, конечно же, весьма спекулятивны. Весьма возможно, даже вполне вероятно, даже вероятно в наибольшей степени, что все нынешние прогнозы не оправдаются ни в коей мере. Они напоминают поиски вечно ускользающего Великого объеденения энергий в науке, возможность которого, даже при предполагаемой некоторыми принципиальной невозможности и несуществования подобного в природе, яляет просто саму предположенную тенденцию человеческого сознания к такого рода попыткам. Но все-таки данного рода волюнтаристские забегания вперед дают возможность как бы укрепиться в некой точке удаленного будущего, откуда можно бросить назад, вроде бы в уже завершенное прошлое временно освобожденный и критический взгляд.
Подобное, скажем мы для оправдания и опережая вполне возможные обвинения в наш адрес, будучи принятым как основной пафос и смысл не только существования, но и познавательных усилий, оставляет, конечно, и возможность и даже неизбежность проявления вполне определенных и обычных социальных, религиозных и прочих оценок и страстей (даже внутри самого себя в качестве персонажа одного из уровней перечисленных идентификаций). Но надо представлять себе, что подобный тип поведения в пределах изложенной нами культурной модели является персонажным, то есть уже израсходованным в его креативных возможностях и влиянии на культуру. Точно так же, как и порождение какой-либо новой субкультуры просто воспроизводит уже отработанный тип социокультурного поведения (что личностно притом вполне может быть наполнено неложными страстями и переживаниями). То есть это все понятно и определимо с обозначенной позиции наблюдателя, обитающего на границе. Трудно, конечно, описать обозначенный тип сознания и поведения каким-либо определенным термином или способом, либо указать на какой-либо вполне конкретный, уже существующий в пределах нынешнего набора культурно-исследовательских поведенческих стратегий. Его нет. Он, возможно, и невозможен. Возможно, он существует только в области художнических практик.
Чтобы понять и иметь их как некую модель отсчета, попытаюсь поименовать этот тип художнического поведения как мерцательный. То есть в принципе неподвижное существование в виртуальной зоне границы в реальности представляет собой как бы быстрое мерцание, перебегание из зоны в зону, не задерживаясь ни в одной из них настолько, чтобы влипнуть в нее, быть с нею идентифицированной, но и оставаясь на достаточный промежуток времени, чтобы все-таки ее коснуться и быть с ней в контакте. В сфере реальной, скажем, словесной деятельности эти территории, субкультуры или любые другие персонажи подобной драматургии представительствуются языком, говорением, дискурсом, а описанный механизм мерцания есть просто переключение с одного на другой, конкретная демонстрация самого механизма переключения, самой операциональной модели. В пределах изобразительного искусства, как правило, работа художника связана с таким количеством медиа, что сами по себе они теряют субстанциональность и понимаемы только как некие векторы, указующие на самого художника, служащего тем самым модулем перевода из одного языкового пространства в другое. Можно, будучи поклонником традиционного искусства, не принимать и не понимать подобный радикальный тип художнического поведения, но само положение, ставящее нас в ситуацию связи и медиации между столь разнесенными художническими практиками, почти принудительно заставляет нас быть самими этими модулями перевода. Повторимся, что в том нет ничего запредельного, нечеловеческого, даже принципиально нового, просто наше время акцентировало именно данную проблему и в преддверии принципиального антропологического слома (оставим эту оценку на моей совести), приуготовляет нас, истончает телесность нашего поведения до почти виртуальной невесомости для возможности прохода сквозь пресловутое иголочное ушко.
Вполне вероятно, все эти мои фантазмы преждевременны в ощущении надвигающегося антропологического слома. Но даже при условии невозможности реализации подобных художественных стратегий в пределах академических институций или переведения их в некие реальные и корректные исследовательские практики недопустимо этого не знать, не принимать во внимание и не держать перед собой как культурный контекст и горизонт возможной проекции любых культурологических исследований.
Возможно, все, мной здесь изложенное, производит впечатление некой мешанины. Однако хотя бы этим, подобным, как бы агрегатным состоянием текста оно отражает нынешнее состояния всей антропологической культуры, прижатой к последней тоненькой стеночке своего основания.







