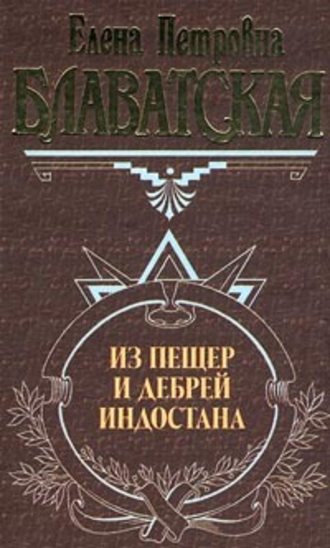
Елена Блаватская
Письма из пещер и дебрей Индостана
– Но не можете ли вы, – настаивал несколько сконфуженный прямым уроком полковник, – дать мне понять простым примером, для чего именно раджа-йоги, как и презираемые ими хатха-йоги, носят, например, жезлы, вот эти дэнды?..
– Для того чтоб эссенция двукачественной силы не развивалась под напором внешних случайностей повседневной жизни, а находилась бы, так сказать, в резервуаре, была бы всегда готовой к употреблению, ввиду возможных событий…
– Каких… например?
– Вообразите себе, что вы идёте по улице с раджа-йогом и ведёте разговор о предметах совершенно обыкновенных, но почему-либо интересующих его. В руке он держит никогда не покидающую его дэнду – вот как эта, – показал Ананда на свою семиколенную трость. – На вас бросается из-за угла бешеная собака. Опасность близкая, пред которой вопрос о вашем спасении зависит от быстроты действия, измеряемой не минутами, а секундами, мгновениями. Хотя мысль действует с быстротой электричества, однако же для приведения в порядок ума, только что занятого посторонними предметами, для извлечения из познавательного аппарата импульсов воли, необходимых для отражения собаки, может потребоваться полсекунды более того времени, которое понадобилось бы собаке, чтобы вас укусить. Без своего дэнда раджа-йог, быть может, не успел бы вам помочь. Но дэнда, пропитанная эссенцией силы раджа-йога, действует с быстротой молнии: направленная против животного, она мгновенно парализует его импульс броситься на нас; a повторением движения раджа-йог мог бы даже убить зверя налёту и не дотрагиваясь до него, если б это оказалось нужным. Вот что может сделать дэнда в обыкновенных случаях. Но называть её поэтому магическим жезлом неправильно, так как ни «жизнь», ни рудракша не могут быть обособленными от нашей сознательной воли и мышления или действовать независимо от нас. Одарять их таким свойством значит признавать в них присутствие познавательного аппарата как у человека, и равняется произвольному распространение суеверия и грубого поклонения веществу.
– Вы сейчас сказали, что дэнда никогда не покидает руки раджа-йога? Я никогда не видал, однако, такого жезла в руках у такура?
– Действующая сила заключается не во внешней форме вахана, и не одна дэнда выбирается носителем или седалищем «силы», – получили мы уклончивый ответ.
В эту минуту шарабан стуча, гремя, подпрыгивая низом и отдуваясь полотняным верхом, скрипя колёсами и вообще издавая самые невероятные звуки, загрохотал на мостовой Маттры, обетованной земли благочестивых вайшнав (поклонников Вишны).
«Шри-Маттра!» – воскликнул Мульджи, бросаясь ничком на пол шарабана. «Шри-Маттра!» повторил за ним Нараян, вдумчиво вглядываясь вдаль, как бы поджидая кого. Один Ананда даже не повернул головы, въезжая. Пока мы все толпились, толкая и падая друг на друга, чтобы взглянуть из-за полотна на ряд розовых, унизанных обезьянами храмов, он и глазом не мигнул, даже когда я почти отдавила его голую ножку. На мои извинения он только посмотрел в меня (не на меня) своими глазами кроткой лани, как бы желая вычитать во мне, в чём именно я извинялась…
Мне стало жутко от этого взгляда. Я забыла Маттру и предалась воспоминаниям о потерявшем душу «человеке-автомате» в сказке какого-то американского Гофмана.[260]
XXXV

Чайтья в Кондане
Мои соображения и думы об отсутствии «личной» души в Ананде были внезапно прерваны самым для нас неожиданным образом. Мы проезжали между двумя рядами зданий, с выступавшими почти на середину переулка террасами, когда над нашими головами на полотняный верх фургона что-то вдруг тяжело упало, забегало, засуетилось, застрекотало, и с визгом, который покрыл разом даже разнохарактерные звуки, издаваемые нашим шарабаном, нас атаковала, а, быть может, по своему и приветствовала целая стая больших и маленьких обезьян. Они цеплялись за бока экипажа, заглядывали в боковые отверстия, лезли одна через другую и через наши головы и плечи. Их появление было так внезапно, что я с трудом могла сообразить, что такое случилось. Все они разом накинулись на стоявшую на скамье, к несчастью, незакрытую корзинку с провизией. В одно мгновение ока бутылка с холодным кофе была разбита, Мульджи выкупан в чёрной жидкости, коробка с чаем разорвана на лоскутки, а чай рассыпан по фургону и мостовой; и мы увидели полковника, увенчанного рисовою лепёшкой, а моё платье всё испачканное вареньем…
Их было десять или пятнадцать штук, и в первую же минуту их появления в шарабане распространился такой острый, специфический запах, что я чуть было не задохлась. Обезьяны не тронули никого, явно производя лишь простую разведку насчёт съестного; наш кучер не успел ещё, повёртывая за угол, остановить лошадей, а вся стая уже исчезла так же быстро, как и появилась… Два брамина с бритыми головами, подскочившие было на помощь к шарабану, увидав своих «богов» ретирующимися, спокойно вернулись на свои места у ступеней пагоды…
Чтобы добраться до приготовленного нам места отдыха, нам пришлось проехать почти вдоль всего города. Маттра, освещённая ярким утренним солнцем, лучи которого скрывали вековую копоть и грязь древних домов, показалась нам очень живописной. Город расположен веером на западном, крутом берегу Джумны, и весь разостлался на высоких, убегающих вдаль зелёными волнами, пригорках.
Мы переехали реку по мосту из плоскодонных лодок, конструкцию которого почему-то восхваляют сравнительно с прочими. Священная река, соперница Ганга, по утреннему обычаю была переполнена очищающимися от грехов индусами обоего пола. Вдоль крутого берега ведут к воде ряды мраморных ступеней, платформы которых все до одной украшены миниатюрными храмиками, каждый в честь одной из пастушек.
Весь город искрещен переулками, восходящими и нисходящими, наподобие переулков Мальты, с кривыми каменными ступеньками, по которым не проехать и на лошаке, а слоны, тоже священные, свободно ступают по ним своими колодообразными, тяжёлыми ногами, отправляясь друг к другу в гости, от одной пагоды к другой. Случается так, что, встретясь хобот к хоботу и видя невозможность, не сворачивая одному из них назад, разойтись, одному в гору, а другому под гору, слоны пускаются на следующую штуку. Обменявшись несколькими фразами с похлопыванием ушей и обниманий хоботами и убедясь в обоюдной дружбе, слон поменьше становится к стенке, а слон побольше ложится наземь, стараясь по возможности стушеваться. Затем первый поднимает ногу и осторожно, не торопясь, лезет через товарища с лёгкостью и грацией; но иногда слон спотыкается и падает, хотя хобот лежащего, поднятый в виде вопросительного знака на всё время опасной переправы, всегда наготове и помогает изо всех сил меньшему, слабейшему брату. Уважение и услуги, оказываемые слонами один другому, вошли в поговорку, служа живым упрёком людям.[261]
Маттра настоящий зверинец. В нём более животных, чем людей, хотя цифра его народонаселения доходит до трёхсот тысяч в месяцы паломничества. Все улицы буквально запружены «священными» быками и слонами; крыши домов и храмов покрыты «священными» обезьянами, а над головами носятся тучами, затемняя Божий свет, «священные» павлины и попугаи. И всё это живёт на свободе, не принадлежит никому, а, напротив, распоряжается по-хозяйски как городским добром, так и самими людьми. Злополучные торговцы и торговки на базарах принуждены приносить провизию в герметически закрытых корзинах, полуоткрывая их для покупщиков с величайшими предосторожностями; иначе обезьяны, вечно торчащие настороже у базарных ворот и привыкшие взимать контрибуцию с каждой повозки – чем и объясняется их атака на нас – тотчас же всё разнесут, да вдобавок и за волосы оттреплют того, кто станет защищать слишком энергично свой товар. Одни слоны ведут себя с величайшим достоинством и честью. Они никогда не возьмут ничего сами, но будут скромно стоять у лавки с лакомствами и ждать терпеливо, пока их попотчуют. Запах в Маттре был такой, что в продолжение целого дня моей побывки в священном городе я не отрывала платка с одеколоном от лица.
Маттра один из интереснейших и древнейших городов Индии. Но теперь от этого когда-то сильно укреплённого города уцелели всего трое полуразрушенных ворот, да остатки когда-то грандиозной крепости. Обезьяны довершили начатое афганцами разрушение, и самая мечеть Арангзеба, с её четырьмя изразцовыми голубыми башнями, покривилась от запущения. Теперь мусульманам нет больше в Маттре места. Даже нелегко выживаемые из гнёзд идолопоклонства американские миссионеры спасовали пред обезьянами да быками и давно уже обратились в бегство. Остались полновластными хозяевами тёмно-лазуревые Кришны, да их зверинец с прислуживающими ему браминами.
А было время, когда место рождения Кришны, божественного Дон Жуана Индии, славилось своею роскошью и богатством; слава эта и привлекла первых афганских завоевателей.
Рассказывают, что между находками в храмах Маттры оказались «пять идолов из чистого золота, глаза коих были каждый из цельного рубина, стоимостью в 50 000 динариев. На одном идоле был найден сапфир, весом в 400 мискалей;[262] «самоё изображение, по сплавке, принесло 98 300 мискалей чистого золота». Кроме этих идолов, «найдено и увезено 100 идолов из серебра, навьюченных на такое же число верблюдов».
XXXVI

Постоянный спутник Е. П. Блаватской полковник Олькотт (последний портрет)
Вместо нескольких часов мы пробыли в Маттре и её окрестностях два с половиной дня. Такур прислал сказать, чтобы мы оставались на «празднества весны», гок'ла аштами.[263] День рождения Кришны в августе, но имеет свой пролог весной, вместе с торжеством Гури, раджпутской Цереры.
Описание всех праздников, даже только главных, у индусов потребовало бы напечатания целой библиотеки. Сат бáра, аур нотахвара, «семь дней (недели) девять праздников», раджпутская пословица, на которую не требуется комментариев. Я опишу только виденную нами мистерию в окрестностях Маттры.
Гопи, пастушки, начинают, конечно, пасторальным праздником Гури, местной Цереры. Гури, одна из форм Парвати, или Дурга-мата, «мощная мать», богиня жатвы и изобилия у индусов. Дурга-мата, – та же mater montana,[264] эпитет, принадлежащий, по Диодору, Кибеле или Весте, в её роли «богини хранительницы детей»; a mater montana называется в Раджастхане Амба мата (мать горы), и здесь она является патронессой и хранительницей мальчиков, будущих воинов. Алтарь Гури-Парвати-мата, «мощной матери горы», венчает почти все возвышенные местности в Меваре, сердце Раджастхана, и ей посвящены все «Храмы-Крепости» страны. Её деятельность разнообразнее, а обязанности труднее и многостороннее, чем у её рефлексий в Риме, Греции и даже Египте, так как всё заставляет предполагать, что она первообраз Изиды. Как Эфесская Диана, «Гури-Дурга» увенчана полумесяцем и, как Цибела, она имеет на голове зубчатую башню[265] и считается под названием Дэви-Дурги (сила, мощь) патронессой всех укреплённых мест. Она тоже Мата Джавани – «мать рождений», то есть исполняет обязанность Юноны, Juno Lucina; как Падма, «престол которой водружён на лотосе» – она Изида Нила; как Гури Трипура (буквально – трёх городов, Tripolis?) – «управляющая тремя городами», и как Атма-дэви, богиня душ, она, конечно, Геката, – Hecata Triformis греков. Словом, Гури синтезирует в себе одной всех богинь Греции и Египта, от Дианы и Прозерпины до Изиды и Астарты. Но главным образом она «земля», индийская Церера, которая и является в мистерии сидящей на снопах на колеснице, влекомой коровой,[266] с камакумной в руках, вазой, похожей на рог изобилия, из которого падают плоды и зёрна.
После этой процессии является Камадева – бог любви, купидон Индии, у которого лук и стрелы заменяются здесь гирляндами цветов и заострённой бамбуковой тростью. Он попадает ею в одну из гопи, дочь Наяды, которая и сгорает любовью к Кришне. Раздаётся хор. То гимн Каме, из Бхавишьи пураны: «Приветствие богу цветочного лука!.. Слава дэву, заставляющему мудреца позабыть всю свою твёрдость! Слава Мадане, слава Каме, богу богов; ему, который Брахму, Вишну и Шиву и самого Индру наполняет волнениями любви!»
Является Гот-нат (Кришна, под видом «владыки пещеры» (гота), которого не следует смешивать с Гопи-натом – «владыкой пастухов»). Он покрыт звериной кожей, увенчан травой кузи и играет на бамбуковой свирели, и пред ним начинают собираться гопи, привлекаемые звуками музыки. Но в этом действии (в первом) гопи не пастушки, да и сам Готинат превращается из «бога пещеры» в «бога горы», в Гордан-Ната, или Нат-джи (владыку всех владык). Он увенчан блестящим венцом из лучей, как Феб, потому что здесь он является самим солнцем, как Вишну, Аполлон, Озирис. Скромная свирель тоже уступает место ситаре, шестиструнной лире,[267] на которой голубой бог начинает играть не мелодию, а, как мне показалось, гаммы, и очень монотонные. Но так как меня стали уверять, что это музыка древняя, как сама «музыка сфер», то я и успокоилась.
Пред богом «оборотнем» начинают рисоваться гопи, тоже к этому времени превратившиеся в звуки.
Говорю в «звуки», потому что другого подходящего слова нет. То девять но-рагини, a рага есть музыкальная шкала, гамма, рагини же (множественное число женского рода) – супруги рагов. В этом не я виновата, а мудрецы, изобретшие санскритскую музыку, в которой, вдобавок ко всей её учёной прелести, нисколько не отвергаемой, но положительно не вкушаемой мною, заключается целая мифология.
Вот доказательство:
Санскритские изобретатели музыки выдумали шесть рага, то есть шкал, коих названия: Шрирага (рага значит господин), Вазанта, Панчама, Байрава, Мегха и Нат-Нараян.
У каждого из этих рагов по пяти жён, а у каждой из этих жён по восьми детей. Каждый раг, каждая рагиня и каждый рагиненок имеет имя, атрибуты, собственную биографию, генеалогическое древо, и если бы родился в России, то имел бы, вероятно, и свой формулярный список. Родившись в Индии, каждый из них за то получил титул бога, богини и боженка. Философия вышесказанного есть та, что певец и музыкант в Индии поёт и играет, имея в своём распоряжении 276 разных шкал, по семи нот в каждой; каждая нота выражает какой-либо звук в животном царстве, а звук этот должен изображать какое-либо чувство.
Звуки животных и выражаемые ими чувства выписываю для любопытных из оригинального сочинения Санскритского Музыкального Общества, потому что оно разъяснит лучше всего, чтò такое представляли Кришна Нат-джи и его рагини.

Вот эти-то «звуки», выражающие оттенки чувств, и олицетворялись плясавшими пред Кришной но-рагинями.[268] То были девять олицетворений «девяти страстей», но-раза, зарождённые мелодией бога музыки,[269] его создания, воспрянувшие к бытию под волшебной силой Ваха,[270] и исполнение было, как и сама идея, прелестно. Взявшись за руки, но-рагини сперва пляшут пред своим творцом, а затем следует ещё превращение. Пред зрителями является пылающий бог солнца, без incognito на этот раз, и но-рагини обращаются в знаки зодиака; начинается астрономическая мистерия, где богини-созвездия составляют вокруг бога солнца круг и выплясывают знаменитый Рас-Мандал, танец звёзд. Но-рагини и но-раза опять исчезли, остались одни олицетворённые знаки зодиака. А рас-мандал всё продолжается. Медленные движения, полная грации мимика оживляются и делаются всё быстрее и быстрее…[271] Мистическая пляска на берегах Джумны напоминает танец альмей в Египте и переносит нас на песчаные берега Нила…
В третьем действии снова всё изменяется. Кришна опять является пастушком с посохом и своею свирелью, и вокруг него играют и поют вновь воплотившиеся из богинь пастушки, гопи. Но-рагини ещё раз превратились в но-рази, то есть «девять страстей», и стараются свести пастушка, брахмачарья, с пути истины. Но им это не удаётся. Кришна торжествует в своей добродетели, а пастушки – en sont pour leurs frais.[272]
Кришна, не обращая внимания на заигрыванье пастушек, продолжает играть на своей свирели, заменившей ему теперь шестиструнный ситар. Но зато коровы его священного стада, устыдясь, должно полагать, за пастушек, разбегаются… Солнце зашло и на сцене совсем темно. Тут являются свирепые катчи (другое племя раджпутов) и угоняют коров к себе; а в погоню за ними бросаются гоклы (гокуладесы) или куклопесы[273] и стараются отбить скот у хищников. Когда они появляются, то перед зрителем восстают свирепые циклопы-пастухи Гомера, не знавшие ни закона, ни удержа, мохнатые гиганты… Они вылезают из пещер, спускаются с деревьев, и на груди у каждого сверкает, как огненный глаз, огромный жук светляк, приколотый к звериной шкуре.
Такие светящиеся жуки, единственное освещение в пещере пастуха или в круглой башне бедняка Гоклы, и до сего дня в употреблении у племени нанды, воспитателя Кришны. Часто ночью, отправляясь отыскивать пропавшую корову или быка, гокла прикрепляет несколько таких жуков к тюрбану, чтобы светлее было. Не в этом ли племени гокуладесов следует искать начала и объяснения куклопесам греков? Светляки превосходно объясняют «фонарь на лбу» у циклопов-рудокопов, а также и то, что Гомер знал их за племя пастухов, гокула, главным и единственным представителем коих был «одноглазый» Полифем.[274]
Мистерия кончилась поздно. Брамины чоби (так названные от чоби, палицы, которою они вооружаются на это представление) давно уже, осадив тирана Канзу во дворце, разнесли в мелкие щепки его крепость[275] и самого его загнали в кусты, когда мы оставили пагоду. После спектакля «бог – Кришна» присоединился к нам и оказался очень молодым, рослым раджпутом, который, к удивлению нашему, даже говорил по-английски. Я обязана ему главными из полученных нами в Маттре сведений. Он нам объяснил смысл многого, чего мы тогда не понимали из представления, в котором ему выпала главная роль.
Он вполне верил в Кришну-героя, и отвергал Кришну-бога не менее нас самих. От него мы узнали, что служение седьмому по числу из семи главных видов Кришны, под которыми он обоготворяется в Раджастхане, то есть Мудхун-Мохуны, «божеству, опьяняющему любовью», находится исключительно в руках брамини, женщины. «Мудхун-Мохуна» есть пастушок, чарующий пастушок, гопи. В настоящее время великая жрица голубого бога очень стара и очень строга к храмовым научам, обязанность коих состоит в разыгрывании ролей гопи и в ухаживании за лазоревым божеством. Эта строгость отзывается на самом её храме, который-де страдает недостатком в «небесных музыкантах».[276] Маленьких певцов неба им приходится занимать из других пагод, вне Раджастхана.
Статуй или идолов Кришны, как сказано, семь главных в стране, и они были описаны только Тодом, единственным, кажется, изо всех англичан, которому позволили, как и нам, пятьдесят лет позднее, приблизиться к святыне.
Эти семь «чудотворных» статуй были принесены столетия тому назад таинственным лицом, Бальбой, который потом и сделался верховным жрецом Раджастхана. Умирая, он их разделил между своими семью «внуками» от духовного сына (усыновлённого), и теперь они составляют источник величайших доходов для их потомков, священнодействующих браминов семи главных пагод в стране.
Представлявший Кришну, собственное имя которого я забыла, доставил нам вход к Ноните,[277] «младенцу Кришне». Нонита сидит на лотосе, похожем, впрочем, на кочан капусты, задумчиво держа в руке пирожок (пару): такие пирожки делаются из теста, замешанного на воде из реки Джумны, отнюдь не другой. Со времён афганцев, которые со свойственным им иконоборством бросили Нониту в Джумну, он покоился до 1803 года на дне реки. Когда его случайно выудили оттуда, он пирожка своего всё ещё не съел и всё ещё также внимательно всматривается в него, как бы не доверяя ему. В этой воздержности я ему вполне сочувствую. Принесённый мне, в виде необычайной милости, «священный» пирожок до сей поры мне памятен. Съев его, я тотчас почувствовала припадок морской болезни и оставалась под влиянием мрачной меланхолии целый день.
Осматривая храмы и их разнородные божества, я совершенно забыла о салиграме нашего председателя полковника О***, не оставлявшем его ни на минуту. Мои мысли были так заняты мифологическими сравнениями, что если бы кто заговорил о нём, я, вероятно, не обратила бы и внимания. Но талисман напомнил нам о себе, и при таких обстоятельствах, что трудно было забыть.
Выходя, под вечер последнего дня, из полуразрушенного дворца, куда нас поместил Ананда по нашем приезде, чтобы посетить храм Гопала-Кришны, мы решили отправиться туда пешком. Пагода была так близко от нашего дома, что следовавшая за вами по пятам дребезжащая карета казалась нам излишней. Мы её отослали, так как для того, чтобы перейти площадь не стоило и садиться в экипаж. Я пошла вперёд с Нараяном, бабу и Анандой-Свами, а за нами шёл полковник, в сопровождении целой свиты браминов, пандитов и шастри. Мульджи служил им переводчиком.
В пять минут, несмотря на постоянные остановки и препятствия, в виде шмыгавших между ногами обезьян, да целых процессий ослов и транспортов, мы были уже у преддверия пагоды, и я села на ступеньки широкой лестницы, поджидая главу нашей компании. Ананда-Свами стоял шагах в двух от меня и тихо разговаривал с Нараяном, с которым он видимо подружился, а бабу я отправила купить лакомств для «священных» четвероногих.
Храм Гопала-Кришны построен в глубине глухого переулка, из коего нельзя было видеть ничего, кроме одного угла площади, которую мы только что прошли. Ожидая каждую минуту полковника и бабу с орехами, я спокойно сидела, довольно удачно сдерживая до той поры нахальное и неприятное заигрыванье обезьян, которые чуть не лезли к нам в карманы. Эти животные до того привыкли жить между людьми, что даже и наши, столь отличные от туземцев платьем и наружностью, фигуры не возбуждали в них ничего, кроме ожидания обычной подачки. Их собралась около меня целая колония, и было бы трудно не заинтересоваться, глядя на их хитрые, светящиеся глазки, на взгляды их, упорно не покидающие моих рук и следящие за малейшим движением. Одна из них, престарелая на вид макашка, потерявшая уже несколько зубов, незаметно для меня стащила снятую перчатку и, прежде чем я даже догадалась о пропаже, принялась с наслаждением жевать её в углу.
Но вот показался бабу с орехами и изюмом и стал бросать их пригоршнями в обезьян: тут у нас с ними началась потеха. Обезьяны стрекотали и дрались, мы глядели на них и смеялись, как вдруг, совершенно для нас неожиданно, со стороны площади поднялся такой ужасный необъяснимый вой, что мне показалось, будто там сорвался с цепи целый десяток тигров… Возгласы толпы, мычание быков, рёв слонов, всё это сливалось в один глухой, протяжный гул. Он приближался к нам, с каждою секундой становясь яснее и громче, и я было уже собиралась последовать примеру макашек, которые со страху мигом улетучились, когда Ананда-Свами разом отвлёк моё внимание от неизвестной мне опасности и приковал его к себе… Глядя на него широко раскрытыми глазами, я, должно быть, представляла картину такого испуганного удивления, что бабу, сам не понимая ещё причины его, бросился вперёд загораживать меня своею тонкой фигуркой, а Нараян, схватив какое-то полено, стал возле меня в позе гладиатора. Так мы стояли все трое в течение нескольких секунд, не произнося ни слова, окаменелые от изумления.
Чтò же случилось? Для всякого, не наблюдавшего за аскетом, как то делала я с утра до поздней ночи в течение трёх суток, ничего такого, что бы показалось уж из рук вон странным. Услыхав рёв, Ананда-Свами, обыкновенно так медленно и плавно двигавшийся словно на заведённых пружинах, вдруг преобразился. Во мгновение ока, одним, сделавшим бы честь любому акробату, прыжком, он очутился на конце переулка.
Раздалось ещё несколько слабых мычаний, а затем целая толпа браминов наводнила переулок и среди них полковник… но в каком виде, силы небесные!
Он потерял шляпу и, по-видимому, очки. Белоснежное пальто и панталоны превратились от покрывавшего их навоза и пыли в нечто невообразимое, в тряпки, покрытые пятнами и прилипшими к ним кусками столь излюбленного лондонскими эстетами цвета гнилой зелени, с коричневыми тенями нюхательного табака. Лицо его было краснее спелой вишни, волосы растрепались, а в бороде торчали куски соломы и сена… Он казался очень сконфуженным.
– Я советовал полковнику не подходить к священным коровам, но он не послушался, – кричал, объясняя, Мульджи.
– Чёрт их побери, ваших священных коров! – огрызался наш президент. – Я хотел их покормить хлебом и пряниками, а они стали ко мне лезть… голов десять. Я от них, а они ко мне… мотнёт головой, подбросит хвостом вверх, да и норовит мордой в карман… Мотнёт, да и лезет с ужаснейшим мычанием… оглушили меня… Ну, я и упал… поскользнулся и… упал!..
– Ещё бы, когда у вас салиграм под рубашкой; ведь говорил же вам Ананда-джи,[278] предупреждал: берегитесь, не подходите к коровам!..
– Навалились на меня, припёрли в угол, – продолжал объяснять, как бы извиняясь предо мной, бедный полковник, – ну, я и упал… брамины машут руками, просят коров по-санскритски оставить меня, и хоть бы один из них хватил их палкой!.. Ну, а коровы ещё хуже!..
На лице Мульджи, при этих словах, изобразился священный ужас.
– Ударить корову Гопала-Кришны!..
– Не ушибли ли они вас? – осведомилась я, слишком ещё поражённая неожиданностью и испуганная, чтобы вкушать всю комичность его положения.
– Нет… кажется, ничего, – отвечал он, ощупываясь. – Только вот перепачкался… проклятые коровы! Жаль, что со мной не было трости!..
– Прошу вас, не говорите так, полковник, – испуганно озираясь на браминов, прошептал встревоженный за нас Нараян. – Хорошо, что они не понимают вас. Они способны убить всех нас из-за священной коровы…
– А ведь вам пришлось бы ещё хуже, сааб, – молвил бабу, – если бы не Ананда-Свами… Это он вас выручил… дэндой …
– Просто смотрел! – перебила я. – Всё кончилось до его дэнды …
– Вы знаете, упасика, что это не так, – с упрёком заступился Нараян и отошёл прочь к стоявшему в стороне «брату Рощи».
Ананда в ту самую минуту, когда первые брамины показались у входа в переулок, пропустив людей, видимо воспрепятствовал нескольким коровам ворваться за ними в узкий проход. Стадо гналось за несчастным президентом рысью, пока он не исчез от них в переулке.
– Что ж именно он делал и как он им «воспрепятствовал»? – расспрашивала я «Кришну», который присоединился к нам несколько минут позднее.
– Стоял у входа и махал в них дэндой.
– Как в них?.. то есть на них, на коров?.. Ну, конечно, тем и испугал их.
– Нет, именно в них. Простого маханья палкой мои коровы не испугались бы.
Он говорил «мои» коровы, как будто серьёзно воображал себя богом Кришной.
Мы отправились домой, так и не видав храма Гопала; солнце зашло, и под покровом тотчас же окруживших нас, как тёмным флёром сумерек, скрывших очень кстати плачевный вид нашего президента, мы вернулись домой и стали приготовляться к отъезду. К несчастью полковника, вся наша поклажа была отправлена из Баратпура прямо вглубь Раджастхана, и президент не мог даже переменить платья. Но наш хладнокровный глава и тут не растерялся. Он купил белую одежду туземца и предстал пред нами в костюме, представлявшем странную смесь раджпутских одеяний с европейскими.
Но он видимо сознал в душе, что получил урок. Салиграм исчез с его особы, и ничто не напоминало нам более о его «магическом» присутствии. Впрочем, обладание оным оказало нам и пользу. Брамины, приняв этот факт к сведению, хотя и чувствовали к нашему президенту большую зависть и диву давались, что священный их предмет не утрачивает своих свойств даже на особе нечистого млеччхи, но всё-таки почувствовали к нам ещё сильнейшее уважение и как бы даже суеверный страх.
Мы выехали из Маттры ночью по реке в большой примитивной лодке, напоминающей венецианскую гондолу, в которой у нас стоял стол и скамейки кругом и даже было место для кухни. Последнее, впрочем, оказалось для нас бесполезным, так как мы оставили нашу гондолу в два часа ночи, и нас увезли в лес к какому-то «вассалу», по выражению Ананды, ночевать.
На другой день мы поехали к деревушке бардов. Бхаты или бхарты и чаруни или чараны, то есть барды и летописцы,[279] издревле занимаются переноской вещей. Такая «переноска» началась одолжением и постепенно перешла в ремесло. В этой стране, заселённой вечно враждующими племенами, разбойничьими шайками бхиллей и меров, во дни былые невозможно было пересылать ни денег, ни вещей большой дорогой. Барды были единственным классом, который уважали и проклятий коего страшились разбойники. Взявшись доставить сумму денег или ценную вещь, бхарт ручался своею жизнью за доставку; если разбойники, невзирая на его сан, отнимали у него доверенное, он в ту же минуту вонзал себе нож в сердце и, обрызгав кровью грабителей, умирал с проклятием на их головы. Это проклятие всегда исполнялось, говорят раджпуты. Прошли века, и теперь бхарта, везущего миллионы, не тронут разбойники, будь их сотня против одного. Бхарты служат посыльными по всему Раджастхану, и их сан делает их священными в глазах самого свирепого разбойника. «Даже полудикий коли и сахрай страшатся проклятий этого странного существа, которое ведёт караваны с полной безопасностью чрез самые безлюдные пустыни и непроходимые леса этой местности. Путник, желающий достигнуть беспрепятственно портов Джалора или Радханпура, ведущего в Сурат или Мускат-Мандави, присоединяется к каравану, во главе которого едет бхарт: он в полной безопасности»…
На другое утро, восстав от спокойного сна в лесу, Ананда нас повёз именно к одному такому чарану, в семействе коего мы и провели время до самого вечера. В белом, длинном и широком одеянии, старик походил на Оссиана, сошедшего с холста картины. Сидя с ситаром в руках на полу, он пел нам легенды о древней удали сынов его страны, о падении Читтура, о героях коганах (племя такура) и о блаженстве смерти за долг чести, за данное слово, за родину… Его два сына, рослые, красивые раджпуты, пели в свою очередь, и их легенды были все основаны на подвигах Кришны, Бальрамы, Арджуны и племён Гарикула. А их жёны и старуха-мать прислуживали нам, кормили нас и не знали, что и делать для «саабов», отправляющихся к «великому такуру».
Костюм женщин у бхартов чрезвычайно живописен: тёмные шерстяные юбки и сверху белые как снег сари, а в чёрных, как смоль, волосах цветы, кораллы и золотые украшения. Здесь женщины скорее напоминают красивых неаполитанок прежнего времени, чем индусок. В этом благословенном уголке Индии нет ни каст, ни фанатизма бомбейских браминов. Бхарты и чараны составляют, так сказать, imperium in imperio.[280] Они не зависят ни от кого, и правительство умно воздерживается от вмешательства в их дела: весь Раджастхан поднялся бы как один человек в защиту своих священных бхартов. Они – последнее звено, соединяющее их горькое настоящее с величием их незабвенного и незабываемого прошлого.







