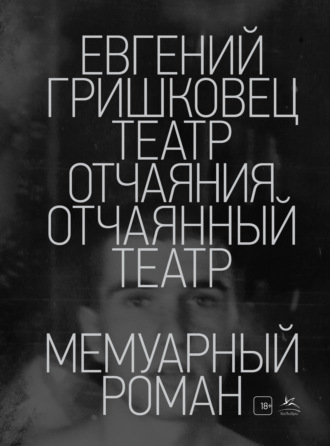
Евгений Гришковец
Театр отчаяния. Отчаянный театр
В день выпускного мне не верилось, что больше никогда в жизни я не буду прикасаться к алгебре, физике, химии. Я так радовался! Так ликовал! Тогда само осознание значения фразы «никогда в жизни» радовало и вызывало восторг облегчения. Теперь эта фраза вызывает совсем другие чувства.
К выпускному вечеру, хотя это мероприятие громко именовалось «Выпускной бал», наш класс на собрании решил подготовить небольшой концерт и стенгазету. Девочки радостно загалдели, желая делать газету. Они любили ко дням рождения учителей делать газеты с нарисованными цветами и вклеенными в эти цветы фотографиями, а также писать разноцветными фломастерами стихи. Наверное, им было приятно заняться рукоделием и повырезать лица из фотографий за все школьные годы. Меня всегда удивляла страсть девочек к вырезанию чего-то из чего-то, к рисованию цветов и платьев.
Концерт же был практически заранее готов. В классе нашем номеров для этого концерта хватало. Отличница из отличниц, самая аккуратная, с прямой, как указка, спиной и шеей, девочка всегда на школьных концертах громко и самоотверженно читала стихи, в основном про то, как ярко надо жить и стремиться к ещё большей яркости. Несколько девочек регулярно грустно пели весьма печальные песни о том, что школьные годы – это лучшее время в жизни, про то, что школа никогда не забудется и что всё будет хорошо. Один долговязый, сильно заикающийся наш одноклассник ходил в какой-то кружок, где учили делать фокусы. Он их с удовольствием показывал на школьных концертах и не раз представлял нашу школу на городских смотрах. А ещё мы всем классом могли спеть совсем грустную песню про учителя, который нас всех любит, но мы неизбежно растём, покидаем школу, а ему предстоит любить новых идущих следом, но мы, его ученики, никогда не забудем ни школу, ни своего учителя. Вот и весь концерт.
– А у нас ещё есть артист, – вдруг сказал Паша и указал на меня. – Он может показывать пантомиму.
На слове «пантомима» Паша стал нелепо размахивать руками, растопырив пальцы. Все заржали.
– Ну что же, прекрасно! – сказала наша учительница английского языка, самая модная дама в школе, любящая всё диковинное и необычное. – Мы с удовольствием посмотрим и послушаем.
– Я не умею!.. Я не могу… – почти крикнул я, вскочив и опрокинув стул.
– Не скромничай, – сказала учительница английского.
– Но я один не могу, – отчаянно сдерживая крик, сказал я.
– Привлеки кого хочешь, – ответила она. – Порадуйте нас, чтобы нам было что вспомнить о вас хорошего… талантливого, – сказала она, уже обращаясь ко всему классу.
От собрания и до выпускного вечера оставалось ещё четыре дня. В один из этих дней был назначен устный экзамен по истории, самый лёгкий и не страшный.
В те дни я придумал и сделал свой первый в жизни спектакль. Крошечный. Дурацкий. Но спектакль! Спектакль с началом, финалом, персонажами, музыкой, костюмами и даже диалогами. Сначала я был обескуражен заданием подготовить выступление, но потом идея меня увлекла. О настоящей пантомиме я думать не стал. Это было недосягаемо. А вот сделать что-то весёлое мне очень захотелось… И тогда я придумал спектакль-пародию на индийское кино.
Американское кино тогда появлялось на экранах кинотеатров редко. Европейское тоже. Да и то это были фильмы либо исторические, сказочные, или содержащие критику буржуазного общества. Зато индийское кино показывали регулярно. Люди от него были в восторге. Драки, песни, любовь. Мои друзья и я это кино терпеть не могли. Но индийские фильмы мы знали. Лет до одиннадцати-тринадцати мы их всё же смотрели, а то и по нескольку раз. Там много дрались, стреляли и были всякие трюки. Песни и любовь мы терпели. Да и другого кино попросту не было. Девочки индийские фильмы смотрели и после тринадцати лет. Они терпели драки и стрельбу, зато песен и любви в том кино было больше. Мы, мальчишки, над ними издевались по этому поводу.
Наверное, в то время многие так или иначе пародировали индийские фильмы. Или как-то шутили на их тему. Идея моя была не оригинальна. Но я тех пародий, честно, не видел и шуток не знал. Так что я сам придумал свой спектакль. Придумал. Сел. И написал. Это было моё первое сценическое сочинение.
Для постановки нужно было привлечь двух человек. Третьим персонажем, главным героем, намерен был быть я сам. Точнее, я хотел сыграть двух персонажей – отца и сына. Но нужны были ещё мальчик и девочка. Необходимы. Первым делом я привлёк Пашу, который тут же отказался, хотя любил всякие затеи да и покривляться был не дурак. Но спектакль для выпускного вечера – это было другое дело, иной уровень Но я его уговорил. Соблазнил возможностью в спектакле на сцене продемонстрировать свои боевые навыки и достижения в области карате. С девочкой было сложнее. Девочки все хотели участвовать либо с подругой, либо никак. Подруга была не нужна. В итоге удалось убедить одну любительницу индийского кино. Она наивно поверила, что мой спектакль будет не пародийный, не ехидный, а наоборот. А ещё оказалось, что у неё есть настоящая индийская одежда и у неё возникала возможность в ней покрасоваться.
Не буду вспоминать наши репетиции. Это оказалось очень трудным, а главное, очень нервным делом. Любительница индийского кино, моя единственная актриса пришла на репетицию с подругой, объяснив, что без неё она не сможет одеться в индийский наряд. Одевалась она больше часа, а мои аргументы, что для первой репетиции костюм не нужен, она просто пропустила мимо ушей. Паша весь этот час изводил меня легкомысленным своим отношением к делу. Парень, который должен был включать музыку, всё время куда-то уходил.
Мы выступили прекрасно. Не могу вспомнить, как я называл свой первый спектакль. Что-то вроде «Месть за месть» или «Месть из мести». Паша играл злодея, который убивал доброго и хорошего парня, которого играл я. Девочка исполняла роль возлюбленной героя, а потом его мать. Я придумал и выучил танец, который означал, что мой герой очень хороший, добрый, честный, умный и воспитанный человек. Во время этого танца злодей убивал моего героя. Но до своей гибели мой персонаж оказывал жалкое сопротивление, потом танцевал, умирая. Паше в этом спектакле нужно было только громко и зло смеяться. А девочке в индийском наряде нужно было только изображать рыдания и красиво ходить. Она это делала предельно красиво, явно удивляясь смеху зрителей. Чистая, наивная душа.
После гибели моего героя Пашин злодей радовался, показывал разные приёмы, стойки, блоки и удары из карате. А потом уводил рыдающую героиню. Я же в это время быстро переодевался и появлялся в другом костюме. Мой обновлённый герой обращался к героине «мама», а к Пашиному злодею «отец». Я написал пару дурацких диалогов и придумал себе танец, который означал доверчивость, доброту, юность и полную наивность.
В конце спектакля мой герой по имени Виджай возмущался жестокостью отца по отношению к матери и ко всему на свете, он начинал удивляться, почему сам он такой добрый, а отец такой злой. Да ещё совсем не похож с сыном.
В итоге героиня выкрикивала фразу, которая разоблачала Пашиного злодея и сообщала Виджаю, что перед ним не родной отец. После чего шёл танец с дракой, в которой злодей, на свою голову обучивший Виджая карате, погибал в страшных муках. Паша очень хорошо кривлялся на полу актового зала – школьной столовой, изображая мучительную смерть. Кривлялся долго. И при этом по заданию режиссёра, то есть по моему указанию, громко и жутко хохотал. В конце героиня и Виджай танцевали танец радости и торжества справедливости.
Единственная фраза, которую произносила героиня, разоблачая злодея, осталась в моей памяти дословно. Когда я её придумал, то сразу понял, что она мне удалась и является главной фразой всего действа. Я очень гордился ею. Когда на этой фразе зал взорвался смехом и аплодисментами, я впервые ощутил и испытал авторское счастье.
А фраза звучала так: «Сын мой! Это не твой отец. Твой отец убит, а убил твоего отца твой отец».
Нам долго аплодировали. Я видел восторг. Я был и удивлён этим, и счастлив одновременно. Удивлён тем, что у меня получилось пусть маленькое, но выступление на сцене, а счастлив, потому что я хотел восторга, я его жаждал… И получил.
Все нас поздравляли. Хвалили. Я очень хотел, чтобы кто-нибудь сказал мне что-нибудь про мой спектакль, оценил фразу, разглядел всю тонкость иронии и точность пародии… Но вслед за нами на сцену вышли девочки петь песню о чудесности школьных лет, потом были стихи, потом директор школы говорила нам торжественное напутствие, потом вручали отличникам грамоты и медали. Потом начал играть приглашённый ансамбль. Пошли танцы…Кто-то из одноклассников стал тайком уходить во двор или в туалет, чтобы выпить загодя припрятанного креплёного вина… Про мой спектакль забыли. Забыли быстро… А мне не хватило чего-то. Не хватило слов благодарности и внимания. Не хватило оценки и понимания… Не хватило!
Я тогда не знал, что не будет хватать никогда.
А потом было упоительное лето. Я готовился к вступительным экзаменам… Точнее, я что-то читал из списка литературы к тем экзаменам. Читал в своё удовольствие, ходил в кино на всё подряд. Летний город Кемерово был пустыннее обычного, демисезонного. Спокойнее. Ничто не отвлекало. Даже кино, которое я смотрел, забывалось через какой-то час после просмотра. Я ел мороженое, гулял по парку под названием Комсомольский в надежде найти хорошую скамейку, чтобы почитать. Хороших скамеек в том парке мне не попадалось. Все либо были сломаны, либо грязны, либо заняты. Честно говоря, я так и не научился читать в парках, на пляже, на балконе… Не смог. Всё меня отвлекало, да и теперь отвлекает… Жизнь мешает чтению.
Короче говоря, я поступил в университет. Экзамены сдал не без сильных волнений, но и без особого труда. Я и отвечал неплохо экзаменаторам, и у меня было существенное преимущество перед большинством поступающих. Фора. Козырь. Я был юношей. Мужским родом. А девяносто процентов желающих учиться русской филологии были барышни. В большинстве своём из районных центров, посёлков и деревень. А я был городской парень. Редкий экземпляр. Мне были рады.
Парней поступало на филфак всего десять человек. Поступили восемь. Двое откололись, да и то только потому, что поняли во время экзаменов, что не туда подали документы, и филология им точно не нужна в жизни и не интересна по сути.
За время подготовительных курсов перед вступительными экзаменами я познакомился с ребятами, с какими прежде не общался. Они были особенными. Они обращали на себя внимание. У них была своя компания, свой язык и даже своё собственное пространство и время. Они жили как бы не в Кемерово и как бы не в сегодняшнем актуальном времени. Они были постарше меня. Школу закончили кто пару лет назад, а кто-то и все десять. В армии не служили, как-то от неё отмазались. Что-то делали, где-то работали, или не работали. Подолгу жили не в Кемерово, часто вспоминали Москву и Питер. У одного были дети. На филфак они поступали компанией в четыре человека. Три парня и одна девушка. Однако эти четверо были только частью довольно большой группы тех самых особенных людей.
Они слушали особую музыку. Фрэнка Заппу. У них были пластинки группы Дорс, Чеслава Немана, Майлса Дэвиса… Читали они Германа Гессе, Хулио Кортасара… То, о чём они говорили и над чем смеялись, мне было непонятно. Но их компания меня так возбудила и так потянула в свои ряды! Я почувствовал жгучее любопытство и даже глубокий интерес.
До встречи с ними я был уверен, что много читал и слушал музыки. Но те имена, которые они называли, я в большинстве своём слышал впервые. Я подумал тогда: вот она – интересная студенческая, подлинно свободная жизнь. Вот, где настоящие глубокие содержательные разговоры и смысл.
С той компанией дружили аспиранты и молодые преподаватели филологического факультета. Сообщество, представителей которого я повстречал на подготовительных курсах, явно было центром притяжения для особенных людей. Я очень хотел быть особенным.
После поступления и зачисления, после получения студенческого билета, после торжественного ужина, который устроили родители в честь начала моего студенчества, но ещё задолго до начала занятий, летом, мне позвонил мой новый приятель, а теперь ещё и сокурсник, один из описанной выше компании. Он пригласил меня вечером в гости, «на квартирник». Так он сказал. В тот раз я впервые слышал этот термин. Адрес, который он мне сообщил, находился в самом-самом центре и в самом лучшем и красивом уголке города. Я прежде ни разу не бывал в домах и квартирах того уголка.
На том квартирнике собралось человек десять парней, мужчин и девушек. Сама квартира была большая, в сталинском доме, с хорошей мебелью и картинами на стенах. С превосходной библиотекой, красивой посудой в буфете. Квартира была почти как у профессоров в Томске, только чисто прибранная, без хлама, без джунглей разросшихся растений, без уютного беспорядка, а совсем наоборот. Всё было на своих местах, всё продумано, дорого и солидно.
Собравшиеся, наоборот, были продуманно неряшливы, длинноволосы, небриты и бледны. Они казались тайком проникшими ночью в музей. Девушек было две. Обе в джинсах и каких-то растянутых, застиранных свитерах. С прямыми, длинными волосами и обе в очках.
Когда я пришёл, все уже были в сборе. Большой стол в гостиной был отодвинут к стене. В центре комнаты на полу лежала серенькая скатерть. На ней стояли тарелки с хлебом и какой-то порезанной колбасой, блюдце с орехами, вазочка с конфетами. Всего немного. Никто ничего не ел. Ещё на скатерти стояли стаканы и бокалы. Пара бутылок вина и бутылка водки. Кто-то сидел на полу, кто-то на диване, кто-то курил на балконе. Голоса доносились с кухни. Все говорили разом. Смеялись.
Пригласивший меня парень представил меня всем. Парни и мужчины, которым я был представлен, как и девушки, были длинноволосыми, кроме одного, совершенно лысого. Все по очереди со мной поздоровались и продолжили свои разговоры. Я не знал, куда себя пристроить, потоптался и робко присел на диван. На том диване уже сидел тощий парень, одна из двух девушек, а перед ними на полу восседал высокий, румяный человек с кудрявой светлой бородой и роскошной шевелюрой. Они говорили оживлённо и весело то ли о какой-то книге, то ли о фильме, то ли о каком-то новом альбоме какой-то группы. Я слышал незнакомые иностранные имена, массу неведомых терминов, какие-то названия то ли городов, то ли планет, то ли рек, то ли просто неизвестных мне предметов одежды или продуктов питания. Я ничего не мог понять. Они же говорили так, что было ясно: они не просто знают значение всех этих слов, но и всеми упомянутыми предметами давно и привычно пользуются, бывали во всех упомянутых городах, а людей, чьи имена звучали, знают лично и близко.
Я, аккуратно стриженный, в своей аккуратной клетчатой рубашке с коротким рукавом, заправленной в мои любимые вельветовые брюки, казался себе в той компании страшно скованным дремучим провинциалом с окраины города. Города, который находится на окраине мира. Из глухомани. Из дыры.
В компании томских профессоров я не чувствовал себя столь убогим и ничего не знающим. Но мне было всё интересно, мне казалось, что всё наполнено смыслом. Я бы так и сидел, стараясь не привлекать внимания. Слушал бы и пытался запомнить незнакомые слова и названия. Но тут с балкона шагнул в комнату совсем бледный человек, очень худой, в белой, чистой, не глаженной длиннющей рубашке и сильно застиранных, почти белых, джинсах.
– Ну что, послушаем? – улыбнувшись, сказал он, обращаясь к собравшимся. – Запись свежая, можно сказать, тёплая. Ещё никто не слышал… Даже в Питере. Почти никто. А на просторах Сибири вы точно будете первыми.
– Давайте! – сказала девушка с дивана. – Мне не верится… Правда!.. Даже в дрожь бросает.
– Будем слушать новый альбом «Аквариума», – тихонечко, почти на ухо, сказал мне пригласивший меня парень. – Дима только что из Питера. Привёз запись. Только-только закончили писать… Ему дали… Гребенщиков лично…
– Только сразу говорю, – сказал человек в белой рубашке, улыбаясь, но серьёзно и многозначительно. – Чтобы без обид. Слушаем здесь и сейчас. Никому плёнку переписать не дам. Не могу. Дал слово. И домой никому не дам. Даже в руки не дам. Обещал… Ну что, готовы?
Магнитофон, усилитель и акустическая система в той квартире были великолепные. Японские. Я таких прежде ни у кого не видел.
Человек в белой рубахе сходил в другую комнату и принёс катушку с плёнкой… Магнитофон и усилитель включили, зажглись огоньки и экранчики индикаторов. Вздохнули и зашипели колонки. Все притихли, магнитофон начал вращать катушки, и плёнка потекла с одной на другую. Сначала зазвучала флейта.
Я тогда уже знал песни «Аквариума». Разные. Какие-то мне нравились, какие-то нет. Какие-то мне хотелось понять до конца, какие-то не хотелось понимать вовсе. Некоторые я знал наизусть и обожал.
Тот альбом мне совершенно не был понятен. Звучало всё неплохо, местами чудесно. Но я не понимал, о чём пелось. Я не знал буддистских терминов, не улавливал тем и не угадывал смысл. А все в той квартире понимали. Они вместе смеялись, вместе чему-то одобрительно кивали, переглядывались, чтобы поделиться восторгом. Я отчётливо видел, что всё, что мне непонятно, для остальных наполнено важным и ясным содержанием.
Я вообще-то слушал много музыки. Чаще всего дома один, бывало с другом или с несколькими приятелями. Какую-то я страстно любил и слушал с наслаждением. Но я никогда не слушал музыку так, как те люди в той квартире. Они впитывали всё. Их глаза закатывались или закрывались сами собой, так они растворялись в звуках. Они с упоением слушали даже шипение колонок и шелест плёнки в перерывах между песнями. Слушали, потому что это были шипение и шелест между песнями «Аквариума». Это шипение было записано на одной плёнке с голосом и музыкой Гребенщикова. Они наслаждались самим этим шипением.
Я тогда так захотел понять и почувствовать то же, что чувствовали собравшиеся! Я так захотел быть одним из них… Но ничего не понимал. Наоборот, чуть несколько раз не зевнул. С трудом и до сильной боли в скулах сдержал зевоту. Я понимал, что зевание под новый альбом «Аквариума» мне не простят.
Тогда, в той квартире, в элитнейшем районе Кемерово, сидя тихонечко на диване, я был уверен, что то общество, в которое я попал, – это и есть элита. Элита даже не Кемерово, а элита вообще.
Интересы этих людей были непостижимо далеки от того, чем жили, что делали, о чём думали, чего хотели, что читали и слушали, чем интересовались кемеровчане. Все! От вахтёров до врачей и преподавателей вузов. Мне страстно захотелось быть одним из тех, кто собрался на квартире, а не одним из кемеровчан.
После того вечера я потянулся к обществу этих людей всем своим существом. Я через день да каждый день к кому-то ездил домой или на дачу. Все мои новые знакомые были обеспечены и дачами, и квартирами в центре, и автомобили многим были доступны, что в то время было признаком широких возможностей. Никто из них не работал или не был очень занят и обременён обязанностями. Все как-то что-то и зачем-то делали. Но назвать это работой было нельзя. Я понимал, что квартиры и дачи принадлежали родителям, может быть дедушкам или дядям этих моих приятелей. А эти папы и дяди, очевидно, большие люди, но где они, эти предки, и почему отсутствуют, меня не интересовало.
Я удивлялся другому. Я же знал, хоть и не был знаком лично, что дети тех людей, которые жили в том районе города и имели дачи, не должны читать Музиля и Пруста или вообще что-то читать. Они не могут слушать Фрэнка Заппу и «Аквариум». Дети партийных руководителей, прокуроров, директоров шахт и заводов, главврачей и заведующих магазинами учились в двух центральных школах, похожих на уменьшенный вариант Смольного института. Про детей из тех школ ходили легенды и мифы. Люди пересказывали друг другу случаи про замятые жуткие скандалы, про настоящие оргии и даже про наркотики.
Новые мои знакомые были совсем не такими. Они могли часами говорить о неизвестных мне материях, обсуждать новую пластинку Дэвида Боуи или безмолвно слушать и страстно впитывать запись концерта Майлса Дэвиса. Они передавали друг другу книги… Были среди них те, кто мог много выпить водки и выпивал, а были те, кто не выпивал совсем. Курили в той компании поголовно. И, как я узнал позже, а сам догадаться и понять не мог в силу наивности и целомудренности, покуривали марихуану. Но тоже не очень активно. Иначе я заметил бы что-то странное. Они не матерились вовсе. Наоборот, старались говорить витиевато, часто иносказательно и иронично.
Вся мною прочитанная литература, всё, что я знал и любил, знанием чего я гордился, то, чего не читали и не знали одноклассники, было в том обществе, куда я случайно попал, давно и хорошо известным по умолчанию. Никакой Лермонтов, Толстой, Гоголь и уж тем более Стивенсон и Куприн ими не упоминались вовсе. Разве что Достоевский, да и то в связи с какими-то другими авторами или философами. Никакого Тютчева или Фета, никакого Блока! Про Твардовского или Рубцова глупо было даже заикнуться.
Сартр, Фриш, Беккет, Борхес, Гурджиев… Кортасар… Страшно сказать – Кастанеда… И масса ещё имён, которые я тогда услышал впервые. Некоторые из них я больше не слышал никогда.
Знания моих новых приятелей, их интересы мне виделись глубокими и особенными. А мои собственные познания и пристрастия осознались мною обычными, среднестатистическими, устаревшими и никуда не ведущими.
Они слушали и наслаждались такой музыкой, которая мне казалась либо слишком сложной, либо вообще не казалась музыкой. То, что слушал и любил я, было для них давно пройденным, переработанным материалом некой верхушкой, тем, с чего они когда-то начинали, но давно и быстро прошли, всё про это поняли и углубились или, наоборот, поднялись на качественно иной уровень.
Я брал у них записи и пластинки, брал книги. Слушал и читал. Упорно. И был в ужасе сам от себя. Мне трудно было слушать Майлса Дэвиса. Я не мог уловить разницы одной его композиции от другой. А Фрэнка Заппу я попросту не мог слушать. Я ощущал себя не то чтобы ущербным, но не способным полюбить ту музыку. Не способным даже её слушать.
С трепетом и пиететом один из моих новых знакомых дал мне на недельку почитать книгу Германа Гессе «Степной волк».
– Завидую тебе, – сказал он, протягивая мне весьма почитанную книгу в тёмно-синей обложке. – Ты ещё это не читал. Хотел бы я это прочитать так, будто не читал никогда. Перечитывал пять раз. Каждый раз открываю новое. Шедевр!.. А потом тебя ждёт его «Игра в бисер». Это вообще космическая книга.
Я прочёл «Степного волка». Это было трудно. Почти мучительно. Я заставлял себя. Заставлял не читать, а заставлял себя получать удовольствие, заставлял вчитаться и увлечься. Но мрак текста не давал мне такой возможности.
Сейчас мне ясно, что это мои юность и жизнерадостность сопротивлялись. Тягучий Роман Даниила Гранина «Картина», входивший в программу по внеклассному чтению, Тендряков и Приставкин не вызывали у меня такой тоски, как Герман Гессе. Даже Фадеев, даже «Мать» Горького многое во мне затрагивали. А тут… Я ненавидел себя!
Знакомство с тем обществом внесло смятение в мою душу и сознание. Мне не только хотелось быть в этом обществе, общаться в нём, слышать, слушать… Но и стать в нём заметной фигурой со своим мнением и со своей темой.
Но для этого мне необходимо было догнать их в развитии и познании. А как? Если то, что мне ими давалось для прочтения и прослушивания, усваивалось со скрипом, а то и попросту отторгалось. Я мучился! Они же в это время уходили вперёд семимильными шагами.
К тому же они много куда-то ездили, летали. В основном в Питер. У них были тесные связи с питерскими музыкантами, художниками, какими-то заметными, умными людьми. Из Питера они получали свежую музыку, тексты… От них я слышал про настоящие питерские «квартирники», то есть квартирные концерты Гребенщикова, Майка Наумова и Цоя. Записи этих квартирников мы слушали то на одной квартире, то на другой, то на чьей-то даче. Это мне искренне понравилось. И я слегка расслабился. Но те тексты, которые долетали из Питера, какие-то стихи новейших поэтов, новая проза, изобиловавшая, о ужас, матом, да ещё какие-то художественные манифесты литературных объединений или групп художников – этого уже я понять был не в силах. Мои же новые знакомые, наоборот, – всё понимали. Все эти стихи и манифесты были будто лично для них написаны.
Мне кажется, что я тогда совсем не думал о пантомиме. Не помню точно. Я был слишком увлечён, очарован. То очарование длилось недолго. Вскоре начались занятия. Начался университет.
Я не ожидал, что лекции и первые семинары так сильно меня увлекут. Мне понравился совершенно иной уровень обращения преподавателя из-за кафедры к аудитории, то есть ко мне, студенту, чем тот, что был в школе.
Первые же лекции по древнерусской литературе, языкознанию, античной литературе, фонетике просто поразили меня глубиной и объёмом тем, значений и смыслов. Я с упоением отдался учёбе. Поразительно, но то, что я изучал на первом курсе, запомнилось, врезалось в память и сохранилось в ней, уцелело намного лучше, чем то, что изучалось мною на третьем и четвёртом курсах университета. И уж тем более на пятом.
Я не пропускал ничего из учебной программы. А вот мои новые знакомые пропускали практически всё. Древнерусская литература, как они говорили, им была уже не нужна. Они сообщали об этом так, будто знают её глубоко и давно. Фонетика и языкознание было для них чем-то вроде букваря. Античную литературу они игнорировали, потому что лектор им не нравился. Они считали его формально относящимся к делу карьеристом, который недостоин их внимания и недостоин права говорить о великом античном наследии.
Появлялись они только на лекциях по введению в литературоведение, которые читал спокойный, ироничный и симпатичнейший преподаватель по фамилии Дарвин. Во время его лекций они часто, как знатоки, переглядывались друг с другом, постоянно что-то комментировали и даже хихикали. Для них эти лекции явно были слишком просты. Элементарны. Они уже прочитали работы Бахтина и Лотмана. Они были выше уровня тех лекций. Они приходили на них, только чтобы потешить своё самолюбие и убедиться в своей элитарности.
А я на лекциях по литературоведению почувствовал первый в жизни глоток, который ждала моя жажда знаний о том, как и каким образом устроено, живёт и работает произведение искусства. Я впервые услышал ответы на терзавшие меня вопросы, и их у меня сразу же возникло ещё больше.
На первом же занятии по теории литературы в качестве наглядного примера нам был предложен анализ стихотворения Лермонтова «Парус», того самого, что я учил наизусть в шестом классе. С этим стихотворением было связано столько школьной тоски и скуки! На этот белеющий на фоне моря парус за школьные годы было навешано столько тяжеловесных штампов! Он был и символом свободы и одиночества, и жажды чего-то прекрасного, и много чего ещё. Этот парус набил оскомину и мозоль. Он раздражал.
И тут вдруг давно заученное стихотворение, затёртый и истрёпанный по поводу и без повода «Парус» удивительным образом оказался невероятно сложно устроенным и тонко сшитым произведением. А потом в процессе разбора его деталей и анализа прямо у нас на глазах, в университетской аудитории, в устах преподавателя короткое стихотворение превратилось сначала в совершенный кристалл безупречной чистоты, а потом в уникальный бриллиант гениальной, сложнейшей огранки. «Парус» заиграл, засверкал всеми гранями, но ещё и поразил своей глубиной и ясностью.
У меня дух захватило от восторга. Я немедленно захотел подвергнуть такому же анализу все мои самые любимые стихотворения, а потом и прозу. Мне захотелось разобрать, препарировать, проанализировать всю известную мне литературу.
На третьем или четвёртом практическом занятии по введению в литературоведение наш очаровательный Дарвин предложил выбрать какие-то нам интересные литературные произведения для совместного анализа. Я тут же вскочил и сказал, что знаю, какой именно текст хочу проанализировать, и что всем он тоже будет интересен.
– Какой же? – улыбнувшись одними глазами, спросил Дарвин. – Весьма любопытно! Вы, надеюсь, понимаете, что произведение не может быть объёмным, мы ограничены во времени и… И ещё оно должно иметь бесспорные художественные достоинства. Лучше обратиться к классике. Это надёжнее всего.
– «Неточка Незванова»! – выдохнул я радостно. – Достоевский! Очень хорошее и небольшое…
У Дарвина поднялась одна бровь, он таинственно улыбнулся, опустил глаза, подумал и снова поднял взгляд на меня.
– Хорошая повесть, – улыбаясь непонятной мне улыбкой, сказал он. – Прекрасная… Но, поверьте мне, она огромная… Курсе на третьем постарайтесь вспомнить своё предложение… Тогда вы поймёте. – Он коротко задумался и улыбнулся ещё таинственнее. – На эту повесть можно потратить всю жизнь. Просто поверьте на слово… Давайте лучше я предложу… Ну-ка кто сможет продолжить?.. Ночевала тучка золотая… Ну?
– На груди утёса великана, – растерянно продолжил я, думая об услышанном.
Я со всем возможным рвением и упоением готовился ко всем занятиям, старался читать всё, что было рекомендовано, сердился на себя, если не успевал хоть что-то прочесть. Я почти прописался в читальном зале университетской библиотеки. После школьной лени и скуки всё во мне вскипело, всё ожило, всё с жадностью впитывало новые знания. Я не сомневался в нужности получаемого на лекциях и из книг. Родители не скрывали удивления, наблюдая за мной, сосредоточенным и увлечённым. А я утомлял их тем, что при любой возможности пытался рассказать им о своих открытиях, поведать, сообщить, объяснить то, что узнал в самом начале своего филологического пути.
О пантомиме я не вспоминал вовсе. Упражнения, тренировки пальцев, растяжки и работу над идеальной осанкой тоже позабыл. Позабыл как что-то необязательное и ненужное.
В новую свою компанию удавалось вырываться реже. Но я всё же находил время для встреч с моими длинноволосыми, бледными приятелями. Я не хотел рвать с элитой. Очарование их мирка и общества ещё не померкло. Но мне определённо стало с ними скучновато.
А ещё я перестал быть с ними во всём согласен. До открытой полемики не доходило, но внутренний спор со многими их утверждениями во мне уже начался. К тому же мне не нравилось, что мои сокурсники из той компании стали подшучивать надо мной по поводу моего рьяного отношения к учёбе. Меня это задевало, но не критично.







