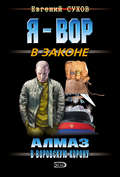Евгений Сухов
Царские забавы
Глава 5
О том, что это была борьба не на жизнь, а на смерть, митрополит Филипп понял на следующий день, когда повязали пятерых его бояр и гнали их нещадно палицами через весь город.
С тяжелыми колодками на ногах, они вызывали у горожан только сочувствие и жалость. А наиболее проницательные могли предположить, что следующим должен стать сам владыка.
Бояре, не выдержав побоев, скончались, а непримиримый митрополит следующую проповедь начал с анафемы, которую обрушил на головы зачинщиков. С тех пор не проходило дня, чтобы святейший не хулил в долгих проповедях монахов-опришников, а с ними заодно и самого государя. Юродивые и монахи – послушное орудие митрополита – кричали в спину опришникам и самому царю поганые слова, называли его худыми словесами и сулили небесную кару.
В ответ Иван Васильевич присылал к Колычеву бояр и требовал, чтобы Филипп оставил митрополию. Однако гордый старик посыльных прогонял и всякий раз велел передавать государю слова:
– Богу так было угодно, чтобы я на митрополию взошел. Если суждено уйти… то не по воле государя. Так и передайте ему. Иерархи меня на митрополии утверждали, только им под силу меня и убрать.
– Вот он как заговорил? Что же это тогда с отечеством моим будет, если каждый чернец с царем в величии начнет тягаться? – отвечал на строптивые слова владыки Иван Васильевич.
Устав от царских посыльных, Федор Колычев решил поселиться в Чудовом монастыре, а если заблагорассудится царским вестовым досадить митрополиту, так пускай сначала преодолеют трехсаженную стену.
Федор Степанович Колычев был исполин.
Это не прежний безвольный митрополит, на которого достаточно было повысить царю голос, чтобы заставить его умолкнуть. Владыка Филипп напоминал скалу, о которую разбиваются даже самые суровые ветры. Признал Иван, что не повалить главу русской церкви в одиночестве, даже если ты царь. И вскоре Иван Васильевич стал включать в опришнину видных иерархов, щедростью подношений разбивая к себе былую неприязнь.
– Вы мне только митрополита осудите, – настаивал царь, – а я уж за вас постою! Преумножу ваши монастыри землицей, крестьян в крепость дам, а из Греции святых икон повелю прикупить.
Владыки согласно кивали на слова государя, но никто не осмеливался поднять глас против праведного Филиппа. Однако когда из Великого Новгорода прибыл архиепископ Пимен, один из горячих сторонников государя, уверенность иерархов пошатнулась.
Архиепископ Пимен был не менее ярок, чем Филипп. Он обладал даром убеждения, и, слушая его речь, каждому верилось, что он воплощение непогрешимости, и непросто было выступать супротив святости.
Архиепископ набатом гудел на соборе, всматриваясь в строгие лица иерархов и пустынников:
– Гордыня митрополита Филиппа обуяла! Возомнил он себя едва ли не первейшим на земле. Государя, наместника божьего, анафеме предал и паскудными словесами сан его порочит. А братию так и вовсе замечать не желает, повелевает ему кланяться, как патриарху Иерусалимскому. Разуйте очи, братия, посмотрите, что за благочестивым образом Филиппа прячется! Чернецов, данников божьих, за холопов своих держит. А еще чернецы сказывают о нем разное богохульное… будто бы он в проповедях своих язычество добрым словом поминал. За один только такой грех он в полыме должен сгинуть. Вот что я вам скажу, владыки, на Соловки всем собором нужно ехать и розыск учинить крепкий, чтобы понять, что за человек такой наш митрополит Филипп.
Пимен встречался с государем накануне. Принимал Иван архиерея ласково: поцеловал его крепкую жесткую ладонь и посадил подле себя.
– Вот что я тебе скажу, владыка, – заговорил царь, – напакостил мне митрополит, чернецов супротив меня подговаривает, монахи меня богохульником зовут, юродивые сатаной кличут, а скоро подданные начнут в спину плевать. Ты, Пимен, помочь мне должен.
– Чем же, государь?
– Опорочить надобно Филиппа. Учини следствие о поганом житии митрополита, а я тебя не забуду, если скинешь злыдня, так я тебя на его место возведу.
– Сделаю все, что в моих силах, государь, – твердо пообещал архиерей.
И сейчас Пимен строго посматривал в лица владык, вспоминая разговор с государем. Рядом с ним сидел суздальский епископ. Трудно было отыскать человека во всем царстве, кто не любил бы Филиппа больше, чем он: не однажды они встречались на соборах и, словно два драчливых воробья, наскакивали друг на друга, упрекая в ереси. Однако одно дело, когда это говорится в гневе, ради красного словца, и совсем иное, когда приговор выводит церковный собор. И даже суздальский владыка не мог упрекнуть Филиппа в нелюбви к богу, не каждый способен поменять боярский опашень на грубую рясу чернеца.
Напротив, презрев удобный стул, сиживал на узенькой лавчонке архиепископ ростовский Кондрат. Пимен мог рассчитывать и на его поддержку: когда-то оба святейших начинали послушниками в Симоновом монастыре и великим смирением, а также ревностным служением богу сумели превзойти многих схимников.
Сам Пимен знал Филиппа давно и пристально следил за его духовными подвигами. Владыка Соловецкий был сильным соперником, возможно, поэтому их противостояние растянулось на многие годы. Уже казалось, что Филипп вышел победителем из этой борьбы, достигнув такой высоты, глядя на которую задирал голову сам царь, но судьба блаженнейшего решалась не на небесах, видать, споткнулся он об ногу дьявола.
Вот и наступил черед образумить спесивого чернеца.
Владыки продолжали молчать. Одно дело жалиться братии, другое – отвечать на соборе. Потому и помалкивали владыки, не спешили поддержать Пимена. Каждый знал, если кто и был достоин носить митрополичий клобук, так это Филипп, и разговоры об ином святейшем русской земли воспринимались всеми почти как лукавство.
– Чего же вы молчите, святейшие? Неужто мы не в силах справиться с гордыней митрополита? Видно, так и будет он считать, будто бы рожден для того, чтобы царем помыкать?! Если сейчас Филиппа не усовестить, так завтра он сумеет заставить нас, чтобы мы встречали его как сына божьего.
Помолчали владыки, потом повздыхали дружно и согласились с Пименом.
* * *
Сыск по делу митрополита Филиппа отбыл на Соловки неделей позже. Кроме духовных лиц царь снарядил и верных опришников, старшим среди которых был Григорий Скуратов-Бельский.
Отправляя любимца к Студеному морю, Иван Васильевич поучал:
– Малюта, сделай так, чтобы обесчестить Филиппа. Застрял этот пакостник у меня в горле, как кость, – и не вытащить, и в желудок не пропихнуть. Ежели потребуется, не жалей на благое дело злата и серебра.
– Монахи на деньги не слишком падки, – неуверенно возражал Григорий Лукьянович. – Некуда им их девать.
– На брюхо потратят, – спокойно отвечал Иван Васильевич. – Среди монахов не все схимники, есть и такие, которые чревоугодничать любят. Вот ты для них ничего не жалей, только свидетельства супротив бывшего игумена добудь. Сорву я с него митрополичий клобук! – сжал кулаки Иван Васильевич.
– Сделаю как велишь, государь, – поклонился думный дворянин.
Через месяц с небольшим сыск в количестве трех десятков знатнейших мужей прибыл на Соловки. Не видал Малюта никогда ранее такого великолепия. Приходилось ему не однажды бывать на северных рубежах, наведывался он как-то и в Соловецкий монастырь. Небогата тогда была божья обитель – стены деревянные, кельи убогие, а ко всему худому, погода на островах оказалась такая стылая, что продувало до дрожи. Вокруг студеная вода, камней на берегу во множестве, так что даже к воде не подойти.
За несколько лет монастырь преобразился. Он напомнил Малюте сказку о том, как погрузился дурачина в котел с парящим молоком, а вынырнул добрым молодцем. Деревянные стены были снесены, вместо них воздвигнуты каменные, да такой невиданной крепости, что ядра в десять пудов отскакивали от них, словно полые орешки. Красив был монастырь и страшен своей мощью. Он был так же суров, как прежний игумен, напоминая Филиппа даже внешне, – камни были такими же древними и седыми, как его былинная борода, а башни, словно голова игумена, созерцали вокруг грозное море горделиво и внимательно.
Только такой человек, каким был владыка Филипп, и мог создать это диво, только его энергия и способна была поднять из морской пены каменную твердыню. Митрополит словно выстроил монастырь для себя, как будто бы предвидел царский гнев, а потому хотел, чтобы детище укрыло его от государевой немилости за многометровыми стенами.
Однако не спасло.
Малюта Скуратов явился в Соловецкий монастырь предтечей большой беды, первой стрелой, пущенной перед кровавой сечей.
Опришники строго допрашивали монахов, выискивали крамолу и старались опорочить Филиппа, но упрямые чернецы не произносили даже слова, как будто вместе с обетом безбрачия взвалили на себя еще и обет молчания. Ученик Филиппа и новый игумен Соловецкого монастыря Паисий только ухмылялся усердию опришников, понимая, что монахи будут с царскими слугами так же немы, как и камни, из которых был выстроен монастырь. Даже допросы с пристрастием не способны вырвать и глухого звука из их онемевших уст.
Единственное средство добиться расположения игумена – это подкупить его. Малюта знал, что Паисий необычайно честолюбив и отличается такой же страстной ревностью к службе, какой прославили себя первые христиане. Совсем неслучайным было и то, что именно он принял игуменство из рук Филиппа; Паисий считался не только духовным наследником митрополита, но и ярчайшим продолжателем славных традиций и сподвижничества на Дальнем Севере России. Нынешний игумен сумел расширить монастырские земли, на которых трудились десятки тысяч крестьян. Монастырь имел соляные заводики, суконные фабрики, товар отправлялся поморами в далекую Англию.
Влияние Соловецкого монастыря на Крайнем Севере выросло настолько, что Соловки могли соперничать с Господином Великим Новгородом, а новый игумен до того вошел в силу, что сумел оторвать от соседней митрополии огромный кусок земель, который немедленно присовокупил к Соловецкому монастырю.
Богаты были Соловки и вызывали зависть не только у менее удачливых владык, но даже у удельных князей.
Склонить Паисия к неправде можно было только епископским саном, и, оставшись с владыкой наедине, Скуратов-Бельский решил завести разговор с самого главного:
– Слушай, что велел тебе государь передать… Если пожелаешь быть главным обвинителем супротив Филиппа, тогда можешь примерять на себе облачение епископа. А далее государь тебя еще больше пожалует – при Москве служить станешь. Что скажешь на это, отец Паисий?
– А если откажусь?
– Выбирать тебе не приходится, владыка, если откажешь, церковным собором будешь осужден.
– В чем же я повинен?
– Митрополию новгородскую в свои земли включил.
– Что я должен сделать?
– Подбери для начала монахов, которые согласны свидетельствовать супротив бывшего игумена, а что далее будет… дело покажет.
– Хорошо, – после короткого раздумья согласился игумен.
Игумену Паисию понадобилось много времени, чтобы выявить монахов, которые некогда были обижены митрополитом Филиппом. Трое из них обещали свидетельствовать о том, что бывший игумен после службы скармливал просфору собакам, а в святой воде купал кота, которого во зло самодержцу прозвал Иваном.
Двое монахов готовы были целовать крест в том, что будто бы митрополит ссылался на Старый завет и почитал его больше Нового.
Еще один старец доносил, что игумен склонял его к содомскому греху, а пятеро чернецов в один голос утверждали, что в соседнем селении у Филиппа поживает зазноба, к которой он наведывался каждую неделю, а за год игуменства владыка сумел прижить пятерых чад в трех деревнях.
Малюта Скуратов слушал «признания» монахов и наказывал дьяку:
– Ты, смотри, не пропусти и слова! Государев сыск дело нешутошное, потом о митрополите суд свое слово скажет.
Каждый из присутствующих чернецов понимал, что за каждый пункт обвинения кромешники должны будут запереть игумена Филиппа в осиновый сруб, подпереть дверцу поленом и поджечь святым огнем.
Древний и седой, как замерзшая вода Студеного моря, епископ Пафнутий, глава церковного сыска, отказался подписать обвинение. Он знал отца Филиппа совсем другим. Более смиренного монаха не встречал он за всю свою жизнь, а если и бывали у игумена слабости, то не разглядеть их людям грешным и простым. Филипп никогда бы не опустился до содомского греха, а уж скармливать просфору собакам, так это и вовсе грех неслыханный, до такого даже язычник не сподобится.
Григорий Лукьянович грозил несговорчивому монаху ссылкой, пугал вечным заточением, пытался его уговорить, но Пафнутий оставался таким же твердым, как лед в морозную пору, и брань Малюты разбивалась о крепость его убеждений.
Владыка Пафнутий готов был принять на свою голову всю тяжесть царской опалы, но не отступиться от правды. И это знал Малюта, знал.
Пафнутий ехал в Москву с надеждой убедить государя в своей правоте.
* * *
Иван Васильевич слушал Малюту и все более хмурился. Царь знал Пафнутия давно и другого от него не ожидал. Именно такими старцами, как епископ Пафнутий, и крепла церковь. Поступи владыка по-другому, Иван Васильевич разочаровался бы в старце, тот служил церкви так же беззаветно, как и ближним. Просто так строптивцев не победить, и государь знал, что нужно делать. Первое, что он предпринял, – это разорил земскую Думу, тем самым лишил несговорчивых старцев опоры, а плаху до особого распоряжения плотникам разбирать не велел. Глядя на кровавые доски, иерархи должны будут поразмыслить о неожиданных превратностях судьбы и наверняка задумаются о вечном покое.
– Не знаю, государь, что и делать, – говорил в растерянности Малюта, – не запугать тебе Пафнутия. Во дворец он едет.
– Чего хочет старик?
– С тобой хочет встретиться, чтобы прощение для Филиппа вымолить.
– Пафнутия со двора гнать в шею, – распорядился Иван Васильевич, – а для митрополита Филиппа я подарочек приготовил. Не бывает железных людей, Гришенька, даже о самых твердых из них не сломаешь топора.
* * *
– Не верю я в эту ложь, брат, – говорил Пафнутий. – Опорочить тебя хотят, а потому приговор лживый составлен. Написали о том, что ты баб портил, с мужиками баловался, а еще над Христовой верой надсмехался.
Филипп горько усмехнулся:
– Да за такое обвинение не только сан отобрать нужно, живота лишить мало! Спасибо тебе, Пафнутий, что хоть ты от меня не отступился, многих я уже лишился. Как ты думаешь, неужно кто поверит в эту глупость? – искренне удивлялся Колычев.
– Святейший Филипп, государевым холопам совершенно неважно, поверит кто в это или нет. Злодеям важно приговор вынести, чтобы с митрополии тебя столкнуть. А еще перед паствой хотелось бы опорочить.
– Понимаю.
– А может, тебе, Филипп, самому уйти, пока эти злыдни до чего худого не додумались?
– Не могу я просто так уйти. Перед паствой своей я в ответе, а государев суд меня не страшит.
– Неужели не боишься, Федор Степанович? Брата твоего, Ивана Петровича, живота лишили, а ведь боярин такую огромную силу имел, что мог потягаться и с суздальскими князьями.
– Как же не бояться смерти, блаженнейший? Боюсь! – честно признался митрополит Филипп. – Только ничего поделать с собой не могу. Видно, так на роду у меня написано – заступаться за обиженную паству. Не держатся подле государя митрополиты, только год и пробыл Афанасий на московской митрополии… не утерпел, уединился в монастыре. Чувствую, что мой черед настал. Тяжек мне московский дух, на простор душа просится, к Студеному морю… Если бы не забота о пастве, так бы и поступил.
Пафнутию подумалось о том, что святейший Филипп и впрямь напоминает сильного красивого зверя, для которого роскошные митрополичьи палаты всего лишь клетка. Вот оттого и мечется он из одного конца митрополии в другой, тщетно пытаясь отыскать покой. А ему бы в узенькую монашескую келью, с махоньким оконцем, выходящим на монастырский двор, чтобы стены оставались в метр толщиной, вериги тяжелые на шею, а под рясу жесткую власяницу, только тогда примирился бы Колычев, отыскав себя прежнего.
Митрополит Филипп был привлекателен особой северной суровостью, сродни той, что окружала его некогда на Соловецком острове. Борода у владыки была словно снег, и седая голова напоминала ледник с синевой в самой глубине, а черной рясой и исполинскими размерами он больше походил на утес, о который способен разбиться полярный ураган.
Филипп остался аскетом даже в митрополичьих палатах. Роскошь он называл соблазном дьявола и потому всю дорогую и удобную мебель, оставшуюся от прежнего хозяина палат, повелел свезти в царский дворец. Табурет и лавки – вот и все, в чем нуждался митрополит Филипп.
– Поберегся бы ты государя, не перечил бы ему, – захлестнула жалость Пафнутия. Он уже видел, как над владыкой, словно меч, нависла опала государя. Это была судьба, рок, который тенью отпечатался на красивом лице Колычева. – И бояр они погубили, потому что хотели на тебя управу найти. Знал Иван, на кого ты опираешься, вот потому и выбил у тебя из-под ног эту опору.
Филипп не успел ответить – в комнату постучали. Это был один из послушников, который помогал митрополиту облачаться перед службой.
В руках отрок сжимал мешок.
– Прибыл скороход от государя Ивана Васильевича. Велел передать вот этот мешок и сказал, что в нем для митрополита подарок.
– Развяжи мешок. Что в нем?
Послушник распустил горловину. На каменный пол скатилась голова Челяднина-Федорова.
Обмерло лицо митрополита.
– Вот, стало быть, какой подарок мне государь Иван Васильевич приготовил, – бережно поднял с пола голову брата митрополит Филипп. – Вот что, Кирилл, созови иноков, похороним боярина Ивана Петровича Челяднина, как подобает по православному обычаю… Я сам отходную отслужу. А потом поезжай к государю Ивану Васильевичу… и передай ему низкий поклон от меня и всей нашей братии. Скажи ему, что подарок его я получил.
– Это еще не все, блаженнейший, – не смел безродный отрок поднять глаза на святость.
– Что еще?
– На словах скороход велел передать, что завтра на собор тебя призовут. Судить будут… А еще сказал, – слова давались отроку с трудом, но он решился договорить до конца, – если не явишься, приволокут тебя на аркане, как вора.
* * *
Соборный суд собрал почти всех владык и архиереев Руси.
Собор был необычен тем, что обвиняемым на нем должен был предстать московский митрополит Филипп. Бывало, что в митрополичьих палатах приговаривали вероотступников, но не случалось прежде такого, чтобы судили владыку.
Филипп вошел в соборные покои не покаянным грешником, а хозяином, будто бы он собрался судить архиереев. Опустили головы владыки, не смея встретиться с его взглядом, и только Паисий – ученик и Иуда – сполна испытал на себе гнев темных глаз Федора Колычева.
Митрополичьи палаты.
Не будет здесь более услышана проповедь владыки – разобьется его мудрая речь о беспристрастные лица архиереев, и место теперь его не на митрополичьем столе, а на маленькой скамье, где обычно сидят еретики.
Постоял в раздумье подле скамьи Федор Колычев, а потом присел. Если святые обмывали язвы прокаженным, то почему простому печальнику не умерить свою гордыню.
– Готов ли ты к суду… отец Филипп? – строго спросил Паисий.
– Отец Филипп… Или я уже не митрополит? – обвел взглядом архиереев Федор Колычев.
– Митрополит Филипп, знаешь ли ты, зачем вызван святейшим собором? – строго спросил Паисий.
Паисий сидел на митрополичьем месте и чувствовал себя в кресле куда более удобно, чем на жесткой лавке в келье Соловецкого монастыря.
Молчал митрополит. Иссушила горечь горло, словно зелья терпкого испил. И камни способны коробиться и скорбеть, а он всего лишь человек.
Не дождался Паисий ответа и продолжал спокойным ровным голосом, как будто не в диковинку ему судить иерархов русской церкви:
– Отец Филипп, ты обвиняешься в том, что в речах своих хулил православную церковь, говорил, что вера латинян превыше греческой. Есть свидетели святотатства, что ты глумился над частицами Христова тела. – Паисий посмотрел на государя, который сидел отдельно от иерархов, возвышаясь над ними вполовину дубового трона. – А еще, отец Филипп, ты обвиняешься в корыстолюбии и в растрате церковных денег.
Митрополичьи палаты были теплы, и Паисий подумал о том, что они никак не могут сравниться с кельями Соловецкого монастыря, которые дышали каменным холодом и больше напоминали заброшенный склеп.
– Не тебе это говорить, отец Паисий, мужу, который соблазнился поменять схимное благо на епископский сан. Вот ты говоришь, что в речах своих я хулил церковь… Но ответь мне тогда по правде, можно ли отыскать большего ревнителя православной веры, чем твой наставник? Я хочу спросить у тебя, отец Паисий, ведомо ли тебе, сколько я воздвигнул храмов? Молчишь… Две дюжины соборов по всей Руси! Упрекаешь меня, что я казну церковную разорял, а только с моим игуменством в Соловецком монастыре появился прибыток. Мне ли грабить казну, когда род Колычевых – едва ли не самый богатый в Московии! И вот что я еще хочу добавить, владыки, состояние мое великое завещаю я Соловецкому монастырю. Государь, ты хотел, чтобы я оставил митрополию… Так вот, возьми же клобук! А для подлинного служения господу митрополичий сан ни к чему. А теперь позвольте мне идти, служба дожидается.
Митрополит Филипп поднялся и, не слыша грозного государева окрика, покинул палаты.
Успенский собор в этот день был переполнен. Прихожане прознали о том, что эта служба для отца Филиппа будет последней, а потому задолго до заутрени была занята каждая пядь храма.
Горожане хотели проститься с владыкой.
Филипп появился за минуту до службы. Лицо его выглядело спокойным, весь его облик, казалось, источал умиротворение и тишь, будто не коснулся его царский гнев, а движения рук, как прежде, были уверенными и величественными.
Отстранив пономаря, Филипп сам пожелал зажечь у икон свечи, покадил благовонным ладаном, а потом обернулся к застывшей пастве.
– Проститься я к вам пришел, дети мои. Две силы господствуют на грешной земле – одна добра, другая зла. Одна божья милость, другая – происки дьявола. Вот и ухожу я, братья и сестры, с митрополичьего стола только потому, что не хочу служить дьяволу, ибо отдана ему земля русская на откуп.
Широко распахнулись двери храма, и митрополит увидел, как дюжина опришников, уверенно раздвигая локтями мирян, протискивалась по проходу.
– Православные! – гаркнул на весь собор Федька Басманов. – Колычеву ли судить о кознях дьявола, когда он сам едва ли не брат черту. Вот послушайте, господа, приговор соборного суда, – сотрясал Басманов над головой грамотой. – Здесь все прегрешения Колычева отписаны! «За хулу на святую православную церковь, за прелюбодеяние, за то, что знается Федька Колычев с нечистой силой, соборный суд приговаривает лишить его церковного сана, предать анафеме и сжечь как еретика!» – Басманов наслаждался установившейся тишиной. Кто-то у самого алтаря трижды выкрикнул: «Свят!» Басманов продолжил: – А теперь, господа, по приговору соборного суда сорвите с него мантию!
Опришники, словно свора псов, услыхавших команду: «Ату!», подхватили митрополита под руки и, показывая молодецкую удаль, стали стягивать с него облачение. Мантия затрещала, словно выпрашивала пощады, а на пол уже полетели амофор и клобук, которые были тотчас затоптаны множеством ног. Митрополиту заломили руки и поволокли к дверям; старик отчаянно сопротивлялся, и только когда веревками опутали его ноги, он сдался:
– Что я вам говорил, братья! Разве я был не прав?! – причитал старец. – Дьявол государем правит!
– Закройте его поганый рот! – прикрикнул Федька Басманов.
Опришники с готовностью выполнили приказ Федора, подняли с пола растоптанный клобук и запихнули его в горло митрополиту, а потом, поднатужившись, поволокли его тяжелое тело к выходу.
У паперти уже стояли старые дровни.
– Сюда его, господа. На сено бросайте, пускай навоза сдобного дыхнет.
Возничим был молодой опришник, принятый в гвардию царя Ивана неделю назад. Отрок был из мелких дворян и желал заслужить расположение самодержца, и когда Федор Басманов по приказу Ивана стал отбирать людей на почетную службу, молодец сумел приглянуться любимцу государя. Он ждал возможности отличиться, чтобы его усердие заметил сам царь-батюшка. Однако детина никак не мог предположить, что когда-нибудь придется арестовывать самого блаженнейшего Филиппа.
А Федька Басманов уже сердился нешутейно:
– Ну, чего замер истуканом?! Хватай быстрее вожжи! Свези митрополита в Богоявленский монастырь. Пускай в яме до казни посидит.
– Как прикажешь, Федор Алексеевич, – насилу оторвал взгляд молодец от поверженного Филиппа.
– Небось не доводилось таких узников видеть?
– Нет, Федор Алексеевич.
– Знатный тюремный сиделец из митрополита выйдет, вот только недолго ему томиться, через недельку сгинет в горящем срубе.
* * *
Два месяца Федора Колычева держали в яме, и каждый рассвет он встречал так, как будто он был в его жизни последним. С мыслью о близкой кончине владыка свыкся. И все-таки, следуя христианскому долгу, Филипп жил и молился о спасении, и, судя по тому, что даже стража продолжала относиться к нему по-прежнему, он понимал, что просьбы его стучатся в уши господа.
Иногда сверху до Филиппа доносился шепот:
– Мужайся, святой отец, будут еще и лучшие дни.
Если бы Федор Степанович не знал о том, что через железные прутья за ним наблюдает молоденький страж, он мог бы подумать, будто бы это голос самого господа.
Поднимет голову митрополит, благословит перстами своего тюремщика – и опять за молитвы.
Смилостивившись, Иван Васильевич отменил приговор церковного суда о сожжении, заменив его на вечное заточение в монастырской тюрьме.
В тот же день отца Филиппа перевели в Симонов монастырь.
Не нашлось для бывшего владыки иного места, чем глубокий сырой подвал, на стенах которого пузырилась известь, словно накипь на чугунном котле. Прочитал Федор Колычев очистительную молитву и вошел в свой новый дом.
Бывшего владыку сопровождал игумен Самон, и, когда Филипп приостановился у дверей своей темницы, никто из караульщиков не посмел подтолкнуть его в спину. Сам игумен поцеловал опальному владыке руку, а остальные чернецы и вовсе попадали ниц, признавая в нем великого страдальца.
Игумен Самон был строгий владыка, и узники предпочитали попасть в другой монастырь, чем находиться под его суровым началом. За незначительную провинность Самон мог лишить пития и пищи, поговаривали, что особенно нерадивых он замуровывал в толстых крепостных стенах. Игумен твердо уверовал в то, что в Симоновом монастыре он был третьим судьей после господа и государя. Однако, увидев Филиппа, он мгновенно растерял свою прежнюю суровость.
– Прости… не по своей воле держу, – говорил игумен, напоминая в минуту раскаяния смиренного отрока.
Игумен Самон чинить препятствий Филиппу не стал, настоятель относился к тем людям, которые не забывают добро, а потому велел выделить узнику келью получше, а для услужения приставил двух послушников.
Незаметно отец Филипп сделался в Симоновом монастыре почти хозяином. Он распоряжался чернецами так, как будто это был Соловецкий монастырь, где он еще не так давно игуменствовал, а монахи подчинялись ему так же охотно, как если бы это был их владыка. Порой они даже брали на себя смелость не выполнять распоряжений Самона, ссылаясь на указ опального Филиппа.
Походило на то, что Федор Колычев пришел в монастырь надолго: он создавал вокруг себя привычный порядок, и скоро монахи, следуя строгой воле бывшего святейшего, стали мастерить теплицу для диковинных заморских плодов.
О судьбе опального митрополита скоро стало известно по всей округе. Филипп знал полезные травы и прослыл как умелый врачеватель, и миряне, еще задолго до заутрень, выстраивались у его кельи в надежде быть принятыми.
Минуло почти десять лет, как Силантий бросил воровской промысел и, скрываясь от татей, ушел в пустынь. Долгое время он жил в полном одиночестве, очищаясь от скверны. Питался ягодами, грибами; от мяса отказался совсем, и когда ему однажды приснился Христос-мученик, он догадался, что пришло прощение.
Отец Филипп был первый, кто выслушал и понял знаменитого фальшивомонетчика, а потом, с покорностью раба, Силантий стал ожидать приговора на свою исповедь.
– Получится из тебя чернец, – отвечал тогда игумен Соловецкого монастыря заблудшему человече, – приходилось мне знавать таких, которые всю жизнь на дорогах кошели отбирали, а потом во главе праведной братии игуменствовали. Есть в тебе нечто такое, что заставляет уверовать. А если бы не было, разве поверили бы тебе разбойнички? Говоришь, монахом с детства мечтал стать?
– Да, святой отец.
– Вот и исполняй свое призвание… Отпущу я тебе грехи, и считай, что заново родился. И только не помышляй о старом ремесле, иначе покарает тебя господь. А с братией я поговорю, примут тебя в Симонов монастырь чернецом, а там кто знает… может, и мне твоя подмога когда-нибудь понадобится.
Кто мог тогда догадываться, что слова владыки окажутся пророческими: он словно предвидел игуменство Силантия, свое возвышение до митрополичьего стола и государеву опалу.
Отец Филипп почти совсем отстранил Самона от игуменства. Однако в таком поведении бывшего Соловецкого владыки не было ничего дурного, он всегда жил так, как будто окрестные земли принадлежали только ему, и распоряжался ими так же уверенно, будто это был его собственный дом. Филипп привык жить величаво, и даже заточение в Симоновом монастыре он воспринимал как испытание, посланное ему свыше.
Симонов монастырь и раньше в бедных не числился, а с появлением опального Филиппа он мог тягаться даже с теми обителями, которые были обласканы царским вниманием. С этого времени в монастырь бояре стали делать огромные пожертвования, сюда шли, чтобы найти уединение и покой, услышать доброе слово.
Тишина монастырской жизни была нарушена неожиданно: в обители в сопровождении отряда опришников появился Малюта Скуратов.
Самон повинным пришел к келье великого старца и сказал, скорбя:
– Ничего не могу поделать, владыка Филипп. Сам Иван Васильевич опришников прислал.
– Чего же они хотят? – Федор Колычев мысленно приготовился к самому худшему.
– Благословения твоего хотят получить. Кто знает, может быть, все и обойдется?
И, оставив келью Филиппа, игумен каялся, очищая от греха сердце:
– Прости меня, господи, за недобрые мысли… если таковы возникали. Не желал я отцу Филиппу зла… Тесно мне было в таком соседстве… Убереги, господи, Филиппа от беды.
Малюта уверенно переступил стылую келью Филиппа, где все убранство составляли табурет да лавка – так и жил он всю жизнь.