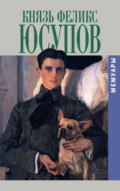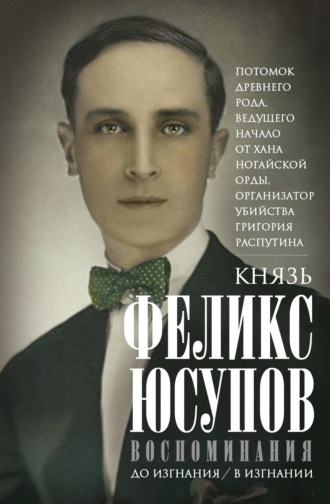
Феликс Юсупов
Воспоминания
Глава IV
Коронация Николая II. – Празднества, устроенные в Архангельском и в нашем московском доме. – Мария, супруга румынского престолонаследника. – Князь Грицко
В 1896 году, по случаю восшествия на престол императора Николая II, мы с мая месяца жили в Архангельском, где принимали многочисленных гостей, приехавших на коронационные торжества. В их числе находились наследный принц Румынии и его жена, принцесса Мария. В их честь мои родители выписали очень модный в ту пору в Москве румынский оркестр. Один из музыкантов, замечательный цимбалист Стефанеску, впоследствии стал моим обычным спутником. Я часто брал его с собой в различные поездки, и он великолепно играл ночи напролет только для меня одного.
Великий князь Сергей[22]и великая княгиня Елизавета также принимали толпу родственников и друзей в своем имении Ильинское, расположенном всего в пяти километрах от нас. Так что их часто видели на великолепных приемах, следовавших в Архангельском один за другим. Наши государи часто присутствовали на этих праздниках, которые блеском своим почти не уступали придворным балам.
Ожил театр. Родители выписали из Санкт-Петербурга итальянскую оперу с Мадзини и певицей Арнольдсон, а также балет. Однажды вечером давали «Фауста», но за несколько мгновений до поднятия занавеса моей матери сообщили, что госпожа Арнольдсон отказывается петь, поскольку в сцене в парке ей мешает запах натуральных цветов, украшающих партер. Пришлось за несколько секунд заменять их зеленью. В моей памяти запечатлелось еще одно убранство театра: гости сидели в ложах, а ароматы партера, превращенного в розовый сад, наполнял весь зал.
После спектакля гости перешли на террасы, где были сервированы для ужина столы, освещаемые высокими канделябрами. За ужином последовал фейерверк, и это волшебное зрелище поразило мое детское воображение, что я никак не хотел идти ложиться спать.
Празднества продолжались в Москве, куда родители и их гости перебрались за несколько дней до коронации. Наш московский дом, бывший охотничий домик царя Ивана Грозного, сохранил облик своего времени: большие помещения со сводчатыми потолками, мебель XVI века, серебряная посуда, богато украшенная резьбой; этот по-восточному роскошный декор прекрасно подходил для пышных приемов. Иностранные принцы, побывавшие там, заявляли, что никогда не видели ничего подобного.
Мой брат и я, которых сочли слишком маленькими, чтобы участвовать в этих празднествах, остались в Архангельском. Однако в день коронации нас привезли оттуда в Москву. Даже сегодня, закрыв глаза, я вижу иллюминированный Кремль, его зеленые и красные крыши, позолоченные купола его церквей.
В то утро мы сначала увидели, как кортеж выехал из императорского дворца в направлении Успенского собора. После церемонии царь и обе царицы, облаченные в коронационные мантии, с коронами на головах, сопровождаемые императорской фамилией и иностранными принцами, вышли из собора, чтобы вернуться во дворец. Золото и драгоценные камни сверкали на солнце, особенно ярким в тот день. Подобное зрелище можно было увидеть только в России. Когда царь и обе царицы появились перед собравшейся толпой, они действительно были помазанниками Божьими. Кто мог предвидеть, что через двадцать два года от этой роскоши, этого величия останутся лишь воспоминания?
Говорят, что, одевая императрицу для церемонии, одна из ее служанок уколола палец о застежку императорской мантии, и капля крови упала на горностаевый мех.
Через три дня ужасная Ходынская катастрофа погрузила Россию в траур. Вследствие плохой организации произошла страшная давка во время раздачи царских подарков народу, и тысячи человек были затоптаны. Многие увидели в этом дурное предзнаменование для нового царствования.
Многочисленные увеселения, которые должны были сопровождать коронационные торжества, отменили. Однако под влиянием дурных советов части своего окружения Николай II позволил убедить себя, что он должен присутствовать на большом балу, дававшемся в тот вечер французским послом. Великие князья разделились на две враждебные группы. Братья московского генерал-губернатора великого князя Сергея[23], на которого ложилась значительная часть ответственности за случившееся, желая приуменьшить масштаб катастрофы, уверяли, что не следует никоим образом менять праздничную программу. Твердо отстаивавшие противоположную точку зрения «Михайловичи» (великий князь Александр, мой будущий тесть, и трое его братьев)[24]были обвинены в интригах против старших родственников.
После коронации мои родители со своими гостями вернулись в Архангельское. Принц Фердинанд Румынский и принцесса Мария продолжили свое пребывание там. Принц Фердинанд был племянником короля Кароля I. Я очень хорошо помню короля Кароля, который часто приезжал в гости к моей матери. Он был красивым и величественным, с седеющими волосами и орлиным профилем. Говорили, что он интересуется только деньгами и политикой и совершенно не занимается своей женой, урожденной принцессой цу Вид, получившей известность как писательница под псевдонимом Кармен Сильва. Детей у них не было[25], поэтому наследником престола являлся принц Фердинанд. Это был симпатичный человек, но не обладавший яркой индивидуальностью, крайне робкий и нерешительный как в политике, так и в частной жизни. Он был бы довольно красивым мужчиной, если бы его лицо не портили оттопыренные уши. Он был женат на Марии, принцессе Саксен-Кобургской, старшей дочери Марии, сестры нашего императора Александра III.
Красота принцессы Марии была известна уже тогда. Особенно выделялись восхитительные глаза, такого необычного серо-голубого цвета, что, увидев раз, их невозможно было забыть; талия ее была тонкой, а фигура стройной, словно стебель цветка. Я был совершенно покорен ею и следовал за ней точно тень; ночью, не в силах заснуть, я представлял ее лицо. Один раз она поцеловала меня. Я был так счастлив, что вечером не позволил умыть мне лицо. Когда она об этом узнала, ее это сильно позабавило. Много лет спустя я вновь встретил принцессу Марию в Лондоне, на ужине у австрийского посла. Я напомнил ей тот случай, который она тоже не забыла.
В дни коронации я стал свидетелем одной сцены, которая поразила мое детское воображение. Однажды днем, когда мы сидели за столом, из соседней комнаты послышался стук копыт. Дверь распахнулась, и мы увидели стройного всадника на великолепной лошади, держащего в руке букет роз, который он бросил к ногам моей матери. Это был князь Грицко Витгенштейн[26], офицер Собственного Его Величества конвоя, очень привлекательный мужчина, знаменитый своими эксцентричными выходками, любимец всех женщин. Мой отец, возмущенный дерзостью этого молодого офицера, запретил ему на будущее переступать порог его дома.
Моим первым порывом было осудить поведение отца. Я был возмущен, что он так оскорбил человека, представлявшегося мне подлинным героем, реинкарнацией древних рыцарей, который не побоялся показать свою любовь столь благородным жестом.
Глава V
Мое детство в болезнях. – Наши товарищи по играм. – Аргентинец. – Выставка 1900 года. – Генерал Бернов. – Гюгюс. – Путешествия воспитывают юношей
Я переболел в детстве всеми детскими болезнями и долго оставался хилым и тщедушным. Моя худоба меня очень огорчала, и я не знал, что предпринять, чтобы потолстеть, но тут реклама, расхваливающая достоинства «Восточных пилюль», вселила в меня большие надежды. Я тайком попробовал их и был сильно разочарован отсутствием результата. Врач, который меня лечил, заметив коробочку с пилюлями на моем ночном столике, попросил меня объяснить, зачем они мне; когда я рассказал о своей неудаче, он очень развеселился, но посоветовал мне прекратить их принимать.
Меня наблюдали многие доктора, но я отдавал явное предпочтение доктору Коровину, которому из-за фамилии дал прозвище «дядюшка Му». Когда, лежа в кровати, слышал его шаги, я начинал мычать, и он, чтобы не оставаться в долгу, отвечал мне тем же. Как и многие старые врачи, он слушал меня просто через салфетку. Мне нравился запах его лосьона, и я долго считал, что голова врача непременно должна хорошо пахнуть.
Характер у меня был сложный. Я по сей день не могу без угрызений совести вспоминать тех, кто измучился, обучая и воспитывая меня. Первой стала моя немецкая нянька, вырастившая моего брата, а уже потом занявшаяся мною. Она потеряла рассудок из-за несчастной любви к секретарю моего отца (а возможно, также от моего дурного характера). Моим родителям пришлось положить ее в психиатрическую лечебницу вплоть до ее выздоровления, а меня перепоручить бывшей гувернантке моей матери, мадемуазель Верзиловой, милейшей женщине, доброй и преданной, которая в какой-то степени стала членом семьи.
Учился я отвратительно. Моя гувернантка, дабы стимулировать мой интерес к учебе, нашла мне соучеников; но я оставался по-прежнему ленивым и рассеянным, а мой дурной пример плохо влиял на моих товарищей. На старости лет мадемуазель Верзилова вышла замуж за швейцарца господина Пенара, учителя моего брата. Сегодня, в возрасте девяноста шести лет, она живет в Женеве. Письма от нее доносят до меня эхо тех давних лет, когда я часто подвергал испытаниям ее доброту и терпение.
После немца-пьяницы, ежевечерне выпивавшего перед сном бутылку шампанского, я последовательно разочаровал невероятное количество учителей: русских, французов, англичан, швейцарцев, немцев, вплоть до одного аббата, который позднее стал учителем детей королевы Румынии. Много лет спустя она мне рассказала, что воспоминания обо мне оставались для несчастного священника кошмаром, и пожелала узнать, все ли из того, что он обо мне говорил, правда. Пришлось признаться, что он ничего не придумал! Еще помню мою учительницу музыки, которую я укусил за палец так жестоко, что бедная женщина потом не могла играть на пианино целый год.
По линии матери у нас близких родственников не было. Кутузовы, Кантакузены, Рибопьеры и Стаховичи были дальней родней; отношения с ними были прекрасными, но встречались мы довольно редко. То же самое было и с нашими кузенами Еленой и Михаилом Сумароковыми[27], которые из-за слабого здоровья их отца почти безвыездно жили за границей. Нашими постоянными приятелями были дети сестры моего отца[28]: Михаил, Владимир и Елена Лазаревы, и две дочери моего дяди Сумарокова-Эльстона[29], Екатерина и Зинаида.
Все мы были влюблены в Екатерину, которая была очень хорошенькой. Ее сестра была менее красива, но ее любили за необыкновенную доброту. Старший из Лазаревых, Михаил, по возрасту более близкий к моему брату, обладал этаким шармом насмешника, очень оригинальным, который делал его неотразимым. Подвижное выразительное лицо и нос картошкой придавали ему немного клоунский вид. Неутомимо энергичный, он был вдохновителем всех наших занятий. У него было великодушное сердце, но легкомысленность характера мешала воспринимать что-либо всерьез. Он смеялся надо всем и надо всеми и думал только о развлечениях. Мы вместе устраивали безумные эскапады, воспоминания о которых до сих пор веселят меня, так что у меня нет сил сожалеть о них. У их сестры Ирины был такой же легкий характер. У нее было множество поклонников, соблазненных красотой ее египетского профиля и удлиненных зеленых глаз.
Дети министра юстиции Муравьева и статс-секретаря Танеева также входили в эту молодежную банду, которая по воскресеньям и выходным дням собиралась на Мойке. Раз в неделю господин Троицкий, модный танцмейстер, приобщал нас к прелестям вальса и кадрили. Стройный, манерный, напомаженный, благоухающий шипром, с тщательно расчесанной и разделенной посередине седеющей бородой, он входил прыгающей походкой, всегда в безукоризненно пошитом фраке, в лакированных штиблетах, белых перчатках и с цветком в бутоньерке.
Моей постоянной партнершей в танцах была Шура Муравьева, столь же очаровательная, сколь и умная. Танцор я был посредственный. Она деликатно терпела мои неловкости и никогда не держала зла за то, что я часто наступал ей на ногу. Время не разрушило нашей дружбы.
По субботам устраивались танцевальные вечера у Танеевых. Эти собрания всегда были многолюдными и очень веселыми. Старшая дочь Танеевых, высокая, полная, с надутым лоснящимся лицом, была совершенно лишена привлекательности. Не была она и особо умна, но отличалась хитростью и толщиной. Найти ей партнера для танцев было настоящей проблемой. Никто и представить себе не мог, что Анна Танеева, такая непривлекательная, проникнет в ближайшее окружение императорской фамилии, где сыграет столь пагубную роль. Ее влияние отчасти способствовало головокружительному взлету Распутина[30].
Достигнув возраста, когда ребенок начинает всем интересоваться, я заваливал окружающих вопросами. Когда я спрашивал о происхождении мира, мне отвечали, что все исходит от Бога.
– А Бог это кто?
– Невидимая сила, живущая на Небе.
Ответ был слишком расплывчатым, чтобы удовлетворить меня, и я долго всматривался в небо, надеясь увидеть на нем некое изображение или откровение, которое дало бы мне более четкое представление о Божестве.
Но когда я пытался проникнуть в тайну происхождения живых существ, объяснения, дававшиеся мне, казались еще более размытыми. Мне говорили о браке, об установленном Иисусом Христом таинстве. Говорили, что я слишком мал, но позже сам пойму смысл этого. Я не мог удовлетвориться столь расплывчатыми ответами. Оставшись наедине с этими загадками, я решил их на свой манер. Я представил себе Бога как царя царей, сидящего на золотом троне среди облаков, окруженного двором из архангелов. Думая, что птицы могут быть поставщиками этого небесного двора, я брал часть своей еды и ставил в тарелке на окно. И радовался, находя тарелку пустой, убежденный, что царь царей принял мое подношение.
Что же касается загадки происхождения человека, я решил ее так же просто. Например, я был уверен, что яйцо, которое снесла курица, не что иное, как отделенный от петуха кусок его тела, который развивается заново, и то же самое происходит у людей. К этому странному выводу меня привела разница между полами, которую я увидел, рассматривая статуи, а также изучая собственную анатомию.
Я довольствовался этим вплоть до дня, когда реальность грубо открылась мне вследствие одной встречи в Контрексевиле, где моя мать проходила лечение. Мне тогда было лет двенадцать. В тот вечер я вышел один прогуляться в парке. Проходя мимо родника, я увидел в окно павильона очень миловидную особу, которую крепко сжимал в объятиях загорелый молодой человек. При виде очевидного удовольствия, получаемого обнявшейся парой, меня охватило новое чувство. Я бесшумно подошел, чтобы понаблюдать за этой красивой парой, даже не подозревавшей о моем присутствии.
Вернувшись, я рассказал об увиденном матери. Она смутилась и поспешила перевести разговор на другую тему.
В ту ночь я не мог заснуть. Меня преследовало воспоминание об этой сцене. На следующий день, в тот же час, я вновь пришел к павильону, но он был пуст. Я собирался возвращаться, но заметил в аллее того самого смуглого молодого человека, который шел ко мне. Я приблизился к нему и спросил, сразу, в лоб, идет ли он сегодня на свидание со своей девушкой. Сначала он удивленно посмотрел на меня, потом расхохотался и пожелал узнать причину моего вопроса. Когда я открыл, что стал свидетелем вчерашней сцены, он сказал, что сегодня вечером ждет девушку в своей гостинице, и предложил мне присоединиться к ним. Предоставляю вам вообразить, в какое смущение ввергло меня его предложение.
Все сложилось так, чтобы облегчить мне задачу. Мать устала и легла спать рано, а отец сел играть с друзьями в карты. Гостиница, указанная мне молодым человеком, находилась недалеко от нашей. Он ждал меня, сидя на ступеньках, похвалил за пунктуальность и провел в свой номер. Только успел мне поведать, что он аргентинец, как пришла его подружка.
Не могу сказать, сколько времени я провел с ними. Вернувшись к себе, я, не раздеваясь, упал на кровать и крепко заснул. Этот роковой вечер грубо открыл мне все то, что до тех пор казалось таинственным. В несколько часов наивный и прежде невинный мальчик приобщился к тайнам плоти.
Что же касается аргентинца, которому я обязан этим приобщением, он исчез на следующий день, и больше я никогда его не видел.
Моим первым побуждением было пойти и во всем признаться матери, но меня удержали стыд и предчувствие. Отношения между людьми показались мне такими удивительными, что я сначала решил, будто они устанавливаются без различия пола. После откровений аргентинца я представлял себе знакомых мужчин и женщин в самых нелепых позах. Неужели все они ведут себя так странно? Растерявшийся от тысячи причудливых образов, плясавших в моем детском мозгу, я почувствовал головокружение. Когда через некоторое время я заговорил об этом с братом, меня удивило его равнодушие к занимавшим меня вопросам. Я замкнулся в себе и больше ни с кем не затрагивал эту тему.
В 1900 году я поехал с родителями в Париж на Всемирную выставку. Я сохранил о ней весьма расплывчатые воспоминания: меня таскали туда утром и вечером, по палящей жаре, осматривать павильоны, не представлявшие для меня никакого интереса. Я возвращался измученный и, случалось, ненавидел выставку. В один из дней, когда был особенно раздражен, я вдруг заметил пожарный шланг. Тотчас схватил его и направил на толпу, обильно поливая всех, кто пытался ко мне приблизиться. Поднялся крик, толчея, общая паника. Прибежали ажаны. Шланг у меня отобрали и отвели вместе со всей семьей в комиссариат полиции. После длительных переговоров пришли к выводу, что жара затуманила мой мозг, и нас выпустили, взяв крупный штраф. В наказание родители перестали возить меня на выставку, даже не догадываясь, что исполняют этим мое самое заветное желание. С этого момента я совершенно свободно разгуливал по Парижу; заходил в бары и завязывал знакомства с кем попало. Но в тот день, когда я привел в отель нескольких моих новых приятелей, мои родители, придя в ужас, запретили мне впредь гулять одному.
Большое впечатление произвел на меня визит в Версаль и Трианон. Я плохо знал историю Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Когда же их трагический финал стал известен мне во всех деталях, я устроил настоящий культ этих царственных мучеников: повесил у себя в спальне изображающие их гравюры, под которые всегда клал свежие цветы.
Когда мои родители путешествовали за границей, их всегда сопровождал кто-то из друзей. В тот раз это был генерал Бернов, которого все, не знаю почему, звали «Тетя Вотя». Толстый, очень некрасивый, с длинными усами, которыми он очень гордился и которые мог бы завязать у себя на затылке, он внешне напоминал тюленя. На самом деле он был воплощением доброты. Он подчинялся всем капризам моего отца, который не мог без него обходиться. У него была мания по всякому поводу – точнее, без всякого повода – употреблять выражение «а ну, стой!», притом никто не знал, что именно он хочет этим сказать. В один прекрасный день эта привычка сыграла с ним очень дурную шутку. Он командовал на параде гвардейским полком, который должен был с шашками наголо галопом продефилировать перед царской трибуной. В тот момент, когда надо было отдать команду, он крикнул: «А ну, стой!» – и рванул вперед, не замечая, что его конники, сбитые с толку странным приказом, остались на месте.
Русские офицеры, даже не на службе, всегда ходили в форме. В штатских костюмах они выглядели странно, даже подозрительно. Так, мой отец и его друг насторожили ювелира Бушрона, принеся ему драгоценности моей матери для ремонта. Видя столь дорогие украшения в руках столь сомнительного вида субъектов, ювелир посчитал своим долгом сообщить в полицию. Лишь после того, как отец показал ему свои документы, он признал ошибку и рассыпался в извинениях.
Однажды, когда я с матерью был на улице де ла Пэ, к нам подошел продавец собак. Маленький рыжий комочек с черной мордочкой, отзывавшийся на имя Наполеон, так мне понравился, что я стал умолять мать купить мне его. К огромной моей радости, она согласилась. Сочтя непочтительным оставлять псу имя столь знаменитого человека, я переименовал его в Гюгюса[31].
В течение восемнадцати лет Гюгюс являлся моим неразлучным и преданным другом. Все, от членов императорской фамилии до беднейших наших крестьян, знали и любили его. Это был настоящий парижский пацан. Он благодушно позволял наряжать себя и выставлять в важных позах перед фотографом. Обожал конфеты и шампанское. Немного опьянев, он становился бесподобным. Когда у него были газы, он подходил к камину и совал зад внутрь очага со смущенным, словно извиняющимся видом.
У Гюгюса были свои устойчивые симпатии и антипатии, и никто не мог помешать ему выразить презрение, задрав лапу на брюки или платье его врага. Он настолько невзлюбил одну из подруг моей матери, что нам приходилось запирать его, когда она приезжала в гости. Однажды она явилась в восхитительном бархатном платье от Ворта. К сожалению, Гюгюса забыли запереть. Только она вошла, он бросился к ней и обильно оросил подол ее платья. С дамой случился нервный припадок.
Гюгюс мог бы выступать в цирке. Одетый жокеем, он залезал на пони или, с трубкой в зубах, изображал курильщика. У него были охотничьи инстинкты, и он приносил дичь, словно настоящая охотничья собака.
Как-то к матери заехал обер-прокурор Святейшего синода, и, поскольку его визит, на мой взгляд, чересчур затянулся, я придумал поручить Гюгюсу выпроводить его. Накрасив, словно старую кокотку, а я не пожалел ни пудры, ни румян, надев парик и облачив в платье, в таком виде выпустил его в гостиную. Прекрасно понимая, чего я от него жду, он эффектно вошел на задних лапах, к ужасу нашего гостя, который не замедлил откланяться. Чего я и добивался.
Я никогда не расставался с моим псом; он сопровождал меня повсюду; по ночам он спал рядом со мной на специальной подушке. Когда художник Серов писал мой портрет, он захотел, чтобы на нем был изображен и Гюгюс. По его словам, это была его лучшая модель.
Когда Гюгюс умер в возрасте восемнадцати лет, я похоронил его в саду нашего дома на Мойке.
Ежегодно летом в Архангельское на несколько дней приезжали великий князь Михаил Николаевич и его младший сын Алексей. Великий князь Михаил был последним сыном императора Николая I. Он принимал участие в Крымской, Кавказской и Турецкой войнах. Назначенный наместником на Кавказе, он занимал этот пост в течение двадцати двух лет, любимый и почитаемый всеми. После возвращения оттуда он получил должность генерал-фельдцейхмейстера[32]и был председателем Государственного совета.
Когда я был маленьким, великий князь Алексей, бывший на десять лет меня старше, всегда привозил мне игрушки. Особенно мне запомнился надувной Арлекин, который, наполненный воздухом, был в два раза выше меня ростом, что меня очень радовало. Но радость моя была недолгой, потому что мой бельчонок Типти очень скоро разорвал его.
Великий князь Михаил любил наблюдать, как мы, мой брат и я, играем в теннис. Расположившись в большом кресле, он часами следил за нашими партиями. Поскольку играл я очень плохо, отправлял мячи в разные стороны, и однажды попал великому князю в глаз. Удар был такой силы, что пришлось вызывать из Москвы одного из крупнейших специалистов по глазным болезням, чтобы он не потерял глаз.
Еще одну неловкость того же рода я совершил в Павловске, летней резиденции великого князя Константина Константиновича. Там присутствовали греческая королева Ольга (его сестра) и их мать, великая княгиня Александра Иосифовна, респектабельная пожилая дама, которую катали по парку в кресле на колесиках. Все относились к ней с глубочайшим почтением. Когда она появлялась в окружении семьи, казалось, что процессия имеет прямо божественное величие.
И вот однажды кортеж выехал из дворца в тот момент, когда дети великого князя, принц Кристоф, младший сын королевы Ольги, и я играли на лужайке в мяч. Со своей обычной неуклюжестью я мощным ударом ноги отправил мяч в сторону появившихся, и достопочтенная дама получила его прямо в лицо.
В Санкт-Петербурге великий князь Константин жил в Мраморном дворце, очень красивом здании из серого мрамора, построенном Екатериной II для своего фаворита, князя Орлова. Я часто бывал там и играл с детьми великого князя. Однажды им в голову пришла идея сыграть в похороны французского президента Феликса Фора, моего тезки[33]. В течение всей церемонии я добросовестно изображал покойника, но, когда меня извлекли из гробницы, я был в таком бешенстве, что задал моим могильщикам такую трепку, что всем им наставил синяки под глазами. С тех пор меня больше не приглашали ни в Мраморный дворец, ни в Павловск.
До пятнадцати лет у меня случались приступы лунатизма. Так, однажды ночью в Архангельском я оказался верхом на балюстраде, окружавшей крышу террасы. Меня разбудил крик птицы или какой-то другой шум, и я жутко испугался, увидев под собой пустоту. Прибежавший на крики слуга спас меня из этой опасной ситуации. Я был ему так благодарен, что попросил родителей, чтобы он служил мне. С того дня Иван со мной больше не расставался, и я считал его не столько слугой, сколько другом. Он был при мне до 1917 года. Революция застала его в отпуске, и ему не удалось ко мне присоединиться. Мне так и неизвестно, что с ним стало.
В 1902 году родители решили отправить меня в путешествие по Италии со стареньким профессором искусствоведения. Нелепый вид профессора Адриана Прахова не мог остаться незамеченным. Коренастый коротышка с львиной гривой волос на голове и покрашенной в рыжий цвет бородой, он был похож на клоуна. Мы решили называть друг друга «дон Адриано» и «дон Феличе». Путешествие началось с Венеции и закончилось на Сицилии. Оно вышло очень поучительным, но, вероятно, не в том смысле, какого ожидали мои родители.
Страдая от жары, я не был расположен наслаждаться художественными красотами Италии. Дон Адриано же, напротив, бодро бегал по церквям и музеям, не проявляя ни малейшего признака усталости. Он часами простаивал перед каждой картиной и каждому встречному читал лекции на французском с жутким акцентом. За нами всегда следовали толпы туристов, явно ослепленных познаниями профессора. Что же касается меня, никогда не любившего коллективного обучения, я проклинал этих увешанных фотоаппаратами, обливающихся потом людей, постоянно таскавшихся следом за нами.
Одевался дон Адриано, как ему казалось, сообразно климату: костюм из белого альпака[34], соломенная шляпа и зонтик от солнца с яблочно-зеленого цвета подкладкой. Мы не могли выйти без того, чтобы за нами не увязалась стайка мальчишек. Несмотря на свой юный возраст, я очень ясно понимал, что этот персонаж не самый подходящий спутник для катания по Венеции в гондоле!
В Неаполе мы остановились в отеле «Везувий». Жара стала нестерпимой, и я отказывался выходить на улицу до наступления вечера. Профессор, у которого в городе имелось множество знакомых, проводил дни в их обществе, в то время как я сидел в гостинице. В конце дня, когда температура становилась не такой испепеляющей, я садился на балконе и развлекался, разглядывая прохожих. Бывало, перекидывался с ними несколькими словами, но мои слабые познания в итальянском не позволяли продолжать разговор. Однажды перед гостиницей остановился фиакр, из которого вышли две дамы. Я окликнул кучера, симпатичного молодого человека, сносно понимавшего французский, и поведал ему, что смертельно скучаю и хотел бы осмотреть Неаполь ночью. Он предложил себя в качестве гида на этот же вечер и сказал, что заедет за мной в 11 часов. В это время профессор уже крепко спал. Кучер прибыл вовремя. Я на цыпочках вышел из своего номера и, не заботясь о том факте, что в карманах у меня нет ни гроша, сел в коляску – и мы отправились в путь. Проехав по нескольким пустынным улицам, итальянец остановился перед дверью дома в каком-то темном переулке. Войдя в дом, я удивился, увидев целую коллекцию чучел животных, в том числе большого крокодила, подвешенного на веревках под потолком. На секунду у меня мелькнула мысль, что мой гид привез меня в музей естественной истории. Свою ошибку я понял, увидев идущую ко мне вульгарно накрашенную толстуху в фальшивых драгоценностях. Салон, в который она нас привела, был обставлен большими диванами, обитыми красным плюшем; стены увешаны зеркалами. Я был несколько смущен, но мой кучер, чувствовавший себя совершенно непринужденно, заказал шампанское и уселся рядом со мной, в то время как хозяйка заведения расположилась на другом краю дивана. Перед нами, в атмосфере, насыщенной запахами пота и дешевых духов, дефилировали женщины. Они были самых разных цветов кожи, вплоть до негритянок. Некоторые совершенно голые, другие одеты баядерами, матросами и маленькими девочками. Они вышагивали, виляя бедрами и бросая на меня призывные взгляды. Мое смущение росло, даже переходило в испуг. Кучер и матрона много пили, и я тоже принялся пить. Время от времени они меня обнимали со словами: «Che bello bambino!»[35]
Вдруг дверь открылась, и я окаменел, увидев моего профессора! Хозяйка бросилась к нему и стиснула в объятиях, как давнего друга дома. Я попытался спрятаться за спиной кучера, но дон Адриано уже заметил меня. Его лицо осветилось широкой улыбкой, и, подбежав ко мне, он пылко обнял меня, восклицая: «Дон Феличе! Дон Феличе!» Очевидцы этой сцены в изумлении уставились на нас. Первым пришел в себя кучер. Он наполнил бокал шампанским и встал со словами: «Evviva! Evviva!»[36]Мы стали предметом бурной овации.
Не знаю, в котором часу завершился этот вечер, но на следующий день я проснулся с сильной головной болью. С этого дня я больше не оставался в одиночестве в гостинице. Во второй половине дня, когда жара становилась менее сильной, я отправлялся с профессором по музеям, а с наступлением темноты мы начинали ночную жизнь в обществе любезного кучера.
Однажды я прогуливался по набережной, любуясь заливом и Везувием, когда какой-то нищий взял меня за рукав и, показывая пальцем на вулкан, заговорщическим тоном сообщил: «Везувий». Очевидно, сочтя, что это откровение заслуживает вознаграждения, он попросил у меня милостыню. Он все правильно рассчитал, потому что я щедро заплатил ему, не за сведения, а за развлечение, которое мне доставила его наглость.
Из Неаполя мы отправились на Сицилию осмотреть Палермо, Таормину и Катанию. Сильная жара продолжалась.
Этна дымилась, на вершине ее лежала снежная шапка. Желая подышать более свежим воздухом, я предложил совершить восхождение. Дон Адриано не выразил особого энтузиазма, но мне все-таки удалось уговорить его, и мы отправились в путь верхом на ослах и в сопровождении проводников. Подъем оказался долгим; когда мы достигли кратера, профессор буквально умирал от усталости. Мы спешились, чтобы полюбоваться великолепным видом, и тут нам показалось, что земля нагревается все сильнее и сильнее, при этом в некоторых местах из нее вырываются дымки. Охваченные паникой, мы вскочили на ослов и помчались вниз. Проводники, которых наш испуг явно развеселил, окликнули нас и сказали, что это здесь постоянное явление, бояться которого нет никаких причин. Мы провели ночь в укрытии, где не могли заснуть от холода. На следующий день мы вынуждены были признать, что жара равнины все-таки предпочтительнее холода гор, и решили незамедлительно вернуться в Катанию. Наш отъезд был отмечен инцидентом, который мог бы стать трагическим. Идя вдоль кратера, осел профессора поскользнулся, спровоцировав падение наездника, который покатился к пропасти. К счастью, он сумел зацепиться за скалу, что дало проводникам время подбежать и вытащить его, скорее мертвого, чем живого.